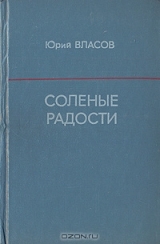
Текст книги "Соленые радости"
Автор книги: Юрий Власов
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Усаживаюсь поглубже и подпираю рукой щеку. И вдруг дурею от сонливости.
Улица отбрасывает на окна вялые тени. В струйках воды на стеклах отсветы реклам. В баре позванивают рюмки. Я изнурен бессонницами, но если подняться в номер, не засну. Там караулят подлые мысли. Там горячка, там фокусы чрезмерной усталости.
И я засыпаю на несколько минут тут же в кресле. И черную пелену сна раздергивают вспышки рекламы. Длинной голубой рекламы над фронтоном гостиницы. Я даже слышу в дремоте, как трещит электричество в стеклянных трубках…
Сплю три-четыре минуты, не больше. Я слышу все и в то же время сплю…
Автобус взметает фонтаны брызг… За стеклами бледные размазанные лица. Пахнет мокрым камнем, бензином и талой землей.
Я поднимаю воротник плаща, застегиваю верхнюю пуговицу. Озираюсь. Мне кажется, что в подъездах и нишах ворот притаились мои несчастья. Они ждут меня везде, где тихо и сумрачно.
Лион, Париж, Тампере, Оулу… А теперь и этот город будет опутан моими шагами. Разглядываю улицы.
В витринах мой двойник. Там, в отражениях, я благочинно скучен. Изнурили эти приливы отчаяния. Опасливо вглядываюсь в хлюпающую мглу, прохожих. Не верю в жизнь! Ей нужны чугунные мускулы и нервы! Чугунные души!..
И чувства, и слух, и зрение – все до чрезвычайности обострила нервная лихорадка. Я поневоле вижу, слышу, понимаю то, что прежде было скрыто от меня. Мир жгуч, ярок и беспощаден. На каждой мысли отпечаток душевной боли, каждая мысль ранит. Не могу уклониться ни от одной мысли.
Понимание причин моего состояния не избавляет от страданий. Это не прихоть воображения. Болезнь материальна. Ее нельзя заговорить. Нервная система истощена экстремальными тренировками. Приступы отчаяния не поддаются волевому контролю. Но это не та усталость, которая стирается тремя-четырьмя неделями отдыха. Я знаю, что должен выйти из игры не менее, чем на полгода. Но это исключено. У спортивной борьбы свои законы, особенно в моем возрасте. Я не могу позволить себе растренировываться на такой срок.
Турне – это ошибка! И какая! Непрерывные выступления и дорожный распорядок резко усугубили состояние. Я заставляю мозг выполнять непосильную работу, и он отплачивает все более частыми и жесткими приступами лихорадки. Это все равно, что сутками колоть дрова с глубоким воспалением легких. Жар новых и новых приступов сжигает меня. Мозг истощен, перегружен. Он не может верно отзываться на внешние раздражители. Однако осознание этого состояния и самые веские доводы не могут изменить его реакции. Боль так же реальна, как боль от перелома или ранения. Нарушено равновесие психических процессов.
У меня нет выхода: все смыслы и доказательства сходятся сейчас на победе, требуют победу, исключают срыв. Я гоню красного коня своей воли по всем испытаниям. Рядом корчится моя боль. Я обгоняю эту боль. Я заставляю своего красного коня быть выносливее болей, обгонять все боли. Я рассчитываю, что он вынесет меня. Я верю, вынесет. Я заставлю его вынести меня…
Поречьев без колебаний согласился на эксперимент. В конце концов, я нащупал объем и интенсивность экстремальных тренировок, взаимосвязь между объемом и интенсивностью.
Затем я испытал себя на серии околопредельных нагрузок. Следовало установить количество нагрузок, которое способен переварить организм. Я должен был исследовать поведение организма в годовом цикле. Самым важным было определение длительности пауз между ударными нагрузками и их сериями. Поречьев назвал околопредельную нагрузку «пиковой», или просто «пиком».
Как часто можно повторять «пики»? Через неделю, две или месяц? Необходимо определить паузу с точностью до суток. Значит, искать, пробовать…
Я научился устранять последствия сверхнагрузок не пассивным отдыхом, а чередованием средних и малых по объему тренировок. Нашел систему чередования этих тренировок. Это стимулировало восстановительные процессы. В итоге я добился сокращения времени отдыха – золотой мечты настоящего атлета.
Центр города я знаю уже наизусть, даже наименования тупиков и закоулков. Ручьи смывают окурки, грязь, расцвечивают асфальт радужными масляными пятнами. Над буровато-зеленым газоном жиденький пар. За грохотом машин улавливаю резвую дробь дождя. Она отзывается воспоминаниями детства. Там, в воспоминаниях, желтые листья осени греет спокойное солнце. Дымы костров несут сладкую горечь листвы. И печально ласковы сумерки…
Разве у меня был другой выход? Как иначе я мог узнать расчеты новых тренировок? Кто бы стал рисковать вместо меня? И согласился бы я, если кто-то рисковал вместо меня?..
Но как теперь примирить разум и силу? Огромную силу и воспаленный мозг? И стоит ли вообще примирять? Хватит ли меня на ту жизнь, которой я живу, и вне которой для меня нет судьбы. Стоит ли жить, если я не смогу быть самим собой?..
Я вдруг замечаю, что стою посреди тротуара, и прохожие аккуратно обходят меня… Вежливость прохожих. Смотрю на людей, будто впервые вижу. Лицо мое мокро от дождя.
Воспоминания. Я заворожен. Вижу прошлое четко, ясно.
Я снова в деревне. В той самой, куда после войны на лето привозил меня отец. И в избе потрескивает печь. И я на железной складной кровати читаю приключения Тома Сойера. На исходе август, темнеет рано, особенно в дождь.
Я слышу смех и вижу, как на пороге появляется Варька. Она из Смехушек – деревеньки в тридцати километрах от нас. На сапогах и юбке ошметья грязи.
Варька моя двоюродная сестра. Ей двадцать лет. Дядю Лешу я не знал, он погиб на фронте. На стене рядом с картинками, вырезанными из «Огонька», его фотография. Тетка жалеет Варьку. Каждый день я слышу разговоры, что деревни пусты, и, видно, не одной Варьке оставаться в девках после войны, и правильней всего ей податься в город на льнокомбинат…
Варька целует меня, щекочет и сует ржаной корж. Она пахнет лесом, дождем, парным молоком, и щеки у нее горячие.
В печку подкладываются дрова. Этот жар открытой печи сушит мне лицо.
Поленья лопаются. Угольки разлетаются – красные, дымные. Гаснут на железном листе. Тетка хлопочет. Гремит таз. Занавешиваются окна…
Погодя достают самые большие чугуны – пар наполняет избу, слезится на окнах. Пахнет мыльной пеной и мочалом.
Они мне мешают читать, шушукаются. Когда уж очень шумно, я недовольно поглядываю на них.
На веревке сохнут Варькины ситцевые одежки, шерстяной платок, ватник, лифчик, трусы в синий горошек. Сапожищи кирзовые, расхлябанные, тут же на печи. Размер мужицкий, хоть и нога у Варьки маленькая.
Буквы расплываются. За паром меркнет свет единственной лампочки. Я откладываю книгу, лежу и жду, когда стирку кончат, дверь отворят и проветрят.
Поднимаюсь, чтобы запить молоком корж. У тетки рукава засучены, лицо красное, по впалым вискам седые завитки. Из ковша Варьке на голову отвар ромашковый сливает. А та фыркает, смеется. В тазу переступает.
И не знаю, что со мной! Глаз оторвать не могу! Режет ее белизна! Вся белая, только ноги до колен черны загаром, шея и руки тоже… А меня не замечают. Для них какая забота: малец я. Я только и читать читаю второй год. Прежде в баню ходил с теткой и ее соседками – скучно было. Судачат, сплетничают, а ребята ждут меня. На запруде вечером такой клев!
Отвар кисловатый, коричневый в ведре. Ладони шлепают мокро. Варькины волосы в один хвост склеились. И такой длинный – ниже пояса!
Сижу – и голова кругом. Сам не свой. Обо всем забыл. Плечи у Варьки будто заглажены, узкие, покатые, с розовыми полосами от лифчика. Бедра с боков разбегаются, но не круто. Бедра толстые, красноватые от мочалки…
Волосы отжимает. Груди за руками вздернулись. Тугие, вздутые, в светлых каплях. Под кожей голубоватый рисунок.
Лицо смуглое, обветренное, в белой улыбке. Глаза смешливые, бесцветные. И мокрая она, вся лоснится. Волосы ворохами распадаются, завешивают лицо. В полутьме стоит, а слепит меня, слепит…
Тренировки следовали одна за другой – я сопоставлял, пробовал, находил. Прекращать тренировки после неизбежных в таких случаях срывов я не мог – эксперимент требовал непрерывности работы. Только непрерывность могла обеспечить необходимыми данными. Следовало сносить любые потрясения. Это был сверхмарафон на изнурение. В течение всего последнего года я должен был держать себя под сверхнагрузками. Я тасовал нагрузки и нащупывал границы дозволенного.
Испытания экстремальными нагрузками манили меня. Я брел по кромке небытия, по черте уничтожения жизни, изменения привычных представлений о ней, по великой черте начала отсчета жизни, изменения знака величин. Черте собственной жизни… Я работал в режиме саморазрушения, чтобы найти самую полнокровную жизнь.
И я ничего не знал. Я даже не знал, что будет со мной завтра. Я лишь яростно разрушал себя в надежде на новую жизнь. Превосходства этой новой жизни. Пленительность этой жизни.
Экстремальные нагрузки обволакивали меня дурманом переутомления. Я терял ощущение реальности. Я все наращивал и наращивал нагрузки. Я терял меру в работе и не замечал. Я жаждал узнать больше и больше. Узнать было можно только через эксперимент. И я торопился узнать…
Беспощадная усталость лишала памяти. Я увлеченно работал. Я верил только в эксперимент, в данные всех испытаний и в свое будущее. Жуткая и глумливая рожа безволия ближе и ближе подступала ко мне. А я ничего не замечал, кроме графиков и выкладок. Кривые можно было описать формулами. Нагрузки становились функциями многих переменных. Тренировка превращалась в строгий математический процесс. Я мог взвинчивать силу и рекорды на какой угодно уровень. Я смотрел на графики и видел, что нынешние результаты чемпионов – это даже не детство, а младенчество спорта. Я видел, какие качества определяют эту новую, настоящую силу. Чемпионы-атлеты казались мне беспомощными.
Я твердо знал, какие мышцы и в какой работе нуждаются. Я знал, какие нагрузки обеспечат тот или иной уровень результатов. Четкий мир расчетов определял победы. Случайности практически исключались. Все ложилось в формулы и частности формул.
Но в одну ночь я потерял власть над собой. Огромная, запредельная усталость разом изменила знаки величин. И теперь топчет, топчет меня!..
Мозг в лихорадке перевозбуждения. Он спутал все команды, лжет всем чувствам, не узнает слова. Мозг не подчиняется. Он выхолощен, истощен, болен. И все равно я заставляю его работать и работать бешено! Борьба требует этого наивысшего накала. От выступления к выступлению я взвинчивал ритм работы…
Усталость и отказ исключены. Я продираюсь сквозь боли и сомнения. Мой красный конь воли не загнан. Я еще могу смирять время, свою силу, случайности и подлости благоразумия. Я измеряю время красным конем воли.
Все отдал, все уступаю, от всего отказываюсь, чтобы все расстояния бросить под ноги своего красного коня воли. Ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь – вижу, перебираю, ласкаю травы моей юности. Самая чистая кровь в моих мускулах. Дни ложатся ковром светлых листьев. Белые облака стерегут мое небо. И в глазах моих бред самых чистых солнц…
Поворачиваю к гостинице. Там покой, там все иначе…
В газетах, развешанных в киоске, узнаю себя. Таким я был два года назад на Олимпийских играх. Шея мускулиста. Зубы белы. На трапециевидных мышцах узенькие лямки трико…
Там на газетных страницах я совсем другой. Жвачка славы у меня во рту. В этих печатных столбцах «железо» нагло присваивает мое имя, мою честь, жизнь. Прикусываю губу до крови. Что знают обо мне столбцы этих строчек? Множеством газетных ликов взираю на себя.
Возвращаюсь долго. Всю дорогу занимает одна мысль: вдруг все, что со мной, необратимо? Это не мысль – это насилие, это приговор!..
«Исследовать бы графически мое состояние, – думаю я. – Куда пошли бы хвосты кривой? Возможно, я уже обречен. И на графике это уже ясно. Я уже загнал себя, истощил мозг до необратимых изменений. И с каждым часом теряю власть над собой. Рассудок погружается в хаос».
Туманное небо. Небо, размазанное туманами. Ночь, которая почему-то именуется днем. Седое, промозглое ненастье…
Пища вызывает отвращение. Заказываю две рюмки коньяка. Никогда этого не позволял себе перед соревнованиями. Выпиваю коньяк и приказываю себе есть. Вес буду держать любыми средствами. Я атлет. И мое назначение борьба. Любая слабость мне отвратительна. Слабость могу простить другим, но не себе.
За соседний стол садится молодая женщина. Украдкой слежу за ней. Женщины для меня то же, что солнце. Яркое и чудесное обещание жизни.
Боль копошится во мне смутно и назойливо. Теплый воздух ресторана напоминает о спортивных залах. Руки непроизвольно ищут насечку грифа…
Женщине лет тридцать. У нее хрупкая длинная шея, энергичные руки и светлые прозрачные глаза. Тугой свитер мнет низкую полноватую грудь. На запястье у женщины нитка искусственного жемчуга. Запястье узкое, белое. Она наклоняет голову, когда разговаривает с кельнером. Голос у нее хрипловатый, но приятный.
Небо тонет в дождевом исходе. Лаково поблескивают стволы деревьев, плащи прохожих, крыши домов…
«Завтра выступать», – эта мысль снова приколачивает меня к доске самоистязаний.
В рекорде моя пытка и мое спасение. Неудача – последнее и самое веское доказательство неотвратимости потери власти над собой. Я уже никому и ничему не поверю. Разве рецептами лечат волю?..
Мозг четко запоминает эту посылку. Он мусолит ее, подсовывает, подкрепляя новыми доводами.
Завтра я сам докопаюсь до истины. Кесарево сечение собственного мозга. Диагноз поставлю сам. Нечего тянуть время и избегать развязки. Следует все поставить на свои места. Еще одно небольшое познание…
Я похудел на десять килограммов – это очень много. Я утомлен, измотан, не сплю. Никто не выступал в таком состоянии. Все, что со мной, исключает возможность установления рекорда. Впрочем, все это ерунда! Мне надо забыть обо всем! Завтра доказательство силой. Завтра я должен накрыть рекорд.
Соревнование. Всех развлекаю. Только вот самому не интересно…
Я должен беречь мышцы. Беречь последнюю силу мышц. Через каждые полчаса ходьбы ищу скамейку и заставляю себя отдыхать.
Сворачиваю в сквер. Сажусь. Встряхиваю бедра. Потом отыскиваю уплотнения и разминаю пальцами. Узлы неизменно в одном и том же месте. Всегда перегружена четырехглавая мышца бедра, особенно в креплениях.
Сюртук и голова каменного человека на пьедестале лоснятся влагой. Кажется, он совершает омовение – вода плывет по пьедесталу, скапывает со складок одежды. В каменной крови этого господина нет тревоги. Слепые глаза смотрят твердо и надменно.
«Хорошо, – размышляю я, – завтра выиграю, но ведь дома опять тренировки. И легкими не ограничишься. Наоборот, легких будет мало. И каждый год десятки соревнований и прикидок. И все в предельной мобилизации. Значит, снова под риск нервных срывов…»
Везде и во всем отчаяние – в моих движениях, в линиях домов, в рычании автомобилей, в лохмах низких туч. Я неотделим от отчаяния. Я и есть отчаяние.
Затравленно озираюсь.
Завидую каменному человеку. Камень или кирпич всегда среди себе подобных. Камень выполняет свое назначение и не чувствует ничего. Не страдает от жары, не страдает от холода. Ничто не терзает его. Или только смерть сделала этого человека в камне спокойным и сытым? Где я читал об этом?..
Как жить дальше? Научиться жить без души и просто жевать тренировки?! И тогда быть в согласии с собой…
Разбрасываю руки по спинке скамейки и стараюсь дышать глубоко и ритмично. Ладони мокнут.
Все в моей жизни противоречиво. Я вдруг начинаю понимать, что без экспериментов вряд ли задержался бы в спорте. Разве жажда известности погнала меня под экстремальные нагрузки?..
«Ты, газетное чучело, – шепчу я. – Возьми себя в руки! Ты устал. Устал – и ничего больше. Это просто новая усталость. Ты не встречался с настоящей усталостью. Ты растерялся. Что мечешься? Взгляни на себя. Ты, ходячая скорбь!..»
Мой лоб в испарине. Зачем и кому нужна моя боль?..
Три ударные, или «пиковые», тренировки в месяц оказались пределом. Больше организм не выдерживал. Я долго и упрямо пробовал. Легковесы, наверное, смогли бы справиться и с пятью «пиками» в месяц. У них восстановительные процессы активнее.
Я входил в зал.
Я вбивал в себя нагрузки. Я забыл иную жизнь, кроме грохота «железа» и команд тренера.
Я испытывал себя на живучесть, но живучесть особенную. Она должна была обернуться необыкновенной силой. Уже первые месяцы доказали мою правоту. В мышцах стала просыпаться эта сила.
Потрясти организм, вызвать небывалые приспособительные процессы, перевести организм на новый энергетический уровень обмена, а в результате перекроить свою природу, обеспечить силу новой общефизической базой! Снова и снова я убеждался в правоте своих расчетов. Опыт складывался мучительно, но плодотворно.
Я думал, опыт на экстремальные нагрузки – это лист с формулами, графики, планы нагрузок и чрезмерная усталость. А меня ждал неведомый мир без конца и начала. И я шагнул в его бесконечность. Я ничего не знал. Я думал, все как прежде – а там были звезды своих миров, там бесконечность, там камень сливался с живой плотью, небытие с бытием.
Там всегда было одно нескончаемое Бытие с его удивительными превращениями, непрерывностью бесконечных превращений. И в себе я носил части этого мира. Он пробуждался во мне своими законами. Скрытыми прежде законами…
Я действительно свихнулся, когда вознамерился руками ощупать границы, где камень перестает быть камнем, где мертвое становится плотью и жизнью. И где вообще нет мертвого. И только мозгом, страхом мозга мы разделяем мир на живое и мертвое. А он единое целое. Он неделим. Со школьной скамьи мы приучаемся мыслить жизнь не в единстве, а в ее раздробленности. Мы ограничиваем себя, делаемся рабами каждого случая и обстоятельства. Но все вне нашего сознания нераздельно. И все вокруг – истинный поток вечно превращающейся материи.
Едва приметная зеленоватая опушь аллей. Похрустывает гравий. На газонах топорщится молодая травка. Я должен вернуться и отдохнуть. В тепле и покое мышцы быстрее отходят. Поворачиваю назад.
Кипы тетрадей с расчетами. А что толку? Не поверят ни одной цифре, если уйду без доказательств. После турне должен привести себя в порядок и установить рекорды. Рекорды совершенно нового качества. Верят лишь доказательствам. Соглашаются с тем, что утверждает победа. Прав, кто умеет доказывать. Мудр тот, кто сильный…
Я знаю, что со мной. Знаю до каждой цифры все выкладки своей болезни. Слышу и чувствую эти цифры тяжестью чувств. Но знание не освобождает от болезни. Болезнь подчиняется своим законам. У воспаленного мозга своя логика.
Я и предполагать не мог, что грубая мускульная работа столь тесно связана с мозгом. Откуда мне было знать, что она становится ядом, когда выполняется длительное время с наивысшей интенсивностью, на предельных объемах и весах. Я ничего не знал. Когда узнал, оказалось поздно. Отступать уже было поздно. Нельзя отступать. Я уже успел вбить в себя все эти сверхнагрузки…
Случайные причины, незначительное утомление или сильное чувство вызывают приступ нервной лихорадки. Я знаю, что это за болезнь и отчего, но воспрепятствовать экстремальной болтанке бессилен. Причина ее совершенно материальна – это истощенная экстремальной работой нервная система. Сейчас она не справляется с жизненной нагрузкой и дает сбои. Если идти со сломанной ногой, опираясь на палку, боль все равно будет, и будет мучительная. Но у моей воли даже нет палки, чтобы опереться. Я вынужден отказывать мозгу в отдыхе. Я не могу действовать иначе. Вся моя защита – это выносить боль, ждать, не уступать отчаянию. И эта болезнь вроде загрязненной раны. Она грозит отравить весь организм. Гангрена воспаленного мозга стремится овладеть моим сознанием, моей волей, моим телом. В каждом приступе эта черная боль. Я все понимаю, вижу, но подавить болезнь сразу выше моих возможностей. Нервный потенциал растрачен, сведен к запредельному минимуму и не справляется с управлением. Экстремальные приступы – это реакция перераздраженной нервной системы. Боль перемалывает мою силу. Боль посягает на мои цели. Боль навязывает свои законы.
Мне больно, очень больно и будет больно, но это не изменит меня.
Нелеп и глуп мой шаг вечного искателя. Лечь, забыться, дремать. Пить ласку солнца. Узнавать все дни. Быть узнанным всеми днями… Что со мной, почему? Топчу жизнь ради каких-то целей. Не замечаю подлоги и влюблен в призрачное счастье борьбы. Я выдумал своего красного коня воли.
Усталость улиц – трещины-змеи, раскроившие тротуар. Это морщины города, заботы и беды сотен дней.
«Пирсон, Альварадо, Ложье по своим данным гораздо слабее, – размышляю я. – Однако они уже рядом. Знаю, пользуются моими находками, но теперь посмотрим. Мои новые тренировочные веса задержат любого, если не знать, в чем дело. Отныне все победы в моей власти…»
Я в густом шуме хлынувшего дождя. Пеной вспухают ручьи. Мои шаги упруги и радостны. Если я и разрушал себя, то недаром. Разве я буду драться с Альварадо, Пирсоном, Ложье? Нет, это доказательства для всех. В эксперименте я получил ценные выводы. Они нужны людям. Нужно донести эти выводы. И меня еще хватит на доказательства! Практика есть высшее доказательство! Я всем должен доказать правоту выводов. И это доказательство во мне…
Встаю с постели. Зажигаю свет. Тени уныло стерегут меня в углах. Тугой переключатель грохочет выстрелом. Кружится голова. Я прислоняюсь к стене. Я слишком много потерял в весе и устал, очень устал. Потом бреду в ванную. Опять приступ этой болтанки.
«Что такое рекорд сейчас? -думаю я. – На что я рассчитываю? Зачем обманываю себя?..»
Не заявился бы тренер! Никто ни о чем не должен догадываться.
Упираюсь руками о раковину. Долго держу голову под горячей водой.
Разглядываю себя в зеркало, бормочу с издевкой: «Жизнь есть преодоление среды». Мои губы запеклись коркой. Щеки запали. Вода по шее затекает под рубашку. Черноватые тени залегли на моем лице.
Отворяю дверь. Поречьев без пиджака растянулся на диване. Воротник рубахи расстегнут, галстук приспущен. На стуле ручка, тетради. Тетради наших тренировок.
Он спит, крепко спит. Закрываю дверь.
Линолеумным блеском сияет коридор. Мертвый сезон – туристов почти нет. В одном из номеров звонит телефон. Звонит пронзительно, настойчиво.
Возвращаюсь в свой номер. Каждый предмет здесь напоминает о лихорадке. Исследование о Пушкине – редкая книга 1923 года. Пытался ею занять себя… Интересно, что уцелело с того времени от тиража в четыре тысячи экземпляров?
Вещи вывалены из чемодана на кровать. Утром меня вдруг неприятно поразила расцветка модного парижского галстука. Я искал его, а потом забыл, не нашел. Снова охватывает то же чувство. Нащупываю галстук под афишами на дне чемодана.
В коридоре по-прежнему пусто и тихо. Я сворачиваю галстук и бросаю в корзину. Подхожу к окну. Стою и не шевелюсь. Яркие мелодичные запахи лугов дурманят меня. Все вижу четко, близко и очень подробно…
Никто и ничто не отнимет у меня этих полей, рощ, проселка с серыми щелястыми столбами, где на проводах щеглы, коноплянки, жуланы, овсянки, зеленушки, где в хлебах парным и разнеженным полднем бьют перепела и коростели…
Бессвязно бормочу: «Я проиграл в спорте, но ведь я могу жить! Это чудесно – жить!..»
Нет, это не галлюцинации. Прошлая жизнь дразнит своей несбыточностью. Я надеюсь вернуть чувства и краски юности, надеюсь еще раз прочитать те дни. Кто, кроме меня, может быть хозяином тех дней и моей жизни?
В холле усаживаюсь возле окна. Я облюбовал это кресло, даже привык. Отрадно узнавать в вещах своих знакомых.
Капризное расквашенное небо. Крыши, навощенные дождями и туманами. Зыбкие контуры домов.
Незаметно потягиваюсь. Я накрепко стянут жгутами-мышцами. В турне ради одного спортсмена массажист обычно не выезжает: лишние расходы.
Листаю журнал. С первых же страниц испытываю беспокойство. Повсюду в словах свой потайной смысл.
Опекает стресс. Заботится.
Нет, я не в мире видений! Но отдаю себе отчет в том, что с каждым часом мне хуже и хуже.
Цепенею в кресле. Руки мои суетливы. Я затравил себя «железом», теперь добиваю сомнениями. Сомнениями, которые выше самых праведных доводов. Милости стресса…
Дождь стушевывает очертания домов. Город отступает, растворяясь. И этот холл, овеянный запахом табака, уже и есть весь этот город. Зализанный дождями город…
«Рекорд рассудит, – уговариваю я себя. – Диагноз безошибочный: возьму рекорд – значит, здоров».
Но как провести доказательство силой? В чем надежда, если я переутомлен?
Торопливо крутится вертушка-дверь. Какой-то толстый и бойкий господин бегает за своими чемоданами. Шофер такси укладывает их в автомобиль.
– Поздравляю, – говорит портье на ломаном русском. – О вас тут много. – Он встряхивает газетой.
Смотрю с удивлением. Разве это имеет какое-то значение?..
– Скучаешь? – слышу я голос Цорна. Он опускается в соседнее кресло. Вытягивает ногу-протез.
Я молчу.
– Выглядишь не блестяще. – Цорн набивает трубку. – О, да это знаменитый тенор! – Он кивает в сторону бойкого господина. – У нас шутят, что это слон, проглотивший соловья.
Макс Цорн сопровождает нас в турне по Финляндии. Его отец – немец, мать – русская. Он хозяин маленького фотоателье в Хельсинки. Я зову его Максимом.
Цорн сует портье мелочь и отсылает за газетами. Снова листаю журнал. Броские заголовки. Пестрота красок. Улыбки…
Цорн косится на компанию хиппи:
– Не стоит делать из одежды вывеску убеждений.
Портье подает газету. Цорн разворачивает ее:
– Тут кое-что о турне. Перевести?
– Не надо.
Цорн зажимает трубку зубами, быстро проглядывает номер, бормочет: «Что такое мужество? Риск, незаурядная сила, жестокость, мудрость? Разве умирают только когда перестают дышать?..»
«Завтра соревнования или обряд расставания с надеждой выздороветь?» – думаю я. Меня покрывает холодный липкий пот.
Цорн сует газеты в портфель. Портфель набит книгами.
– А эта? – тыкаю я наугад в книжный корешок.
– Артур Мальцан: «Стансы».
«Большой спорт – суровая физическая и моральная тренировка, – успокаиваю я себя. – Это известно каждому, кто участвует в игре. Не знать пощады к себе – вот и вся мудрость. Мне ли ныть…»
Цорн разглядывает фотографию Пирсона: «Беременный мужчина. Ему необходимо лечиться от ожирения».
У Пирсона дряблое лицо с двойным подбородком и надутый живот – гордость его силы, единственная надежда его силы, почти национальное достояние. Этими атлетами сила поставлена в прямую зависимость от собственного веса. Но публика награждает славой любого, лишь бы наклевывался успех. Это противоречит смыслу моих поисков в спорте.
Воздух в трубке Цорна сипит.
– Пирсон ремесленник, – говорю я. – Он далек от настоящих тренировок.
– Ремесленник опаснее. Ремесленник, как военный писарь, копирует примерно и с усердием.
– У нас находки не патентуют. В ближайшие годы методика изменится. Чтение ее будет весьма сложно. Индивидуальность играет существенную роль. У каждого свои восстановительные способности. Даже такой пустяк: тяжеловесу во всех случаях нужен более длительный отдых, частое повторение больших весов ему просто противопоказано. Если слепо копировать, можно сломать шею. И уже ломали…
Главная задача эксперимента распалась на множество побочных. Возникновение новых и новых задач выросло в лавину неизвестного.
Опыт на экстремальные нагрузки рисовал свои формулы. Я зачарованно читал их, читал… Великое скрещение бытия и небытия. Вечность материи. Знаки величин, законы мира, у которого нет конца и начала. И все это зашифровано в нашей крови, глазах, желаниях. Я ощущал себя в единстве с этим миром. Искупительность саморазрушения ради познания – я уже соглашался с дурманом усталости…
Я погружался в запредельное утомление. С начала эксперимента я не пропустил ни одной тренировки, ни на грамм не снизил намеченных нагрузок. Я не сомневался в удаче. Я не допускал мысли, что может быть иначе. Просто здесь на черте жизни и смерти я должен был узнать очень важные вещи…
Я пропускал через себя сотни тонн самых интенсивных нагрузок. Я не знал пощады. Я прилежно заполнял расчетную таблицу.
Через полгода кишечник начал плохо усваивать пищу, скручиваясь в узлы. Это отчетливо засвидетельствовала рентгенограмма. Пища вызывала мучительную боль. Я вынужден был сесть на строжайшую диету. Потом закапризничали печень и почки, стала прыгать температура и пропал сон. Нервный спазм выводил из равновесия одну систему за другой…
Всего лишь несколько месяцев отделяли меня от окончания первой стадии опыта. Я упрямо продолжал делать свое.
После первой стадии опытов я рассчитывал привести себя в порядок и проверить эффективность работы на рекордах. Судя по всему, я должен был основательно их перекрыть… Стоило потерпеть каких-то два-три месяца. Досаждали травмы, но я свыкся с ними и переключался на работу с другими группами мышц. Выручали станки, которые конструировал Поречьев…
Тротуар несет меня. Кровь и отрава смешиваются в моем мозгу. Безрадостные километры мыслей.
«Ну ты, загадка силы, – шепчу я себе, – не дури, довольно! Или же готов встать на колени? Так давай на колени! Вправь лик усталости в золото образов. Моли о милости. Лижи лекарства. Что же ты? Ползи!..»
Ворон отчаяния чудится мне в каменном просторе. Крылатый церемониймейстер моего отчаяния.
Шепчу: «Отказаться? Уйти, чтобы только крепко спать, безмятежно спать? Что такое покой?..»
Ветер треплет полы плащей и пальто. Вода. Туман. Солнце заблудилось в туманах. Шаг мой размашист, обгоняю всех.
Кому-то надо было измерить еще одну усталость. Большую усталость. Ведь, в конце концов, усталостями измеряют жизнь. Я вот свою измерил. Измерил ли?..
Необходимость отдыха заставляет возвращаться в номер и ложиться в постель.
Снова копаюсь в журналах. Вот на фотографии мой триумф в Ленинграде. Там я набрал лучшую сумму троеборья. Счастье былых побед не согревает. Кто он – автор репортажа? Сколько слов! Запрягает в свое счастье. Какое им дело до меня! Им важны свои мысли и чувства.
Боль жиреет моими сомнениями. Ведь я сам себя погнал по всем испытаниям. Никто другой – только я. И это чувство обреченности из-за «экстрима». Он внушает мне, будто я надорвался.
Встаю. Разглядываю себя в зеркало. У меня крупные, чуткие мышцы. Сколько же послушных мышц! Мощные перекаты мышц.
«Не турне, а исповедование души, – усмехаюсь я. – Точнее – ее превращения». Глупо звучит мой смешок в этой комнате. Зачем я здесь? Зачем?..
Чтобы не пустить новую боль, я четко и раздельно повторяю: «Если даже я и способен потерять контроль над собой, то и тогда не скажу: проиграл! Никогда не соглашусь на чью-то власть над собой». Новая боль душит. Зачем выдумываю новое испытание? Рекорд? Зачем? Беги, брось все!..








