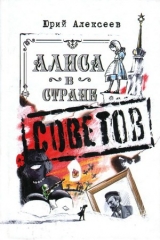
Текст книги "Алиса в Стране Советов"
Автор книги: Юрий Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Глава IV
– Видите ли, Кузин, в международный институт я влетел по глупости, – начал Иван, приготовив себе виски с содовой. – Ногами вперёд, как мастер футбола. Обучение же там, как и везде, начинается с осенней картошки, на которую, кстати, я сроду не выезжал, да и в школу ходил по желанию – то игры, то сборы, то просто лень: у мастеров это запросто. И достался нам, Кузин, колхоз «Верный путь», и путь этот в том заключался, чтобы клепать таблички «Лифт не работает», а картофельные угодья свои – пуд с гектара, копейка в день – подсунуть международным копателям. Сами знаете, какие пейзажи осенью в бездорожной Руси. Грязища. Картофельные траншеи. Дождь лупит прямой наводкой по спинам. А тут ещё перестарок Петенька, мы думали фронтовик, запоздалый дембель, тебя ещё подгоняет: «Родине нужен крахмал и сознательность!». Мёрзлость. Тоска. И потянуло меня со скуки затеять игру. Разодрал я в обед тетрадку, раздал всем по клочку и предложил написать, кто бы с кем из институтских девиц – а они у нас на подбор страшноватенькие – смог бы, ты сам понимаешь… Ну, гномик попутал, я тебе о нём потом расскажу.
– И без того интересно, – отмахнулся Кузин. – Ты дальше, дальше.
– А дальше, доложу я вам, этот Петюня Мёрзлый потупил глазки и ничуть игре не препятствовал. Больше того, лоб натужил, карандашом шарк-шарк и прежде всех свой листочек сдал. Первым, что называется, отелился и челюсть вопросительно выставил – дескать, скоро вы там? Оглашать пора!
– А чего ему торопиться было? – озадачился Кузин. – С ним и под ножиком никто близко не ляжет. Что же он, совсем круглый?
– Отнюдь! Он не такой круглый, как кажется, – разуверил Иван. – «В человеке всё должно быть прекрасно, – вот что написал этот канавапитек. – И лицо, и одежда, и поступки. Все эти качества безусловнопринадлежат Нинель Кубасовой»… Вот куда метило это исчадие Дарвина, Кузин! В дочь замминистра – управленца нашими кадрами… И, разумеется, хай поднялся. Одежда – да, но мордашкой Нинель была кукса-кукла – то ли заплачет, то ли царапнет, что ж до поступков, так их просто не было. Её привозили и увозили на бронированной «Чайке», словно диппочту, чтобы, сохрани и помилуй, кто-нибудь не помял, не распечатал. И прибалтиец Маус хитрюге Мёрзлому прямо сказал: «Ду бист швайн!», – свинья, то есть. Этот гигант баскетболист, когда волновался, всегда русский забывал. А неомарксист Букин (он потом в летнюю сессию на велосипеде в институт приезжал с притороченным вместо седла томиком Мао) так тот опередил даже лозунг культурной революции: «Набить морду! Морду набить!».
– Святое дело, – сказал Кузин.
– Оно, конечно, – согласился Иван. – Но я как предчувствовал, и сказал: «Не стоит, этим её только улучшишь. Не надо благотворительности, пусть ходит так!». Посмехом драку отвёл и повернул внимание на Котю Долина – тот единственный опросный листок не сдал, всё как-то вздыхал, жался, как юниор на трамплине: то ли прыгнуть, то ли лыжи назад повернуть, хотя новичком в деле не был. Отнюдь! Его, красавца конфетного, уже в седьмом классе полоумная директриса испортила, так что школу он закончил с медалью, а директриса – с ребёночком, как впрочем и Ксана Петровна – она потом приезжала – зав. роно, чем-то похожая на Пауля Петтерсона в пору высших рекордов. Короче, шалун-вездеход, как потом выяснилось. А тогда он себя лишь отчасти раскрыл – отважился и сдал листочек, где, в отличие от других, написал с кем бы не смог… Представляешь? И в списке этом значилась лишь гардеробщица Груня, которую с фонарями уже с того света выглядывали.
– Орёл! – сказал Кузин. – У нас был такой. Умер геройски в общежитии ткацкой фабрики.
– Да, но Котику не поверили, заподозрили в хвастовстве. Разбушевались, да так, что из окна сторожки высунулась кладовщица. Крепенькая такая, как куль с редькой, скуластая и с бельмом на глазу. «Что, мол, за шум, а драки нету!?». И тут Петенька Мёрзлый, отстраняя скуластенькую, как чернь, от понимания, Котику по-французски сказал: – Эскоматаж! – шулерство то есть. А Букин добавил: – Ментьер! – то есть лжец. Котик же усмехнулся, эдакими переливчатыми глазами обвёл копателей, шагнул к сторожке, обстукал нога об ногу глину с сапог, и был таков – привет вам! Ну, ждём минут пять. Окно занавесилось. Десять, двадцать. Через полчаса появляется. Ухмылочка. Сытые глазки. Вид совершенно победоносный. И Мёрзлый ему: – Ну? Ну?? Да не может быть!.. А тот с ленцой ему из погребов «Войны и мира»: Иль фант сава си пренд-ре! – в смысле «Милок, надо уметь пригреть…». Милок это проглотил, зашипел только:
«Ты плохо кончишь, игра не завершена»… Доиграть он уже мне, как зачинщику, наобещал, подлюга!
Иван промочил горло и продолжал:
– Ну ладно, с картошкой управились. Прихожу в институт из Сандунов ко второй лекции. А там, поверх маршевой лестницы у нас пещерная ниша, и в ней Ленин в два человеческих роста. Спокойненько поднимаюсь, и тут из-за спины Ленина – шнырк, будто чертёнок из табакерки, выскакивает Петюня: – Здравствуйте, Иван Алексеевич! Что-то мы не торопимся к знаниям, пренебрегаем лекцией по марксизму… Я ему с пылу с жару: – Тебе-то что? Марксизм не догма. А он мне: – Вот именно. Он руководство к действию: пожалуйте в деканат, я, будем знакомы, начальник вашего курса. «Хрениссимо», – думаю. – Ловко он нас в поле пропас, доглядел. Интересно, что дальше будет?». А ведёт меня в деканат, достаёт кондуит и отмечает прогул. – Всё? – спрашиваю. – Нет, – говорит, – просто дополнительный штрих. В пятницу будем обсуждать ваше персональное дело, – и ручками всегда волглыми – ты не заметил? – в азарте неестественно потирает, глазами бегает. – Ну-ну, – говорю, – чем же моя персона вам так насолила? И потом, в пятницу у меня игра… Может, вам бутсы отдать, за меня отбегаете? То есть опять гномик во мне гуляет, подначивает: «Отбрей! Где наша не пропадала!».
– У нас точно такой случай был, – полез в разговор Чанов. – Привезли нам, вместо солидола, автол…
– От винта! – отстранил оружейника Кузин и локтём дополнительно дал понять, что он тут липший. И Иван продолжил:
– В пятницу я опять, как назло, в раздевалке замешкался. В лицей мы тучей обычно с чёрного хода врывались, швыряли куда попадя наши пальтушки, а потом уже в перерыве сдавали на вешалку. А тут патруль старшекурсников и приказ: шапки в рукав и сдавать всё как есть Груне. Ну, звонок прогремел, а мы, человек десять, только ещё скачем к Ленину через ступеньку. И снова – здорово… из-за статуи выползает Мёрзлый: – Доброе утро, Иван Алексеевич! На вас ничего не действует, как я погляжу… Вон вы какой… А я при всех ему, не переведя духа: – Позвольте и я на вас погляжу. Вон вы какой «верный ленинец», прямо-таки человек с ружьём…
– Так вон это откуда, – допетрил Кузин. – А Монтевидео причем?
– Не торопитесь. Здесь всё натуго связано единым узлом. Мечтая жарче Колумба, наверно, Новый свет повидать, этот Петюня влез в МГИМО первым набором, когда мы ещё Малинина и Буренина в противогазных сумках носили. Первым учеником он не сделался, зато стал лучшей наседкой-несушкой… А такое усердие, доложу по-свойски, совсем не лишний момент для закордонной работы. Ну, и связи, конечно! Папаня-маманя… А они-то у Мёрзлого его замахам никак не соответствовали. Ну какое давление могут оказать ряжские пимокаты на МИД? Смешно! Но он нашёл себе в МИДе папашу-универсала, ныне расстрелянного к осиротению, ой, многих детишек! Этот фантастический Дезанозов тем собственно и прославился, что ни одной юбки в своём ведомстве не упускал. Восточная кровь его была высшей группы, а министерства тогда работали по-ночам, так что не помню, осталось ли нынче в энциклопедиях, но тогда бытовал прочный термин «Дезанозовские дети». И почтительные чиновники таких детишек по праздникам на руках к мавзолею несли, чтобы Сталина живьём показать. А студент Мёрзлый, не будь дурак, по двое себе на плечи сажал, утирал сопельки и ландрином подкармливал. Талейран, да и только! Но главное, это конечно тук-тук. И вершиной тому, когда испанская группа после случайной – дёрнуло же их для живой практики! – беседы с мексиканскими теннисистами о ледорубе Троцкого резко уменьшилась… Из шести красноречивцев на занятиях объявился один только Мёрзлый, громко недоумевавший: «Куда же все подевались? Куда!?».
– Да, а куда? – проявил лишнее любопытство майор.
– Ну-у-у, Кузин? – пропел с упрёком Иван.
– Ах, да! – освежил голову кулаком майор. – Я извиняюсь.
– Короче, с упорством дятла он до своего достучался, – удостоверил Иван. – Старателя направили добывать «червячков» в Уругвай. А теперь представьте, Кузин, после сегодня это вам куда как легко, Монтевидео!.. Голубые тропики, бриз, стриптиз, китайская кухня, кабаре, казино, водопад электричества, сады Эдема, знойные женщины. А позади, будто в горьком сне, – общага с лампочкой Ильича, онанизм во избежание аморалки и студенческая столовая, где каждый – только зевни! – всегда готов перечницу тебе в суп опрокинуть или табаку накрошить. Есть, есть от чего голову потерять, разомлеть, отрешиться от унижений в первый же вечер на райской земле.
Кузин заметно занервничал, зашевелил суставами, но погасил суету коньяком.
– До казино и женщин было рукой подать, – длил интригу Иван. – И, естественно, нетерпение погнало Петеньку в город без провожатых. Смылся воздухом подышать, прикупить галстук к ужину. О, сколько же нашего брата в походах таких полегло! Но удало, с шармом. А этот плебей не нашёл лучшего, как завернуть в харчевню «Шанхай»: темно, как в бане, тихо и дёшево. Наелся бамбука, что называется, до ушей и дунул в Эдем – на горке американской кататься. А между прочим, к бамбуку, к улиткам, к печёным воробушкам надо привычку иметь, – покривился Иван от собачьего с кошачьим привизгом вальса в исполнении Славушкина. – И на горке посланца родины так прихватило, что хоть из люльки выпрыгивай на ходу. Ну, до земли он кое-как дотерпел. А там уже – напролом в кусты и присел… Отмаялся. Посветлел. Разгибается, а над ним полисмен в бальных перчатках: «Ке таль, сеньор?». Только без мата, конечно, и не снимая перчаток. Но разве с того легче? В тот же вечер ночным самолётом уронивший престиж родины блицкурьер улетел на Большую Землю. Вообразить, что у него на душе делалось, я не берусь. Но так обделаться надо уметь. Пять лет кряду брать грехи на душу и терпеть, чтобы сходить только до ветру в Монтевидео – такого отечественная дипломатия ещё не знала…
– И поделом, – сказал Кузин. – Так засранцу и надо.
– Оно конечно, – согласился Иван. – Однако нашему курсу это крепенько навредило.
– Ну да? – ухмыльчиво усомнился Кузин.
– Да вы не поняли, Кузин! – в свою очередь улыбнулся Иван. – Я к тому, что Мёрзлый за Ленина спрятался.
– Так и что? – пьяно уперся Кузин. – Сколько засранцев за ним прячется, а курс не меняется, курсу ничто не вредит.
– Это с общих позиций, – сказал Иван пониженным голосом. – А я конкретно про первокурсников нашего института. Прокакавшийся в нашей системе лютует вдвойне. И каково было нам, когда нас стали наскоком из-за спины памятника хватать и, на НЕГО же ссылаясь, на расправу тащить – ОН так велел, ОН завещал… Поди выкрутись, когда на послекартофельной персоналке тебе внушают, что-де ещё великий Ленин в своем «Обращении к бедноте» всячески осуждал азартные игры и лотереи.
– И денежно-вещевые? – не поверил Кузин.
– Все! Он считал это надувательством, – удостоверил Иван. – Равно как и был против водочной монополии и даже армии.
– Ну, против армии Ленин никогда не был, – знающе возразил Кузин.
– Когда у него армии не было – был, – упёрся Иван. – У него всё было, если порыться. И Косте-Котику на том же собрании указали, что смычка с деревней не смеет переходить в половой акт: такого рода насилие марксизм-ленинизм отрицает.
– Это что же, выходит, в полевых условиях я не марксист? – озадачился Кузин.
– Вам, Кузин, проще, – сказал Иван. – Классики не успели охватить авиацию. А студент запросто подпадает под категорию «беднота», и заветы для него – обязательны. Все другие науки для нашего гуманитария – чеп-пу-ха, приложение к положению. А вот заветы – святые мощи. С чего? Откуда они? – не спрашивай. Молись, тогда и в буржуазный рай, может быть, попадешь – в Рио, в Монтевидео. А нам с Котярой влепили тогда с подачи комсорга всея института Гусяева по строгачу и…
– Обожди, – перебил Кузин, – Гусяев – длинный такой, перекрученный, на ощенившуюся борзую похож…
– А ты почём знаешь!? – удивился Иван.
– В посольстве знакомили, – пояснил Кузин. – Он вроде там парторг. Кто у нас за секретаря первички, интересовался, и про Мёрзлого, между прочим, отдельно спрашивал.
– Так это же два сапога пара! – в крик огорчился Иван. – Они любого затопчут. Этот Гусяев настроен ко мне похлеще, чем Чанов к роялю – застарелая аллергия.
– Да ты не бойся, – ободрил Кузин. – Мы «чехи» все-таки. Посольство делает вид, что к нам не касается… Американцев дурят.
– Гусяева всё касается. Он памятлив! – мрачно отверг чешский иммунитет Иван. – Он тогда ещё захотел гномика из меня вырезать.
– Опять ты про гномика, – зацепился Кузин. – Ты хоть объясни, что это?
– Видишь ли, это всё ненаучно, – заколебался Иван.
– Тогда тем более, – возлюбопытствовал ещё пуще Кузин.
– Ну хорошо, – сдался Иван. – О непонятном, но притягательном человеке говорят эдак недоумённо: в нём что-то есть. Так вот, что-то и есть «гномик». Он поселяется в человеке где-то под ложечкой, по соседству с душой, чтобы ловче её смущать было.
– Зачем? – сказал Кузин.
– Покрыто мраком, – уклонился Иван. – В потёмках души своя логика-арифметика. И дважды два гномику не дают ответа. Ему – то много, то мало, но никак не четыре. Он не считает мир устроенным окончательно. И растормошить, развинтить, расковырять душу – для него самое милое дело. Он изнутри на проделки подначивает, не даёт засушиться благонамеренным – а что это, никто не знает, – правильным поведением. Не позволяет он, видишь ли, человеку угомониться, застыть в едином строю и затянуться на последнюю дырку – чем пояс туже, тем плечи шире; начальству видней, у кого длинней!
– А как же в армии? – осведомился недоверчиво Кузин.
– Армию гномик, что называется, терпеть ненавидит, – сказал Иван. – Когда без устали: «кругом-бегом!», «стоять и не рассуждать!», «приказ – закон!», он начинает чахнуть, да так под ложечкой и помирает. Хвать-спохвать – а в душе пусто. Ноги ать-два чеканят, а внутри ничего тебя не трясёт. И в пустоту, где жил бывалоче гномик, лезет страх. И гонят его самовнушением: «Да нет, я вполне живой. Просто остепенился. Всё по науке: я подчиняюсь – эрго, я существую. А в получку, может, что и проснётся во мне…».
– Обязательно! – подтвердил Кузин.
– Вот-вот, поэтому ходячих ать-два покойничков и тянет с получки, с расстройства, со скуки ко всяким там заводилам и коноводам, в ком гномик ещё сохранился, – сказал Иван. – А задача Гусяева – отсечь и пресечь! Ему же плевать, что без сомнений, вывертов ни Бруно, ни Пушкин, чей гномик точно с копытцами был, не получаются. У него диалектическая задумка: всех под одно на единый путь направить, прямой и точный, как замечательное тире между днями рождения и смерти на мраморе. Иначе смотри у меня, кончишь плохо!..
– Ерунда, – влез в разговор Чанов. – Мне сто раз так грозили.
– Ваше счастье, – сказал Иван. – А у нас молитвой Гусяева сразу же плохо кончил Букин. Этого прокитайского велосипедиста гномик повёл на стычку с Марксом, и кто победил, можно не спрашивать. Следом загремел Маус. Он несколько попивал в балтийских традициях. И в день Октябрьской демонстрации, чтобы он насухо на Красную площадь пришёл, ему повязали руки портретом на палке. Так вот, в отместку гномик велел Маусу уронить лик Берии перед мавзолеем. «Прямо на головы ликующих трудящихся», как записано потом в протоколе об исключении бедняги из комсомола, ну и, естественно, из института. Тут уже – автомат. Ну, а мой гномик вообще не остывал, но особенно дал себя знать на военных сборах. Загнали нас на берега речки Тмутаракани. Палатки. Косноязычный товарищ старшина: как что не так – ташши сорок ведров! Это с реки на крутой берег. Ну, днём маршируем, ночью комара кормим. Досыта. А сами на великом подсосе. Сам знаешь, что солдату больше всего хочется – есть и спать, спать и есть.
– Не только, – сказал Кузин с нажимом.
– Да нет, нам бром добавляли, – сказал Иван.
– С этого брома Чанов двоим алименты платит, – отверг аптеку Кузин.
– Значит, приварок на стороне находил, – возразил Иван. – Вот и наш Котя, Кот в сапогах, сыскал-таки, где заморить червячка, набрёл на затаённую пасеку. А там дочурка лет тридцати, папаша Горыныч, детёныш лесного происхождения, баня и медовуха – всё как на пасеках и положено. Ну, хорошо, сам он напился, наелся, расплатился в бане… А мы, как черти, в притворе остались, нам доступа к чаше нету. Горыныч прижимист, да и менять автомат на мёд как-то неловко в мирное время. И тут мой гномик меня в пустой живот толкает: «Свадьбу, Иван! Свадьбу а-ля фуршет! Побалуй на старость папашу…». Так мы на совете нашей нижней, ближе к реке, палатки и порешили. Выкрали технический паспорт от пулемёта «Максим», приписали от руки «Горький» и повели Котяру гражданским браком жениться.
– Да что же, Горыныч вовсе грамоте не разумел?! – не поверил Кузин.
– Да откуда ему? Паспортов тогда селяне в глаза не видели, – внёс ясность Иван. – На это мы и рассчитывали, нарочно вольную кержаку из каптёрки несли: поедешь в район за сарпинкой, в дом приезжих допустят как папу паспортной дочери. И, взявши в долю нашего старшину, пировали мы три дня и три ночи. Кстати, старшой потом так разохотился, что всерьёз на дочурке женился и по сей день, наверно, пчёл по лесу гоняет, поминает нас добрым словом. Ну, а тогда, на четвёртый день, пасечник запряг лошадь и поехал закреплять брак печатью в район, где и узнал, кто такой Максим Горький. Вернулся он, сам понимаешь, в дикой ярости и с твёрдым намерением истребовать не Котика, так пулемёт, ну, в погашение убытков. Скандал намечался на всю дивизию, не очень краснознамённую, но всё-таки. Старшине надо было лычки сдавать, да и нам с Котей в институт можно было не возвращаться. Выперли бы за милую душу, несмотря на то, что четыре курса пройдено. Как быть? Что делать? Хоть в речку… И тут мне гномик подсказывает: «Речка – само собой. Но чтоб красиво, с Моцартом…». Сказано – сделано. Сдвинули на берегу два снарядных ящика, стык прикрыли еловыми лапами и в головах поставили фото под-Котика из «Огонька». Обвели фото черным и – к старшине: – Мы свое сделали, давай оркестр; нужен Моцарт! Не знаю такого, – говорит. Ну мы напели ему популярно – да-да-ра-ра, да-да-да… Этого, – говорит, – навалом, это могём. И согнал на берег человек пять кантонистов. Ждём. Репетируем горе. На лицах суровость. И тут на взмыленной лошади подваливает к шлагбауму наш папаша: – И где тут Советская власть? И где Максим Горький?
А я чеканно ему, по-солдатски: – Советской власти в расположении воинской части нет! Посторонние лица не допускаются. И Горького в живых нет. Солдат отравлен медовухой и отправляется – гляньте! – на захоронение в город с одноимённым названием… И дальше уже обещаю: – Если подозреваете, кто причастен к отраве, я проведу вас, папаша, к военному прокурору. Уж он-то дознается… Нет-нет, – говорит, – я просто приехал насчет войны спросить – будет она или нет? – Обязательно! – говорю, а сам нашим знак подаю: что ж вы, давайте! Те поняли и погнали траурную волну – ра-ра-да, да-да-да. Так под Моцарта папаша и сгинул. Только пыль столбом.
– Хороший рецепт, – сказал раздумчиво Кузин. – Запомнить надо.
– Лучше забудьте, – сказал Иван. – Для здоровья полезнее. Не прошло и двух месяцев, как нас вызвали с Котиком в деканат и спрашивают: «Зачем вы ящики у военных украли? Кто выдумал похороны?». «Кто же стукнул?» – соображаю, и говорю: – Да так, знаете, шутка-малютка: наубивали в ночное время два ящика комаров и хотели отправить в помощь народам Поволжья… Короче, у вас искажённая информация. – Гусяев кровью налился и пальцами по столу тарабанит: о кадрах печётся, не хочет выдавать стукача. А Мёрзлый, зараза, тут как тут: – Я на каникулы с лекциями в Тулу собрался. От общества «Знание». Но могу маршрут поменять на Поволжье… То есть дышать нам с Котей оставалось до после Поволжья четыре месяца. А там уже комсомольско-молодёжная казнь и вышибон. Навынос и распилочно, как у нас говорили. Тем паче, что конкуренция к пятому, выпускному курсу среди нас обострилась, и каждый умник горел показать свою высокую трибунальность на грани Вышинского. Вслепую старались парни. Ведь было же наперёд известно: хоть на стену лезь, а третьим секретарём посольства, скажем, в Мексику поедет какой-нибудь партай-бабай из Якутии, прошляпивший заготовку ягеля. Такая партийная ссылка в нашей стране чудес естественна, поскольку в Мексике шляп навалом, а ягель исстари не растёт. И столь же чудесно в Якутию, в пополнение естественной убыли, в газету «Красный оленевод» ссылают свеженького дипломатёныша, купно владеющего испанским, французским, албанским. А что? Каюры замкнуты, как Албания: по-русски с ними не сговоришься. Логично?
– И я про такой же случай, – снова полез в разговор Чанов. – Привезли нам вместо солидола автол…
Здоровяк Кузин молча сгрёб Чанова и перенёс на диван, где мирно всхрапывали Толякин и Славушкин. Иван освежился тем временем содовой и продолжал:
– Словом, перспективы на жизнь были мрачные. И тут зашевелился гномик Котяры, навёл на каверзу: «Дочка Кубасова!». К дурнушке этой никто близко не подступал, поскольку в неё со времен картошки Мёрзлый метил. Старательно эдак вокруг неё крылом чертил, кукарекал монолог Гремина и дублировал объяснения Отелло Сенату. Ну чернь ряжская, что с него взять? А Котик к Нинель подчалил, расплылся в одной из своих шести улыбок-ловушек: «Ну, как дела, какие проблемы, крошка?» – и через три месяца, глянув косо на дочку, Кубасов имел неудовольствие убедиться, что против кое-кого бронированные машины недействительны. По здравым соображениям, тут надо вызывать тётушку из деревни и готовиться в дедушки. Но, сам знаешь, со времён отказа от царских долгов наш дипломат говорит «нет», даже если его – лицом перед фактами. Нинель была в полном отчаянии и только твердила Котику: «Рожу ребёнка, даже если тебя сошлют в Монголию». А Мёрзлый вовсе ум потерял, ускакал до срока в Поволжье – отыскать факты, предотвратить, разрушить! Котик же на все эти экзерсисы лишь по-чеширски сожмурился и сказал: «Нинель, не надо Монголии, юрта – это для круглых. Познакомь меня лучше с мамой…». Как и чем смог Котик к маме подластиться – не узнается никогда. Но неподступный замминистра, представь, пошёл на попятную. И как! Пока Петюня землю в Поволжье рыл, а пятикурсники зарились хоть на какие задавленные песками и пламенной враждой страны, Котик расквартировался в доме, что над метро «Маяковская», и готовился с молодой в Париж… Да-да, и не каким-то портфеленосцем, а в полномочной должности пресс-атташе. Что вы на это скажете, Кузин?
– Не знаю, – почесал голову Кузин. – Меня так наоборот, в Корею послали за то, что дёру дал от одной штабной дамочки.
– Можно ли сравнивать! – пожурил Иван. – У Котика выбора не было. Да и меня он, честно говоря, спас. Мёрзлый вернулся с полным досье. Даже фото пулемётной «вдовы» прихватил, мерзавец. И пшик! Свадьба Котика прекратила дело. Гусяев не мог меня тронуть, не задев зятя Кубасова. Но мою «помощь народам Поволжья», он навсегда запомнил, и через Полгода мне дали «ищи ветра в поле» – свободный диплом. Ну, а Котик – в Париж, город контрастов…
– А знаешь, Иван, здесь ведь не хуже, – поднялся, зашевелил плечами Кузин. – И тут контрасты найдутся, ежели поискать. От этих сигар трассирующих меня просто тошнит. Айда в город? Сигарет купим, то да сё, мы ж в кустики заходить не будем…
– И я с вами, – подал голос Славушкин. – Я тоже курить хочу.
– Принесём, – пообещал Кузин, настроившись на поход как на дело решённое.
– Да что я вам, инвалид? – забузил Славушкин, разбудив тем Чанова. – Что я, пострижен не так или рыжий?
– Да тише ты! Весь колхоз поднимешь, – шёпотом пригрозил Кузин.
А из ванной комнаты вновь донеслось:
– Водички!.. Сиропчику, Маша!..
– А, чёрт! – ожесточился Кузин. – Славушкин, дай зануде стакан ликёру… Да нет же, зелёненького, чтоб до утра не петюкал.
– Запросто, – сказал Славушкин, набухал полный бокал и унёс в ванную, откуда послышалось вскоре буль-буль, кха-кху и «Маша, грелку!».
– Капризный, гад! – доложил Славушкин, возвернувшись. – И половины не выпил. Может, огреть его чем-нибудь?
– Стыдитесь, Славушкин, – шёпотом укорил Иван. – Вы же воин-освободитель. Налейте нам всем минералочки и по таблеточке, по таблеточке…
С этими словами он кинул в бокал зелёную пуговку «Брома-зельтер» и, когда вода забурлила, присовокупил:
– Освободителям надо выходить в город трезвыми…
– Тогда и я с вами, – ожил нежданно Чанов. – Я совершенно очухался. Таблеточкой малость подзаряжусь и – хоть куда ой-ё-ёй…






