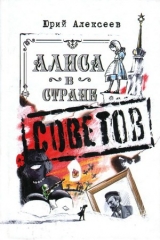
Текст книги "Алиса в Стране Советов"
Автор книги: Юрий Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Здрасте, Каллистрат Аркадьевич!..
– Да нет, скорее до свидания, Иван Алексеевич!.. Разве вам неизвестно, чем кончается у нас связь с иностранцами? Моя свояченица, дура, губы бантиком, сподобилась с иноземцем в Большой на «Лебединое», да так с «Лебединого» и отправилась в декольте в Салехард. Ипсо факто, и не за что больше! Ни слова кроме «бонжур» и «капут» ни знала. А при вашей дерзости, да ещё изучение языков… Нет, в наше смутное время Бог даровал вам ноги. Вот и бегите от неприятностей. Гоняйте мяч!
– Всю жизнь или до раннего склероза? – осведомился сухо Иван.
– У спортсменов не бывает склероза, – наставляюще отклонил Буре. – Только они, ну и, конечно же, гепеушники пышут у нас неподдельным здоровьем. В силу особенности устройства голова у них никогда не болит.
– Спасибо за комплимент, – сказал Иван. – Может, ещё какие советы будут?
– А как же! – раздухарился Буре. – Соблаговолите взять меня под руку. О Господи, я ж зарекался не керандюми – не смешивать Салхино с Крюшоном… Так вот, не смейте больше брать у злодея Клеинского ни Мережковского, ни Бердяева. Ему-то что, он нужен наркомам, за ним придут в последнюю очередь. Ограничьтесь себе во благо «Молодой гвардией», мда-с. Из фильмов рекомендую «Свинарку и пастуха», из пиез – «Русский вопрос», из музыки – гимн, разумеется. Неограниченно – цирк, балет, уголок Дурова… что там у нас еще духовного? Церко… нет, туда ни для каких очищений духа и тела! Для этого есть Сандуны и еще что там…
– Английская соль и санпропускник на Курском, – подсказал Иван, ошибочно воспринимая слова Буре за игру. – И ещё, не знаю, верно ли, планетарий, говорят, возвышает.
– В планетарии душно. А вот в биллиардной Бейлиса, в пивной Орлова… Кхм, к слову, там у вас на Трубной по-прежнему сырыми опилками полы протирают три раза на дню?
– Да, но вам будет достаточно, – покосился Иван на Буре.
– А сёмужка со слезой? Килечки и анчоусы всё так же под пивко хороши, а? И в кредит чистой публике по-старому отпускают?
– Не заводитесь, вы сами уже «хороши», – стоял на своём Иван. – Лицом не хуже сёмужки розовы.
– Ага, значит, дают. И без знания иностранного, без предъявления диплома… Так и не лезьте в политику, Ванечка! Срывайте эти остатние лепестки бытия, – закольцевал начатое Буре. – И пусть из всех вопросов вас заглавно тревожит, как бы не застудить в парадном предстату в пору зимней любви… Ну-с, вот и притопали…
Попутчики остановились возле тёмного переулка, где на готическом доме Буре рубцом багровел чудо-рак с неоновой кружкой в клешне.
– Не желаете? – кивнул на рака Буре. – Москворецкий омар чрезвычайно бодрит, если не пересолен.
– Вы же знаете, – отказно сказал Иван. – Завтра игра на выезде.
– Ну да, ограниченный человек, вам мало одного «режима», – проговорил с закидоном Буре. – А я, знаете, никак не могу пройти мимо родных пятен капитализма. Да-с, родных, а не родимых, как их глупцы называют. Прощайте, инфант террибль! Берегите ваши бесценные ноги, а головой подумайте: стоят ли наши Сорбонны того, чтобы потом «прослойкой» сделаться между свинаркой и пастухом?
Спьяну советы умного человека заведомо благожелательны уже в силу состояния души. Но смолоду наши уши предрасположены к сквознякам. И потому любезные наставления Каллистрата Аркадьевича лишь раздразнили в Иване дух противоречия. А чёрт на скорых копытцах только того и ждал, дежурил пакостно у порога.
Пока Буре витийствовал, консультанты с Трубной – те самые, в пыжиках – навели липучку Ерёмкина на знаменитый «Титаник» – спаренный аркой дом-коммуналку, где бесподобный Иван сам-третий на четырёх квадратных метрах ютился в многосемейном – двадцать три квартиранта на пять комнатух – несговорчивом коллективе и бесполезно точил зубы на отдельную тёмную конуру, нейтральную территорию после смерти ничьей домработницы Стеши.
Дипломатические разговоры с Ерёмкиным, естественно, состоялись на парадном трапе «Титаника», сохранившем остатки цветных стекол, причудливо отражавших «высокие стороны», и при молчаливом участии театрального гобоиста Сушкина, прикорнувшего сладким от портвейна калачиком возле нетопленой батареи.
Впоследствии Сушкин всячески утверждал, что именно он придал делу успех. И в этом была доля правды. Значительная. Пока Ерёмкин векселя раздавал: «Корпоративность… гуманитарное эгалите в рамках фратерните… мы вас испанцем сделаем… А пожелаете – так и французом…» – Сушкин ни звука не издавал, не мешал слушать. А вот когда Ерёмкин грудным голосом вскользь ввинтил: «МГИМО всё-таки вуз политический», – Сушкин головой о железо ударился, взвыл, и Иван тонкий намёк на толстые обстоятельства пролопоушил, проспал.
Так ко всем приключившимся за день случайностям добавился ещё и зевок – опасный и в далях не предсказуемый, даже если ты Колчаку не служил.
Глава II
…А сон – нет же, не Сушкина, а Ивана – длился, и дикторша ВДНХ не унималась, подсадной уткой крякала:
– Вас ж-ждут, ж-ждут! Павильон Гармоничной личности! Девочка плачет и оч-чень надеется… Алиса в растерянности!
«Не поддавайся! – приказал сердцу Иван. – Тебя не касается. Мало ли девочек по стране плачут? Между прочим, приезжие обожают дочурок позвонче назвать, чтобы сопливость не так в глаза бросалась… Анжелика, Джульетта, Алиса – это чтобы платка в приданое не давать, когда вымахнет. Нет, не твоя она! Твоя нюни не распускает. Да и вообще, кто «очень надеется», тот не плачет, а злится».
По-писательски Иван, может, и правильно рассуждал. Сердце сердцем, а голова на кассу работала. Но непослушные ноги работали ещё лучше. И он сам не заметил, как очутился возле фонтана Дружбы с его пятнадцатью насвежо позлащенными девами-республиканками [7]7
Гипсовых девушек при фонтане «Дружба народов» некогда было шестнадцать. Но одну спилили за ликвидацией Карело-Финской ССР (прим. автора).
[Закрыть].
Толчея здесь была ужасная. Распорядитель с повязкой кричал: «Дорогу тачанкам!» и «Держите мерзавцев!». В «мерзавцах» значились двое чудиков в тюбетейках, успевших прихватить «золотца» с девушек и теперь обтиравших на бегу о себя руки, от чего халаты их сделались наполовину ханскими.
«М-минутку! Выходит, “не лезьте к девушкам!” – взаправдашнее? – занервничал Репнёв. – Так что же, и Алиса и прочее не понарошку… так прикажете понимать?».
Иван протиснулся поближе к фонтану и влез для ориентировки на бортик. Вода из пенистых чаш била звонкими струями, сверкала, как свет опрокинутых люстр Колонного зала. А в вышине над ними, как бы закрюченные за облака, висели два транспоранта:
«КОСМОС НАШ!» И «НЕБО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!»
Последний не вызывал сомнений. Он намекал на загробную жизнь. А вот насчёт «Космоса» могли быть разнотолки.
«Погорячились! – снисходительно оценил Иван в дурной манере не в своё дело соваться. – “Космосом” – это уже как пить дать! – нарекли где-то однопартийный дом отдыха или валютный бар для астрономически состоятельных. Так зачем же народ дразнить погудкой “НАШ”? “Крепите и умножайте Космос” – вот как надо, чтобы не отступиться от норм».
Будь то единственным отступлением, Иван дальше и ухом бы не повёл, не дал подозрениям развиться. Так нет же! Прифонтанную площадь окружили двурядно канатами, и на кольцевой просеке появились тачанки с по-настоящему пулемётами. Толпа не дрогнула. Не растворилась. Послышался сдавленный вскрик: «Дают!?».
– Тра-та-та-та, – ответили пулемёты, никого не скосив. И, загрузившись детишками вкупе с родителями, лошадки пошли по кругу зоопарковым тротом. За ними шлейфом тянулся дымок, потрескивали военные кастаньеты. Ничего страшного. Жеребчики оскоплённые. Выстрелы холостые. Обыкновенный комсомольский пудрёж – «преемственность поколений». Смущало другое. Пассажиры каталок держались прибито, скукоженно. Да и стрелки-возницы – видать, солдатики-первогодки – не возмужали от нахлобученных на них шлемов а ля Перекоп, не возомнили себя героями, и как-то блудливо оглядывались по сторонам, будто махновцы, грабанувшие церковь. А позади тачанок дуэт просившихся на живодёрню одров тащил остатней добычей некрашеный гроб, тележил нечто невообразимое. На боковине гроба было написано углём «Америка», а на крышке самоуверенно восседали Неважнокто – огрузлый, с баранкой в глазу, и Хотьбычто – в настоящих очках и похожий на Дуремара. Впрочем, телесный покрой и внешность не имели значения. В движении по кругу за кучера мог быть любой. И отпусти они вожжи или возьмись за кнут – их управление на результат не влияло. Путь был однолинейный. Ни шага в сторону.
Сейчас одров Неважнокто понукал, а Хотьбычто ютился на облучке и раздавал направо-налево воздушные шарики всё с той же меткой «Небо принадлежит…». Люди молчком, со спёртым дыханием бежали за гробом, хватали шарики нашарап, и лишь какой-то один оттеснённый базарил:
– Я, может, тоже как собака устал, а в космос первым меня не пустили.
«Он прав, – подумал Иван, зная повадку граждан требовать лишка в обгон крайне необходимого. – Наш человек должен быть первым. А его на Луну не пускают, гондолируют тех, кто понахальнее».
Шар обделённому всё-таки достался. Кривой и длинный. Но он, негодник, в небо на нём не пошел, «нечаянно» сделал ба-бах, поднял ошмёток за ниточку и пробурчал «Баковка» [8]8
Рабочий поселок, сосредоточенный на производстве презервативов.
[Закрыть], что было намеренной клеветой, поскольку в рабочем виде «Баковка» держит давление в пять атмосфер, а в успокоенном, ежели в рогатке, убойно бьёт на пятнадцать шагов.
«Отвергать, не попробовав, – такое усталостью не объяснишь, – укрепился в подозрениях Иван. – Этих, что на гробу и с пулеметной охраной, я чётко воспринимаю. Неважнокто любят быть на людях неважно где. Они, халатом не брезгуя, даже в хлевах нетелям хвосты задирают в контроле за правильностью питания, поскольку оно всегда неправильно. И Хотьбычто хоть бы хны, чего и где кому раздавать, кому какие шарики вкручивать. Важно быть в гуще событий. Но… сама гуща сегодня какая-то не такая. И та и не та…».
Иван всегда понимал охотников к пулемёту прильнуть, слетать на полюс ли, на Луну, лишь бы трудно. Народ приучен стрелять и мечтать. Однако где трудно – там и «ура!». Непременно. Вне зависимости от побед. Без галдежа и праздник не в праздник. А нынче люди давились за шариками и вспрыгивали на подножки тачанок молча и механически, будто вернулись только что из затяжного с сухим пайком похода и по приказу ротного затеяли теперь побегушечки, «через не могу» гульбу. Круговерть, конечно, была. Не без этого. Но в заварухе хоть бы кто кого назвал сволочью или засранцем. Ни потасовок, ни матерщины – хотя Неважнокто пример тому подавал, потакал, – ни даже «ты меня уважаешь?». Лица людей были одинаково плоскими, одинаково неустремлёнными, что уже отнимало повод к скандалам, к выяснению, чья морда «кирпича просит». Ни «ура!», ни «караул!» Даже к девам златым – память гвоздиком о себе оставить – никто не лез, что и навело Ивана на мысль:
«Господи, да не сон ли это? Неужто “каждому по труду” достигло “каждому по шару” и – ни гугу, приехали. Не забежал ли я как-нибудь огородами в Будущее, предсказанное Хотьбычто… Ну, самым краешком, зачуток?».
– Ты что, слепой или дурной? Руку дай, педераст! – замарал мысль Неважнокто. Каким-то образом он незаметно внизу очутился, влез животом на бортик фонтана, но дальше мешали штаны, в каких, по его же грубым словам, пол-Европы, не трудясь, разместилось бы.
Иван не то чтобы оробел, но им овладел порыв к поддакиванию, к услужливости, какие бывают, наверно, при встрече с обер-пиратом, когда на мачте захваченного фрегата уже повешен свеженький флаг, а рея покамест свободна…
– Трудное детство… плохо было с морковью, – пробормотал он, делаясь самому себе гадостным и вспомогая огрузлому приподняться, вместо «пшёл бы ты!». А тот, отдувшись и пропыхтевшись, на бортике укрепился и проворчал:
– Моркоха на уши не отражается. Тебя что, радио не касается, или прохлопал по глухоте объявление насчёт девочки?
И как-то песенно загундосил, припоминаючи:
В лесу родилась тёлочка
От белки и осла, кхм, да,
Зимой и летом дойная
Кормила три села, кхм, мда…
Осёкся, посадил в глаз навроде монокля давешнюю баранку и посмотрел на Ивана пристально, многозначительно. Иван затаился. Песенка-перевёртыш была ему очень знакома, но он виду не подал, ждал, что дальше споётся, скажется. И толстячок не замедлил:
– У нас с Диаматом принципиальный спор получился, – молвил Неважнокто. – Он на летающую собаку опёрся. На Белку. Дескать, певчих поднаучили порочить космос. А я говорю, слова народные, мудрые… предусмотрительные. Допёр, что Белкой корову звали. Всё-таки пастушеское чутьё! К тому же ослы необычайно выносливы. Скрестим весною, и молока будет – залейся…
«Посмехом издевается или за полного дурака меня принимает?» – растерянно оглянулся по сторонам Иван. А толстячок прицепился:
– Ну, что скажешь на это, слепота? – и баранку надкушенную протянул, – на вот! Очень кругозор расширяет…
– Да нет, она мне не поможет, – невежливо отверг баранку Иван. Чем больше Неважнокто витийствовал, тем меньше гипнотизировал. И теперь Иван просто из озорства повёл пустыми глазами, как бы не видя вовсе ни аршинных скрижалей «КОММУНИЗМ НЕИЗБЕЖЕН» на павильоне Поступательных Обожратушек, ни надписей от руки на его колоннах «Закрой варежку! Муха влетит!!». Дверь в Обожратушки была закрещена досками, и на передней текучей краской уведомлялось «дожди», а на запазушной рвано выжжено «засуха». – Не выручит, – дообъяснил Иван, – потому как в левом глазу у меня нажитой плюс, а в правом – природный минус… Так-то вот, уважаемый Глава госуда…
– Глава на хуторе близ Диканьки, – пренебрежительно перебил Неважнокто. – А я – Примат. О двух лицах, но в положительном смысле. Есть с кем посоветоваться. Понятно?
– Ув-вполне, – доложил Иван, смекнув попутно, что Диамат – это Хотьбычто и третий по плавности.
– А плюс на минус – фигня! Мы и двуполых, у которых глаза разбегаются, хор-рошо лечим, – погрозил кулаком кому-то невидимому Неважнокто. – Правда, времени под обрез. Да так и быть уж. Здоровье всё одно по пути к Гармоничной личности. Слезай, слепота! Айда…
Спрыгнул с бортика, стащил за собою Ивана и повёл сквозь расступавшуюся безмолвно толпу к больничному зданию с надтреснутой вывеской «Вход бесплатный».
Увы, входные двери были косо обандеролены запиской «Нету воды», а на задворках здания слышались бой стекла и приглушённый мат.
– Фигня, зато рису будет – заешься… – сказал про писульку Неважнокто, забыв, что Иван слепой. И повел на зады, где на открытом воздухе стояли скатертные столы с графинами, и к ним тянулась очередь каких-то плаксивых, но с виду довольно жизнеспособных граждан. То, чем они занимались, напоминало аттракцион «Силомер». Играющие лупили кулаком по столу, и когда удар получался рекордным, графин раскалывался, освобождая спрятанную внутри бумажку. Путёвку, наверно, поскольку столы отличались именными табличками «Кишечно-желудочный», «Психоневрологический», «Кардиологический»… Возле последнего продавали с лотка валидол, торчмя стояли носилки и представитель ритуальной конторы с муаровой лентой на рукаве пиджака и обгоревшим бумажным цветочком в петлице. Глаза у него были ласковыми, ищущими.
Завидев Примата, очередь стихла. И лишь один, тот самый, что шариком ба-бах сделал, под нос себе мелко бубнил, роптал вроде бы.
– В чём дело? – осведомился Примат. – Не слышу.
Бубнильщик выступил на полшага вперёд и показал на графины:
– Как правило, мы поддерживаем, – сказал он за всех. – Только хотим так-чтобы-либо-всем-либо-никому. По справедливости!
– К тому оно и идёт, – успокоил Примат и на часы сосредоточенно поглядел. – Вот только Америку похороним, кхм, минут через несколько.
– Ясно, – сказал бубнильщик и кинулся в очередь восстанавливаться.
А Примат подманил пальцем ритуального человека и спросил строго, негромко:
– Очки есть?
– Да что вы! Как можно!? – заегозил похоронщик. – И в мыслях такого не держим… Всё родственникам перед кремацией отдаём.
И покраснел неописуемо.
– Не надо мне никаких очков, – вмешался в дело Иван. – Я и без них вижу, какой субчик пред нами.
– Я… я рабочую школу кончал, – сбавил красноту похоронщик.
– Тьфу, недоносок! – сплюнул Иван.
– И три года в музроте…
– Паразит!
– Участник строек… м-молодежных… горячих…
– Поганец!
– И кандидат…
– Вот вам гармоничная личность, – сказал Примату Иван. – Зачем к какому-то «павильону» ходить? – и кандидата округло оформил:
– Законченный, хоть в ВКШ направляй!
– Дети… трое… один дефективный, – пал на колени перед Приматом законченный. – Подскажите, что делать? Посоветуйте!?
И, руки нечистые заломив, задумчиво опустил подбородок на грудь.
– Советую на ремне удавиться, – холодно, без попрёков сказал Примат. – На своём, разумеется… и подальше от детских учреждений.
– Вот это правильно, – одобрил из толпы Бабах. – В детях – будущее. Им хороший пример нужон.
– Буз-зде, буз-зде, – заверил с японской кротостью смертник, но по лицу его было видно, что этого он никогда не сделает, как и не было никаких сомнений, что от детей он сбежал в похоронщики, чтоб алименты поменьше платить.
– Ну вот и договорились, – голосом, каким совещания заканчивают, произнес Примат, хотя и понимал, конечно, что уговор недействителен. – Опыт похоронной работы сушит сердце, опустошает нутро, – потащил он за рукав прозревшего без очков Ивана. – Уж на что мы с Диаматом стараемся, а вокруг…
«Тишина! – озарило Ивана. – Тишина от безнадёги. Чего шуметь, когда амба, гроб-дела?». И, не слушая дальше, спросил вперебив:
– Шары летят, пулемёты трещат, а люди молчат… Как это понимать прикажете?
– Обыкновенно! – пожал печами Примат. – Молчат, потому что я с ними не разговариваю. Мне не до них. Я на Америке сосредоточился. И представь, слепой, кхм, оказывается, похороны – не поминки. Да, шум не ускоряет закопку, и прежде чем веселиться, надо слёз накопить, поднапружиниться…
– О Господи! Мы ли не накопили? – вырвалось у Ивана.
– Кхм, а Диамат-то не зря, – ожесточил вдруг рисунок лица Примат. – Есть повод для выяснений… Видишь павильон? Там одна девочка плачет, расходует зря материал…
И как миллион раз повторённая статуя, простёр руку к странному зданию в виде поставленной на попа гармошки-трёхрядки.
Цоколь «гармошки» был раскрашен в полоску под клавиши, чердачный этаж – усыпан кнопочно головками малых прожекторов, а на крыльце возле стеклянных дверей висел саратовский, надо думать, звонок-колокольчик размером с колодезное ведро.
– Это и есть «гармония»? – вслух подивился Иван. – А где же сам гармонист?
– Советую повременить, – с какой-то каверзой в голосе произнёс Примат. – Не поленись колокол за верёвочку дёрнуть, и будет самое оно…
Иван ступил на забежную лестницу и дёрнул. Верёвочка с жалким стоном лопнула, оборвалась, а из немого колокола вылетела муха-заморыш и вжикнула, будто её из «варежки» сплюнули.
– Оно? Самое оно? – нарочно спросил Иван.
– Советую не залупаться! – озлился Примат и заорал: – Кузьма, твою мать, тревога!!
От этого непристойного крика стеклянные двери павильона Гармоничной личности порозовели, озарились каким-то фальшивым огнём, и оттуда вывалился пожарный в роскошной с бляхою амуниции и с укутанным в одеяльце ребёночком на руках. Топорник был величав и строг. Легионерская каска с тугим ремешком заставляла его держать подбородок выступом, как этому роду войск и положено, а выпученные от удушья глаза, казалось только и ждут команды – аларм! в огонь! в воду!
– Прекрасно! И лицо, и одежда, и главное, конечно, поступки, – аттестовал удальца Неважнокто, заложив в глаз баранку и Ивана сквозь дырку сверля. – Девочка спасена, теперь родительство устанавливать будем.
И подмигнул свободным глазом пожарному. Кузьма рассёдланно, чрезвычайно охотно Алису – кого же другого! – распеленал и с удовольствием с рук спустил, сказавши:
– Надеюсь, не будем упорствовать, гражданин «я не я, не моя»? Надеюсь, свидетели не потребуются?
– Я за свидетеля! – выскочил будто из-под земли Ба-бах. – Мы завсегда! Мы с удовольствием.
Иван онемел: «Этот-то что может знать?!». А Неважнокто сказал: «М-молодца!» – и Ба-баху кивком на подоспевшего «к пирогу» Хотьбычто указал: – Небось, он тя подбил, ну?
– Никак нет… сознательность, – вытянулся стрункой Ба-бах. А Алиса капризно топнула ножкой – будет она вам плакать, как же! – и взяла в оборот пожарного, пожаловалась Ивану:
– Папочка, этот противный Кузьма не хочет мне свою мать показать. Сам же грозится, а потом говорит: «Она в чёрном теле, ох-оханьки!»… Какие враки! Старушек ни в какой Африке не едят.
– Ну, не такие они у нас горькие, – полез в заступники за Кузьму Ба-бах, а Хотьбычто окатил его ледяным взглядом и Примату сквозь зубы сказал:
– Оголтелая аллегория, что и требовалось доказать. И про Белочку, я же предупреждал, там подтекстик, де, какие могут быть «тёлочки» от таких «ослов»? Липа! Филькина грамота. Это, кхм, и ежу понятно.
– Липа лыка не вяжет, – знающе наморщила лобик Алиса. – Под-ёжик, под-котик, под-кролик, подтекстик… Филька под-грамотный! На домике, где «Коммунизм неизбежен», пишет вместо «открой» – «закрой варежку»… И муха не залетит, замёрзнет, пропадёт, как Кузькина мамочка.
Взрослые обомлели. Нависла чёрная, каслинского литья пауза. Только Ба-бах шелестел:
– Ну даёт, во даёт! Мухи же зимой не летают, а летом варежки на...й кому нужны!..
– Вот! Послушай, деточка, что говорит рабочий класс, – зацепился за шелест Неважнокто, налившись свежей кровью и побурев. – А то шепелявишь нам тут без понятия «мамочки», «тапочки». Чёрнотелые у нас по погоде отдыхают в Крыму без всякого людоедства. Пусть дикарями, но мухи зря не обидят. Коммунизм – отдельно, мухи отдельно! И вот, Кузькину мамочку мы вам сейчас покажем… – и к пожарному обернулся: – Девочку к логопеду! Папашу в «Америку»!!
«Avec plaisir! [9]9
С удовольствием (фр.)
[Закрыть]Con mucho gusto! [10]10
С великим удовольствием (исп.)
[Закрыть]– сладко забрезжило у Ивана в башке. – Там и до Кубы рукой подать… Ампарита, моя Ампарита!». А Кузьма сказал:
– Слушаюсь! Но у меня гвоздей нет, и есть опасность… Как их укараулить двоих?
– Сядешь сверху и возьмёшь девочку на закорки, – сказал Хотьбычто.
– Тогда не потянем, – замялся топорник. – Есть опасность, что с места не сдвинемся.
– У Безопасности никогда ничего нет, кроме опасности, – буркнул недовольно Примат.
– В-вымогатели, мать вашу в гроб!
Обманный свет разом померк в голове Ивана: «Так вот что скрывается под этой одеждой, лицом и поступками!?».
Тёртый Ба-бах, видать, тоже смикитил, каков «пожарничек» перед ним; засуетился, зашарил в карманах, откуда посыпались шпунтики, шайбы, шурупчики, и наконец извлеклась горстка гвоздей:
– Вот, мне для хорошего дела не жалко, – покосился он на Ивана, – хотя таких папочек можно бы и без тапочек, без расходов на «арматуру».
«С чего этот “живой” свидетель про тапочки заговорил!? – подивился Иван. – Чем я ему жизнь испортил?».
– Понятно, – сказал Кузьма, а может, и не Кузьма вовсе, гвоздики принимая.
– Да нет, они из забора попадали… после дождя, – сказал Ба-бах.
– А молоток? – спросил топорник пронзительно.
Ба-бах поёжился, пробормотал «ета самое», порыскал за пазухой и вынул замасленный гвоздодёр.
– Это ничего, – сказал он нагло. – Я сам, по шляпку вгоню, чтобы вам пальчики не зашибить, не запачкать.
«Откуда эта страсть помогать сильным?» – окончательно приуныл Иван. А тут ещё Алиса путалась под ногами:
– И мне «крашеный» гвоздик… и мне! Что вы меня оттесняете? Не хочу на закорки, хочу на замякиш.
– Опять пузыришься, опять подтекст!? – прикрикнул Неважнокто, по сторонам озираясь. – Диамат, твою так! Куда одры подевались? И малого дела нельзя никому поручить.
Диамат посмотрел на Примата глазами Брута и сказал:
– Успеется…
И точно. Всклубилась пыль, послышалось ржание, крик «поймите правильно!», и к павильону подкатила телега с «Америкой». На крышке горбился давешний похоронщик, мерзавец, и орал:
– Я к тому, что от слов не отказываюсь! Но вдвоём подыхать оно повеселее будет…
«О Боже, неужто до совмещённых гробов докатились?!» – остолбенел с головы до пят Иван.
– Верно, браток, напару сподручнее, – расхрабрился вконец Ба-бах. – А ну-ка, давай его на раз-два рубероидом.
И, кинувшись разом в голову, в ноги, они подняли задеревеневшего, будто рулон, Ивана, а «пожарный» пригласительно крышку гроба откинул:
– Милости прошу к нашему шалашу…
– А вот и неправильно! – топнула ножкой Алиса. – Милости так не просят. «Милому алкашу воблы нашалушу» – говорит Тожемне герцогинюшка.
– Работайте, товарищи, работайте, – подстегнул дрогнувших добровольцев Хотьбычто и, уцапав девочку, будто портфель, под мышку, в сторонку засеменил.
От герцогинюшкиных слов работнички перенервничали, наверно, и Ивана в гроб не уложили, а с грохнули, так что в глазах у него стало темно. Затем крышка захлопнулась, и потемнело вдвойне.
– Ну, как устроились? – прогудел с воли голос Неважнокого.
– Отлично! – сказал Иван. – Наконец-то в отдельной квартире.
– Наглец, – буркнул Неважнокто. – Другие хуже живут и не выдрючиваются.
– Как правило…
– Сам погибай, а других обслужи…
– Либо-чтоб-всем!..
– Гордость!
– Либо-чтоб-никому…
– Рабочий патриотизм! – загомонили за стенкой на два голоса, и гвоздики «крашеные» по крышке запрыгали: дзень-дзень… ах, ённать!.. тюк-тюк-тюк… ых, чтоб тебя!.. дзынь-дзынь… Готово!
– С раската его, как князька Гвидона, и плюхом! – напутствуя, прогудел Неважнокто. – Ветер по морю гуляет и всю придурь изгоняет.
Две задницы тотчас на крышку шмякнулись, завозились, устраиваясь, и тот, что в ногах у Ивана уселся, причмокнул:
– Чмно, н-но, сивые!
Немазаная телега хрумкнула ободьями, и экспедиторы голосом человека, надкусившего сладкое яблочко, слитно запели:
Через порт трёх морей,
Отъезжает еврей…
– Да вы что, совсем оборзели!? – вскинулся напоследок Иван и, о крышку ударившись, окончательно ушёл в забытьё.






