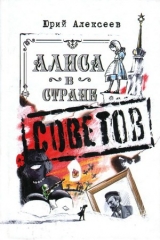
Текст книги "Алиса в Стране Советов"
Автор книги: Юрий Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Глава XV
К ночи Москва расплакалась, потекла. Пожар на Нижней Пахомовке повысил температуру в городе градуса на три-четыре. И в этом нет ничего курьёзного. Москва необычайно флюидна, повязана цепкими нитями. И в ту минуту, когда на задыхавшегося Ивана лунные монеты обрушились, на столе дежурной по этажу гостиницы «Интурист» Джуванешевой обнаружился золотой фунт английской чеканки. Но ещё раньше того, когда Иван ни с чем из окна выпрыгнул и подвернул ногу, совсем уже на другом конце Москвы, в тишайшем, как бы нарочно созданном для арестов Зоологическом переулке муж Джуванешевой, доктор Безухов вдруг почувствовал облегчение и даже желание исполнить супружеский долг.
Последние двое суток Кимоно Петрович Безухов пребывал в опупении, именуемом среди учёных прострацией. Когда звонили в дверь, он бежал к телефону, а среди ночи вскакивал, бормотал «Это сон, это Фрейд!», лихорадочно раскрывал бурую папку и, всякий раз находя там вместо «Попупса» чёрте что, насвежо изумлялся и заламывал руки:
– Наследственное проклятие! Я отроду невезучий…
Кимоно Петрович ничуть не кокетничал. Оно и впрямь – его темным, ослеплённым пламенем Октября родителям лучше было бы дать сыну-первенцу имя Пьер, или Робеспьер. Но время было горячее, с претензиями на мировой пожар, и маленькому Безухову в честь Коммунистического Интернационала Молодежи Новгорода дали пожизненно Кимоно. Восторженные новгородские родители мало что пронадеялись на отмену паспортов и границ, но и не учли силу советского патриотизма. И когда во время конфликта на КВЖД сверстники устроили Кимоно тёмную, искривили ему правый глаз, родители не образумились, посчитали взбучку случайной.
Левый глаз несчастному Кимоно перекосили в разгар наступления самураев на озеро Хасан, и достигнутая таким образом симметрия сделала его настолько не нашим, настолько подозрительным, что имя ему уже хочешь-не хочешь сократили до расхожего Ким. И приключилась другая крайность. Дружбонародная. Университетская. Конкурс был ужасающим. Однако на биофаке сохранилась азиатская квота. Туда, с учётом внешности-имени, Киму и присоветовали, чтобы экзамены дуриком проскочить. В неразберихе, собственно, он и просочился. А через пять лет заступил на службу в Институт контрагенетики, ставший вскорости Центром генетики и цитологии, что никого не смутило, прошло незамеченным из принципа – не важна работа, важен результат, то есть Ленинская премия со всеми вытекающими из неё приятностями вплоть до права закладывать в спорах два пальца в жилетку и картавить огульно: – Вы, батенька, дегенегат, генегат, науку не делают в белых пегчатках!..
К тому времени подоспели дружеские контакты с вражеским окружением. И доктор Безухов тихонечко, с оглядкой на Курильские острова, вернулся к полному имени. Главной причиной тому была жена. Она добавила к Кимоно приставку «сан», да и себя переделала для гостей из Джуванешевой в Джу Ван, увешала квартиру циновками и, вообще, ояпонила быт, начиная рисовыми палочками и кончая магнитофоном «Сони», оглушительного своей ценой.
Неудачные крестины снова дорого обходились Кимоно Петровичу. И поскольку конечной мечтой Джу Ван был японский автомобильчик, вопрос о Ленинской премии стоял в семье необычайно остро. А само название премии требовало от Петровича произвести в науке переворот.
Всесезонная муха дрозофила, надо сказать, в Центре генетики была окончательно заезжена и обсосана. Её по лапкам в диссертации растаскали. И Кимоно Петрович измучился, исхудал в поисках отправной точки. Но вот однажды перед Новым годом Джу Ван явилась из магазина с праздничной, по профессорскому талону подачкой и швырнула на кухонный стол птицу, похожую на конскую ногу.
– Полюбуйся, – сказала она отдышливо. – В ней четырнадцать килограмм. Её насильно скрестили со страусом и до смерти рыбной мукой закормили… Да-да, понюхай!
На скрюченной как после пытки морозом птице бугром вздымался живот с клеймом комбината «Красная путина». Тиной от неё действительно припахивало, как от утопленницы.
– Между прочим, в Америке, – продолжала Джу Ван, – к Рождеству кормят индеек орехами и нарочно рост замедляют, чтобы целой, а не лохмотьями к столу подавать.
– Что? Как ты сказала!? – неуместно оживился Безухов.
– Я говорю, лауреатов таким дерьмом не кормят, – мстительно подковырнула Джу Ван, чего натуральная японка никогда бы себе не позволила. – Ленинцам парную курицу дали, сталинистам – кило сельдей, банку хрена и…
– Джу! – остановил жену мановением руки Кимоно Петрович, и в голосе его было нечто торжественное. – Умница моя ненаглядная, Джу! Мы не будем больше кормиться падалью. Ты открыла мне путь к таким горизонтам, – ткнул он зачем-то в птицу-страуса и руками всплеснул, – к таким вершинам, к таким высотам…
И понёс нечто из «Происхождения семьи, частной собственности и государства», увязывая это каким-то образом с решениями XXI съезда партии и приговаривая утвердительно, возбужденно:
– Тока-така! Тока-така и не инака!
Вольный переклад с русского на «японский» всегда означал у него высшую степень удовольствия, причиной которого был он сам.
В такие минуты его тянуло в народ, о коем он имел смутное представление и потому спешил освежить память. В предновогоднюю ночь восторженный Кимоно Петрович бродил по московским улицам, сощуренно и снисходительно, чему глазной дефект помогал, глядел на безобразную толчею в Елисеевском, где под золочёными сводами магазина-дворца люди приступом брали свиную печень. Там он нарочно собственными боками испытывал себя в очереди за дешёвой водкой. Потом, опять же с умыслом он дал измять себя и выплюнуть спиною вперёд из клокочущего автобуса № 24. На минуту Петрович даже бесстыдно придержал себя у женского туалета на Неглинке. Внутри там шла большая предпраздничная торговля цыганской косметикой, и дамы, рвавшиеся туда по нужде, оттиснуто переступали ножками.
И все эти картины народного бедствия особым маслом ложились на сердце Кимоно Петровича.
– Мда-с, – приговаривал он от раза к разу увереннее. – Горький неправ. Человек – это звучит неубедительно. Но с этим будет покончено, мда-с!
Ровно за четверть часа до Нового года Кимоно Петрович уединился в кабинете, созрело взял лист краденой на работе бумаги и вывел малыми буквами: «На соискание Государственной премии». Остановился. Покрутил пальцами, как бы открывая одновременно кран горячей воды и холодной. Скомкал начатое и написал на свежем листе убористо:
«К решению продовольственной и других проблем». Середину листа он украсил заглавием будущего труда:
ГОМО ПОПУПС
– Кимоно-сан, ты скоро? – напевно, в тоне заждавшейся гейши позвала из гостиной Джу Ван и обезьянку – знак набегавшего года – в двери просунула.
– Иду! Один момент, дорогая! – нежнейше откликнулся Кимоно Петрович, секунду поколебался, приставил к ПОПУПСУ хвостик-тире и дописал:
или ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЁЛ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Наступивший год Обезьяны Кимоно Петрович целиком отдал ГОМО ПОПУПСУ, начав труд, как и всегда, от печки, равноудобной что для сушки валенок в лихолетье, что для кремации оппонентов в мирный день:
«Ещё в первом предисловии к «Капиталу» величайший анатомист человечества Карл Маркс предопределил, что развитое тело легче изучать, чем клеточку тела. Необходимость такого изучения, – продолжал Кимоно Петрович, – назрела уже потому, что своего наивысшего развития (см. результаты первенства мира по хоккею) тело достигло в условиях победоносного социализма. Задача нынешнего исследователя стала реальной. И, гениально предвидя это, Маркс уже на подступах к телу предупреждает: нельзя (то есть никчёмно. – К.Б.)пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции».
Последнее особо устраивало Кимоно Петровича. В микроскоп он лет десять как не заглядывал, а реактивов вообще сторонился, опасаясь халат прожечь. И вступление он закончил раскованно:
«Марксистский подход к телу, будь оно мужским или женским, и положен в основу моего труда».
Далее следовало подпустить немного правды. И, оснастивши раздел припиской «Секретно! Для закрытых партийных собраний!», Кимоно Петрович озаглавил его
ШАГ ВПЕРЁД, ШАГ НАЗАД
Учёными разных стран, – извещал он, – доказано, что тело поддерживает себя питанием. И в наш век всё человечество, и прогрессивное в особенности, тщится в поисках пищевых ресурсов, известных в нашей стране под термином «изобилие». Однако 47-летний опыт нашего самого прогрессивного государства убеждает в неразрешимости этой проблемы традиционными путями. И тормозящей причиной тому – сам народ. Наевшись вдосталь пшена и воблы на первом этапе социалистической сытости, вкусив от сердца ненормированного хлеба – второй этап, он в силу гордости, особо присущей советскому человеку, приватно настраивает себя на масло, мясо, на прихотливо ставшую деликатесом воблу, и не желает ничуть считаться ни с обмелением Каспия, ни с засухами, ни с перестройками. Отсюда диалектическая пропасть. Сколь ни велики и объёмны неутомимые заботы Партии о едоках нашей Родины и примкнувших к ней народах, их желудки оказываются ещё более объёмными, неутомимыми в деле поглощения пищи и её эрзацев.
Народ и Партия – едины. Но, опираясь на Ленинский завет о единстве противоположностей, можно и нужно признать, что ежели в деле пропитания Партия ежегодно (мобилизация, постановления) делает шаг вперёд, то народ (ажитация, акселерация) делает шаг назад.
Старания остановить попятное движение народа введением в организм, взамен природных калорий, высокооктановой водки хотя и дали положительный результат, но привели к бытовым осложнениям. В промышленных городах Сибири, к примеру, почти аннулировались половые потенции тружеников, что ввергло в ненужную нам депрессию женскую часть населения данного региона и затруднило строительство там железных дорог.
Увы, побочные эффекты урезанного питания не берутся в расчёт так называемыми рационалистами во главе с профессором Киргиз-Кайсацким. В своём реферате «РАЦИОН ПЛЮС МОЦИОН» опытный аналитик Киргиз-Кайсацкий правильно изрекает, что раздутый, так называемо плотно покушавший гражданин не влезет в утренние часы в общественный транспорт и либо промедлит, либо вообще не приобщится к радости труда.
Заслуживает внимания и экскурс профессора в армию и места заключения, где, как он подмечает:
«Миллионы людей годами придерживаются упрощённого рациона не только без видимого ущерба для здоровья, а даже наоборот».
Трудно не согласиться с личными наблюдениями Киргиз-Кайсацкого, почерпнутыми в городском транспорте и местах усиленного моциона. Однако из его поля зрения ускользнуло, что октановая диета не везде, да и не всегда даёт труженику испытать радость предельного напряжения: похмелье стыкуется с прогулами. Что же до «рациона миллионов», то тут профессор недоучитывает миролюбивые и гуманные устремления Советского государства – sic! Ведь любая амнистия, как известно, удлинняет очереди в гастрономах, а сокращение армии хотя бы на 20 % вообще может привести к продовольственной катастрофе.
«Катастрофу» Кимоно заменил «неурядицей» и так же изгибочно закольцевал:
«Не умаляя заслуг советских рационалистов и признавая, что октановое питание естественным обжигом сокращает желудок, позволю себе назвать эти полезные меры «полумерами». Наша цель – гармоничная, то есть упитанная, лояльная, не утратившая интерес к женщине личность. И для достижения означенной цели надо сокращать не желудок в отдельности, а всё развитое (вспомним Маркса!) тело. Успехи нашей генной инженерии обязывают к практике. И чтобы Партия (шаг вперед) не разминулась с народом (шаг назад), настало время создать ГОМО ПОПУПСА – ЧЕЛОВЕКА ПОПУПЁНЫША, довольного потреблять вдвое меньше продуктов и прочих благ».
Следующий раздел Кимоно назвал «Перспективы», где популярно обрисовал неизбежные выгоды биологической операции.
«Генетически укороченный человек, – горячил он перо в предвкушении премии, – сразу окажется в атмосфере изобилия. И не только продовольственного! Половинчатая – 80 сантиметров максимум – структура ГОМО ПОПУПСА позволит вселять в стоквартирный дом двести семей и помещать в автобусы, путём такого же деления пространства по горизонтали, вдвое больше укороченных пассажиров. Жилищно-транспортная проблема самотёком уйдёт в небытие. Синхронно с нею решится и проблема городских кладбищ, задыхающихся от кучности.
Головной тезис: «Всё для блага человека!» – воплотится в жизнь сполна и немедленно. Но есть ещё и геополитическая сторона вопроса. В весовой пропорции на душу ГОМО ПОПУПСА придётся куда больше зерна, чугуна, хлопка, золота, чем в пресловутой Америке, что позволит не просто сравняться с этим форпостом капитализма, но и недогоняемо забежать вперёд, как это сделано уже в сфере идеологии. Идеологии, отстоять которую станет ещё легче, ибо каждый бункер, каждый бронетранспортёр будет вмещать вдвое больше защитников Родины и её изобилия. Монолитному единству защитников будет способствовать и другой фактор: половые контакты, браки ГОМО ПОПУПСОВ с иностранцами станут практически невозможными, что наложит окончательную узду на рецидив эмиграции. ЧЕЛОВЕК ПОПУПЁНЫШ сможет жить и чувствовать себя полноценным только в Стране Советов, в священных границах Родины, давшей ему принципиально новый статус…».
Вчерне, в общих очертаниях рукопись склеилась за каких-нибудь два месяца. Март-апрель ушёл на конкретное дознавательство подробностей выроста аккуратных курят в братской Венгрии и пониобразных лошадок в далёкой Мексике. Лишь после этого Кимоно Петрович закрепил труд главой «Опыт зарубежья» и опробовал его на жене.
Без спору, женщины, особенно когда они вдвое моложе тебя, излишне капризны, придирчивы, нелогичны. Однако отзыв Джу Ван превзошёл все ожидания:
– Кимоноша, а тебя не посадят? – осведомилась она.
Кимоно Петрович так и отпал на спинку дивана. В душе, да останется это секретом, он уверовал и склонялся к неизученной демократии – еврокоммунизму, при котором, как ему мнилось-мечталось, сажать будут лишь беспартийных. Такие дерзкие, можно сказать, поветрия уже летели с левого берега Франции, но Франция далеко… И доктор спросил настороженно:
– То есть как это так!? За что?
– А так, – по-женски объяснила Джу Ван.
– Конечно, когда идёшь неизведанными путями, – обидчиво раскипятился доктор, – когда замахиваешься, то многим кажется… – Но тут же сообразил, что не «кажется», а так оно и есть: ведь одиночный замах – всегда угроза… И, при известном старании напуганной шайки Киргиз-Кайсацкого, научный труд можно перекрестить в злую сатиру, издёвку над светлой действительностью. В науке – замахнулся, так бей! Не жди опережающей оплеухи.
– Ну хорошо! – ответил он на угрозу угрозой, и твёрдой рукой вынес на верхушку труда крылатую фразу Примат Сергеевича: «Питание – это часть воспитания».
«Вот так-то! – похвалил он себя. – Однако одной крылатости маловато недруги слишком сильны!». И взялся уже всерьёз обрамлять свой труд выдержками из буйных речей Примата, так чтобы и слепой заметил, чьей жизнью и государственной деятельностью идея «Попупса» рождена, доведена до кондиции. Такой экивок нынче был как никогда дорог, ибо в радениях махом «вытащить тележку из дерьма» Примат Сергеевич в постромках запутался, хоть отрезай. И этот нюанс чрезвычайно тонизировал Кимоно Петровича аж с мая и по сентябрь. А в октябре возникла загвоздка: кому оформленное, готовое в перепечатку отдать? На машинисток Центра генетики доктор не смел положиться. Идею могли, что называется, с горячей сковородки украсть. Центр этим славился. И выбор пал на нелегальную, далёкую от всякой политики Люсю.
Углублённый в свою науку доктор совершенно забыл, что договор с маляром ли, квартирным маклером, машинисткой носит единственно обязательный пункт «постараемся!». А дальше в силу вступают «намедни», холод, получка, жара, проводы племяша в армию, и какой-то немыслимый «Котик». В подвал доктор набегался до вторых мозолей. Завершилась же беготня совершенно трагически: ни Люси, ни рукописи. В дополнение к несчастью некий тип, именуемый Колей-Шляпой, обозвал Кимоно Петровича мудаком, и он обезволенно – стыдно вспомнить! – вынужден был признаться, что так оно и есть.
Конечно, марксистски натренированная на повторении пройденного рука Кимоно Петровича могла бы заново вылепить ГОМО ПОПУПСА. Но убивала мысль, что тайное – особенно по разделу «Секретно!» – детище прочтётся неправильными глазами. К опасению, не уворуют ли конкуренты идею, добавлялось – так ли мысль истолкуют?… не снесут ли рукопись куда нужно с ненужными комментариями?
Домой Безухов вернулся почерневшим от горя и угольным, неподвижным пластом залёг на тахте. Лишь к обеду в нём шевельнулось нечто живое, и тотчас на ноги его поднял телефонный звонок.
– Доктор Безухов? – осведомился чей-то развязный, поддельно весёлый голос.
– Так точно! – подтвердил несчастный учёный, готовясь к наихудшему.
– Кимоно Петрович? – никчёмно пожелал уточнить голос.
– Так точно! Он самый…
– Простите, доктор, вы ничего не теряли? – вкрадчиво подступил к сути голос, напрашиваясь на доверие.
Кимоно Петрович заколебался. Сказать «да» – значило признать себя ротозеем, не умеющим сохранить служебную тайну, и в лучшем случае пьяницей. А «нет» – выглядело бы намеренным запирательством, попыткой скрыть своё авторство, что, конечно же, глупо, посколько на пятках «ПОПУПСА» значились и фамилия, и адрес, и телефон. И Кимоно Петрович избрал третий путь:
– Не откажите в любезности сообщить, с кем я разговариваю? Кто вы?
Голос помедлил и сообщил:
– Доброжелатель…
Доктор окончательно сник: логика наших будней такова, что под этим именем кроется либо начальник, изгоняющий тебя со службы «по собственному», либо следователь по особым делам. Незнакомец на другом конце провода это тоже сообразил и поправился:
– Да вы не бойтесь. Рукопись ваша попала ко мне случайно. Я член групкома, поэт. Называйте меня Тимур Тимофеевичем…
– Приятно слышать, чрезвычайно приятно, – уклончиво произнёс Кимоно Петрович. – Прочтите мне что-нибудь своё, если не трудно?
Я ноги опущу в Гольфстрим,
А голову склоню на Полюс,
охотно взвыл голос. —
И там отчасти успокоюсь,
Что я тобою нелюбим!
«Нет, это точно поэт, при том безнадёжный», – враз успокоился Кимоно Петрович и сухо, в загляде не процыганить, осведомился:
– Сколько вы за находку хотите, товарищ?.. Сто… сто пятьдесят вас устроит?
– Ну, если вы в таком тоне, если вам до лампочки, – засопел в трубку поэт.
– Вы не поняли, – сказал Кимоно. – Я не выпить с устатка вам предлагаю, а натурально – деньгами!
Сопение усилилось, ожесточилось и увенчалось словами:
– Я думал, вы настоящий учёный.
– Ну хорошо, двести! Э… двести, Тимур Тимофеевич!
– Учёный, для которого труд – дело жизни, – продолжал гудеть в тоне обиды голос.
– Вы правы. Двести пятьдесят!
Молчание. Скрежет ногтя по мембране.
– Но, чёрт побери, сколько же вы хотите?!
– Двести семьдесят, – твёрдо произнес незнакомец и добавил спохватчиво: – Такси за ваш счёт! Я еду с Нижней Пахомовки. Приготовьте без сдачи.
Безмерно радуясь, что Джу Ван нынче в дежурстве – та трудилась через двое суток на третьи, – доктор наскоро отслоил из семейной кассы 275 рублей, зажал денежки в кулаке, а кулак сунул в карман кимоно и замер в томительном ожидании.
Мучительно протянулся час. Незнакомец не объявился.
Пахомовка где-то у дьявола на рогах, такси там нечасты, – взял было в утешение Кимоно Петрович, но прилившая в голову кровь взроптала:
«Да какой там “поэт”!? Это лазутчик!.. И награду сейчас он ищет в другом месте, где рукопись сладострастно исчёркивают теперь красным карандашом и сколачивают летучую бригаду для захвата автора. Да, тишайший Зоологический переулок прекрасно устроен для таких акций, и вообще, толком не разобравшись, учёных не раз прихватывали и лишь потом – потом! – называли их именами улицы и проспекты…».
Заглазно и с общих позиций Кимоно Петрович был прав, но в данном случае – несправелив, без вины опрометчив. Да и где ж было ему знать, что причина задержки – осколки Витька. Отдать краденую фантастику-быль он в интересах будущего, видите ли, согласился, а ехать к доктору на такси категорически отказался всё в тех же видах:
– В будущем такси не будет, нечего привыкать!
И как ни умасливал дурака Дедуля поманкой ускорить силами таксопарка креплёное «красненькое», тот упёрся и ни в какую: «Перекантуемся, как и весь народ, на зубах отдержимся!». И папку для наглядности прикусил.
Добираться пришлось городским транспортом, что для Тимура Дедули было двойной пыткой. Время само собой. Но Витёк с его личиком «как проехать по Москве» и скрипучим, терзающим пассажиров дурацкими наставлениями голосом был не лучшим попутчиком. Их принимали за пьяную гоп-компанию и сторонились с той жалкой улыбкой, что достаётся разве что прокажённым.
С двумя скандалами и четырьмя пересадками они доехали кое-как до Зоопарка, где Витьку немедля приспичило прокатиться на пони. Хочу – и всё тут! Но кто посадит в коляску Витька? Его и в метро не пустят! По счастью, возле катального круга Тимурчик приметил цыганистую граждоночку. Именно на живой случай она ребёночка напрокат давала бездетным солдатам и штатским, вроде Витька. Дедуля сторговался за трёшник, приложил к Витьку хныкавшего приёмыша и отправил Осколочного в «кругосветку». И пока Дедуля зубами скрипел, а душа Кимоно Петровича сжималась в страшных предчувствиях, Витёк счастливо слюни пускал и обучал мальчика чему-то несбыточному, плохому.
Засим последовали мороженое на палочке и два стакана газировки с сиропом. Лишь после этого на квартире Кимоно Петровича прозвучал долгожданный телефонный звонок:
– Спускайтесь! Ждём вас в подъезде, – произнёс как-то измученно «поэтический» голос.
«Всё… крышка! – мелькнуло у Кимоно Петровича. – Знаем, зачем в подъезд выманивают». И в чём был, в кимоно, в деревянных гета, дробно скатился с третьего этажа в парадное.
Как и предполагалось, его поджидали не один, а двое: короткий рыжий главарь и исполнитель, загримированный под забулдыгу.
– Ну? – искательно протянул ладошку рыжий, топчась на месте и потея лицом. А загримированный произнес осипло: – Я, конечно, извиняюсь, товарищ профессор, но вот интересно, по скольку школят на парту садить будут?
«Слава те, Господи! – молнией пронеслось в голове Кимоно Петровича. – Главари не потеют, а забулдыжный просто чернильным полотенцем утёрся!». И враз осмелевши, зеркалом повторил жест рыженького:
– Ну, а вы, ну? Ну?!
– Ах, да, извините! – смутился рыжий, вырвал бурую папку из рук чернильного и с попятным запасцем полуподал доктору: – Можете убедиться, в целости и сохранности…
Доктор стремительно сунул навстречу папке пухлый кулак.
– Но-но! – сказал чернильный, густея. – Я сам могу. У меня справка.
Но совершивший обмен Кимоно Петрович уже летел через ступеньку в квартиру.
– А всё-таки интересно, как в будущем… – взялся достать доктора напоследок чернильный.
– Вас это не касается! Своё получили, – окрысился с этажа учёный, захлопнул дверь и на цепочку закрылся.
В прихожей он страстно, будто вернувшуюся из побега любовницу, прижал папку к груди, трижды расцеловал, и лишь тогда развязал тесёмочки…
Увы, приятные приготовления Кимоно Петровича были напрасными. За тесёмочками открылось не то, что он лелеял, холил, а нечто чужое – с пригожим именем «Алиса» и неприятнейшим местом её пребывания – «в Стране Советов».
Вот тут-то доктор и взвыл:
– Наследственное проклятие! Я отроду невезучий!!
Когда же он в некотором отупении начал чужие страницы листать, то против воли увлекся. И по мере чтения его всё больше охватывало предчувствие неотвратимой беды, что должна, просто обязана с ним случиться. Глава называлась знакомо…
… ПОРОСЁНОК И ПЕРЕЦ
Алиса в раздумье разглядывала Дом Советов, как вдруг из-за угла вышмыгнул Кот и постучал в двери хвостом. Ему открыл ливрейный еврей, величавый в движениях. (Что это еврей, Алиса решила по нагрудной геройской звезде, приняв крепёжную ленточку за шестой кончик; а что лакей, по надутым и полированным щекам – такой лоск от хозяйских блюд, когда их тихонько вылизываешь).
– Пусти меня в Дом, Чек! – промурлыкал Котяра лакею.
– Не для того поставлен! – сложил губы дудочкой Чек и напружинился.
– Впусти. Так ведь устанешь без дела торчать, – применил логику Кот. – Я ж в президиум не полезу, буфетом интересуюсь по дурости.
– Ишь ты! Стоял, стою и буду на страже стоять! – погладил трудовую звёздочку Чек. – Стоять – честь, не впускать – геройство. Хоть до завтра буду стоять… или до светлого будущего, – добавил он, Алису приметив, и потеплел:
– Мадам случайно не иностранка?
– О, да! Но не случайно, – призналась Алиса. – Я там родилась.
И отмашку в сторону Запада сделала.
– Сочувствую! – вздохнул как-то неопределённо Чек. – Однако и на Западе есть достойные девочки. Мне доводилось. Незабываемы митинги и гулянья в честь нашей славной Юманите де Бланш… Кель сосиете! Кель плезир!
– Странно, – вымолвила Алиса. – Когда мы жили в Париже, мама не разрешала служанке гулять на бульваре Бланш. [103]103
Бульвар Бланш – место сомнительных развлечений.
[Закрыть]
– А кто сказал Бланш?.. Ла-Манш!.. Э… э, ди-манш, – сгустил красноту на щеках Чек. А Кот развязно сказал:
– Ему можно, деточка! Он слуга народа.
– Ну да! Я совершенно забыл, – погладил Кота лакей, борясь с желанием сделать тому больно. – Ведь Чек, деточка, не холуйский обрубок имени, не для удобства «Чек, сбегай», «Чек, подмети!», а Член Единой Концепции, – дополнил он свысока и обломок сигары из жилетки достал: – Огонька не найдётся, мадам?
– Тоже мне Черчилль! – фыркнул Кот. – Не тем концом берёшь.
– Эту сигару, – смущённо и оправдательно произнёс для Алисы Чек, – мне подарил старый и верный друг Страны Советов – кхм, забыл фамилию – вкупе с борцом – жаль, не помню имя – против размещения игральных автоматов в Монако.
– Ладно-ладно, – перебил Кот. – Ворованную сигару надо прикуривать от краденой спички.
«Они сейчас подерутся… и мне достанется!» – испугалась Алиса. Она уже знала, насколько опасно в Стране Советов свидетелем быть, и сказала поспешно:
– Простите, что мешаю вам выяснять отношения, но мне хотелось бы заглянуть в Дом Советов.
– Эт-то ещё зачем!? – позабыл про сигару Чек.
Алиса знала, что лучше сказать: «Буфетом интересуюсь, товарищи!». Но не обученная звать лакеев товарищами и негожая бескофузно врать, она по-детски призналась:
– Во-первых, хочется посмотреть на Кухарку, которая будет управлять Государством.
– Ну, этого у нас сколько угодно. Навалом! – самодовольно вымолвил Чек. – А что во-вторых? В третьих?…
– А во-вторых, я у вас тут совсем запуталась и нуждаюсь в советах, – сказала Алиса и покраснела.
– Праувильный цвет лица выбрала девушка, – промурлыкал Кот. – В Доме Советов дают советы, как исправлять промахи на ошибки.
– И… и это естественно! – улыбчиво придавил Коту лапу Чек. – Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А мы только и делаем, что всё время что-нибудь делаем.
– Или нет, – сказал Кот, лапу отдёргивая, и взроптал: – Не бей Кота поперёк живота мокрым полотенцем!
– Демагогия! – полез на Кота башмаком Чек. – С полотенцами у нас напряжёнка не потому, что их нет, а потому, что умываемся часто. Раз – и утёрся! Два – и что ж делать!?
– Я пошутил! Отпустите! – взвыл прищемлённый Кот.
– Отпустите! Это же так больно… – заступилась в слезах Алиса.
– Ещё бы! – скроил обиженное лицо Чек, с Кота не слезая, – больно видеть, как некоторые Коты нарочно лезут нам под ноги, чтобы вызвать сочувствие Запада и очернить нашу победную поступь.
– Отказываюсь… Отказываюсь от полотенца! – простонал Кот.
– Ну вот, давно бы так «умылся»! – освободил Кота подобревший Чек. И Алисе дверь приоткрыл:
– Пройдёмте, гражданочка, в помещение – там тепло, светло и мухи не кусают. На тоже-мне-Герцогиню советую внимания не обращать. Сосредоточьтесь для полноты восхищения на Кухарке.
«Тоже мне?? Наверно, это брошенная Наполеоном француженка, дочь герцога Тожемне», – подумала Алиса и вошла в то, что Чек называл помещением.
В просторном зале клубился дым, и в нём едва различалась буфетная стойка, на которой стояли та-редки с патронами без пуль. А возле них толпились стрелки, палившие по мишеням, вправленным для чего-то в спасательные круги с надписью «НАША ЦЕЛЬ».
– Стрельба должна быть экономной, – разъяснил Алисе немыслимые патрончики Чек. – Потребности ой-ё-ёй! А в случае промаха ещё и кастрюли лудить приходится. С того и свинцовая напряжёнка.
Позади стрелков на кривом табурете и в неудобном, как броня, пиджаке сидела Кухарка и укачивала младенца баюкалкой:
А-а, не ложись на правый бок,
Не то свистнут кошелёк…
Спи вполглазика, сынок,
Не то свистнут пиджачок, а-а, а-а…
«Но пиджаки не свистят, кажется? – затруднилась Алиса. – Разве когда худые карманы…» – И сказала вслух: – Ну и пиджак!
– Из длинного короткое и дурак сделает! – огладила себя не без удовольствия Кухарка.
– Длина естественна, – заторопился Чек. – Это для орденов, для наград. Без орденов управлять невозможно.
– Шапо! – вскричал Кот, изображая лапой будто шляпу перед Чеком снимает. – Каково сказано?! Орденов у нас больше, чем пиджаков!
«А хорошо это или плохо?» – заколебалась Алиса и тут заметила, что кухаркин младенец подмигивает ей как-то по-взрослому и завёрнут вместо пелёнок в гербовую листовку с прописью «КОДЕКС ЧЕСТИ».
«Опять напряжёнка», – смекнула Алиса, учась помалу здешнее арго понимать, и углубилась из любопытства в буквы помельче.
«Советский человек должен быть сильным, красивым, – прочла она на боку ребёночка, – готовым посвятить себя делу социализма и своей страны, отдающим себя работе, которая приносит радость и экономический эффект…».
Дальше текст уходил под попку младенца и скорее всего был размыт, потому что малютка простудно чихал и визжал беспрерывно, отчего личико его морщилось и недовольно кривилось.
– Ему пелёнки надо сменить, – сказала Алиса раздумчиво, – иначе он не станет красивым, сильным.
– Обойдётся, – постановила Кухарка. – Армия сделает человеком любого.
– Вот, деточка! – восхищённо задрал палец Чек. – Чувствуете, что значит государственный подход?
– А-а-пчхи! – перебил младенец и так оглушительно, что даже стрелки притихли и тут же вдруг заскандалили:
– Так невозможно работать!
– Пулю сдуло, товарищи!
– Наказать… задать поросёнку перцу!
Ребенок перепугался, обмочил слова «радость» и «эффект», после чего запищал:
– Виноват, граждане! Больше не буду-у-у… исправлюсь…
– А-а, зассанец, не любишь! – напустились ещё пуще стрелки. – Перцу ему! Красного перца в нюхалку!
– Че-пу-ха! – сказала Алиса по-взрослому. – Разве перцем чихание остановишь? Это форменный произвол.






