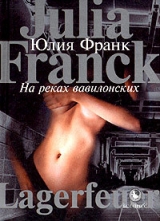
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
– Алексей подарил этой женщине зуб, – шепнула мне Катя и указала пальцем на место рядом с собой; она шептала так громко, что та женщина наверняка могла ее расслышать.
– Зуб? – Не следя за Катиным пальцем, я взяла у нее из другой руки ослика и положила его между нами на скамейку. Женщина тяжело дышала. Катя встала и принялась разглядывать книги, стоявшие на низкой полке. Она сняла с этой полки книжку и принесла ее мне.
– Ты мне что-нибудь отсюда почитаешь?
– Не сейчас. Почитай сама. – Я взглянула на большие часы, стрелки только что миновали половину первого. Катя забрала у меня книжку и несколько минут держала ее у себя на коленях.
– В передвижной библиотеке этих книг никогда нет на месте – они выданы, – тихо сказала она, но я ей не ответила. Тогда она встала и поставила книжку обратно на полку. Осторожно, искоса поглядывая на нас, фрау Яблоновска старалась незаметно не выпускать нас из поля зрения.
– А разве ты не можешь взять почитать такую книжку у какой-нибудь девочки из твоего класса?
Катя пожала плечами.
– Да, конечно, – сказала она как раз тогда, когда я поняла, что она вынуждена врать. Я обхватила рукой ее узкие плечи, опять взглянула на часы и начала покачивать ногой, вверх-вниз. Откуда-то донеслась песня. Звук ее отражали стены, покрашенные в светло-бежевый цвет. Эхо было каким-то странным. Сначала голоса, казалось, прыгали, они прямо-таки насмехались над моей вялостью, которая защищала меня от песни, весело и беспечно разгонявшей уныние, однако чем чаще повторялась мелодия, тем сильнее накатывали голоса на волне музыки, будто всех нас обуревали одни и те же чувства, и сидели мы где-то у одной из рек вавилонских. Хор негромко исполнял припев, и словно ветер проносился над морем, открывая невероятный простор свободы и любви, у меня комок подкатил к горлу – мне вдруг стало плохо.
– Что вы здесь делаете?
Я наклонилась вперед, но фрау Яблоновска в своей шубе, казалось, не хотела замечать, что я обращаюсь к ней.
– Извините, пожалуйста. – Я поднялась и села с ней рядом. – Мы с вами недавно встретились в прачечной. Я тогда не дала вам договорить и ушла.
– Ах, правда? – На коленях у нее лежал иллюстрированный журнал с видом Кремля зимой. Фотография в красной рамке выглядела бесцветной, словно снег или недостаточно чувствительная пленка лишили ее всякой резкости и красок. Желтый заголовок вопрошал: "Что случилось в Восточном блоке?" Казалось, женщина читать журнал не собирается.
– Да-да, это так. Что привело вас в больницу?
Фрау Яблоновска долго смотрела на меня, она дышала и дышала, казалось, меховая шуба просто слишком тесна для ее тяжелого дыхания.
– Я жду своего брата. Они сказали, что приведут его в порядок.
– Значит, он был болен, а теперь его выписывают? – Я улыбнулась, чтобы показать, что вовсе не собираюсь ее отталкивать.
– Так что они приводят его в порядок, потому что мой брат сегодня ночью умер.
– О-о! – Я взглянула на ее руку в пятнах, державшую носовой платок: рука дрожала. – Мне очень жаль.
– Нет, нет, вы тут ни при чем. Ничего не поделаешь. Он был очень болен.
– Вы за ним ухаживали?
– Нет, в последние месяцы ему пришлось лежать здесь. Они мне не позвонили. Понимаете, сегодня утром я пришла сюда. Четыре дня я ждала их звонка. Каждое утро или после обеда приходила посмотреть, дышит ли он еще. Сегодня его палата оказалась пустой. – Ее окружала, точно облако, острая смесь из запаха жира и аромата духов. Запах ее пота проникал через мех. Несмотря на то, что все пуговицы-крючки на ее шубе были застегнуты доверху. Она открыла рот, чтобы легче было сделать вдох. – Я хотела быть с ним, понимаете? И вот он умирает, – она отдышалась, сделала паузу, – можно сказать, у меня за спиной. – Фрау Яблоновска провела рукой по своей шубе и выдернула несколько волосков. – Они мне обещали, что позвонят.
– В лагерь? Там же нет телефонов.
– Ну, хотя бы в правление. Но они, наверно, забыли. Возможно, им было некогда.
– А эта? – Катя сунула книжку прямо мне под нос. – Может, эта тебе больше нравится? – спросила она и выкатила глаза.
– Поди сюда, – я подтащила ее за рукав ближе к себе, на скамейку, – сядь здесь, возле меня, и просто немножко почитай, ладно? – Потом я опять повернулась к фрау Яблоновской. – И теперь вашего братаприводят в порядок?
– Наверно, они должны сложить ему руки на груди и подвязать подбородок, прежде чем близкие придут на него посмотреть.
– Подвязать подбородок?
– Иначе он опустится и, когда наступит трупное окоченение, рот будет широко открыт: придут родственники, а у покойника отпала нижняя челюсть. – Фрау Яблоновска неожиданно разинула рот. – Вот так. – У нее были золотые зубы.
– А-а, да. – Я представила себе мертвеца с широко разинутым ртом.
Она закрыла рот.
– А вы почему здесь?
Только я хотела ей ответить, как открылась дверь. Сестра сначала оглядела меня, потом фрау Яблоновску, а под конец ее взгляд упал на Катю, которая опять стояла на коленях перед книжной полкой.
– Яблоновска?
Она поднялась на ноги, видневшиеся из-под меховой шубы и казавшиеся в сравнении с ее массивным телом тонкими, как щепки. На ногах были грубые резиновые сапоги, которыми она шаркала так, словно они ей слишком велики. Журнал она положила на скамейку позади себя.
– Пройдемте со мной, пожалуйста.
– Да, я пойду, но можно мне на секундочку еще заглянуть в туалет?
– Если ненадолго, то, разумеется, можно.
Фрау Яблоновска последовала за сестрой по коридору.
Катя взяла новую книжку, она сидела неподвижно, держа книжку на коленях, и читала. Я поглядела через ее плечо.
– Эта наверняка не лучше.
– Мама, тебе же ее читать необязательно. К тому же наш папа тоже читал эту книжку.
– Откуда ты это взяла?
– Я помню обложку.
– Что? Прошло столько лет, а ты уверяешь, будто помнишь обложку? С какой стати он заинтересовался бы такой книжкой?
Катя захлопнула книжку. Обложку украшал коричневатый рисунок. С чего бы это Василий стал читать детскую книжку, да еще с Запада? Мне все чаще казалось, что я ловлю Катю на лжи.
– Я недостаточно быстро от них убегал, – сказал Алексей, когда мы пришли к нему в палату. Я взяла стул и придвинула к кровати.
– Вот видишь, мама, а если бы у него были спортивные ботинки… – Катя наклонилась к брату с другой стороны кровати и положила руку ему на лоб, словно была его матерью. – Угадай-ка, что тут, – она открыла "молнию" своей куртки – из – под нее выглядывал ослик.
– Думаешь, я умру, как наш папа?
– Нет, миленький, конечно же, нет. – Я подумала о заключении, которое в коридоре показал мне врач, и которое я должна была подписать. Это означает, что я беру ответственность на себя, ибо хотя в целом обследование не опасно, все же нельзя исключать нежелательного воздействия рентгеновских лучей. Причем все эти обследования они уже успели провести, и теперь мне больше ничего не оставалось, как поставить свою подпись. У Алексея было сотрясение мозга, ушиб черепа, множество других ушибов и перелом ребра. Кроме того, – это врач подчеркнул особо, – они установили, что мальчик истощен. При его росте он должен был весить самое малое двадцать шесть килограммов, а его вес был на несколько фунтов меньше. Об этом врач хотел еще раз подробнее со мной поговорить, он строго смотрел на меня, словно я заставляла своих детей голодать или совершенно их забросила.
– Знаешь, мама, я все время думаю, что наш папа хочет быть здесь и жить во мне. – Щеки у Алексея были красные и в прыщах. Глаза казались стеклянными.
– В тебе?
– Да, ведь он же теперь просто труп, и живого тела у него больше нет, вот я и думаю, может, ему захочется жить у меня внутри, в животе.
– Откуда ты это взял?
– Бабушка как-то сказала, что он продолжает жить в нас.
– Это надо понимать по-другому. Бабушка считает, что он продолжает жить в нас, когда мы его вспоминаем.
– Я знаю, что бабушка имела в виду. Но этого мало, мама. Душа желает большего.
Теперь Алексею уже казалось, будто он кое-что знает о желаниях душ. Я покачала головой и потрогала его губы, которые, несмотря на внутренние травмы, выглядели неестественно здоровыми.
Вошел врач и попросил меня зайти к нему в кабинет. Там он пригласил меня сесть в оранжевое кресло, предложил мандариновый сироп с водой.
– Вы всем вашим пациентам предоставляете отдельную палату? – Я положила ногу на ногу и собиралась выразить ему благодарность.
– Отдельную палату? Нет, только на первые три дня, из-за опасности заражения.
– Опасности заражения?
– Пожалуйста, не смотрите на меня такими испуганными глазами. – Он великодушно улыбнулся и еще секунду-другую смаковал воздействие своих слов, потом наклонился ко мне, сложил руки на столе и сказал:
– У вашего сына – вши, я полагаю, что от вас это не укрылось? Полная голова. Нам придется сначала проделать ряд процедур.
– Ах, – я вдруг замолчала и сняла руку с головы: пускай чешется, я потерплю.
– Вы ведь читали заключение?
Я кивнула.
– Ваш сын уверяет, будто его избили в школе. – Он смотрел на меня и явно ждал ответа.
– Да?
– И у нас возникает вопрос: так ли это? Мальчик в своем рассказе очень путается. Школа не имела никакого права отправлять его домой в таком состоянии. Что я хочу сказать, – может, он вообще не был в школе?
– Не был? Где же, по вашему, он находился?
– Пожалуйста, не волнуйтесь, такой разговор для нас тоже небольшое удовольствие. Нам все чаще приходится иметь дело с подобными случаями. Жестокое обращение с детьми, да, это бывает в лучших семьях.
– Как вы сказали?
– Он находился у вас дома?
– Нет, в лагере его не было. Насколько я знаю.
– Фрау Зенф, наши санитары забрали его…погодите-ка… из блока "Б" в лагере экстренного приема. Вы ведь там живете?
– Мы там живем, да… Но…
– Только не волнуйтесь, фрау Зенф, я не полиция. Кроме того, нам здесь запрещено разглашать доверенные нам секреты. Просто все это кажется нам крайне невероятным, понимаете, тяжелые повреждения, такие ушибы, – сломано ребро, точечные раны на руках и на спине, явно нанесенные острым предметом, теперь в ходу иголки, да, предпочтительно раскаленные, – пока этот врач говорил, он как-то странно причмокивал, словно говорить о подобных вещах было для него и мукой, и неслыханным наслаждением, – сотрясение мозга с травмой черепа – для этого требуется немалая сила. Ему нужны очки, а у него их нет. Ко всему еще у него истощение.
– Я не обратила внимания на то… – Я раздумывала, не будет ли ошибкой сказать то, что я собиралась сказать, и закурила сигарету.
– Не обратили внимания на то, что ваш сын слишком худой, слишком легкий? Теперь ведь у всех есть весы.
– Нет, господин… Как ваша фамилия?
– Доктор Бендер. Вы не будете столь любезны погасить сигарету?
– Господин Бендер, в лагере нет весов, ими пользуются только при медицинских обследованиях, да и кому придет в голову взвешивать своего ребенка? Я хочу сказать, кроме как на приеме у детского врача. И при последних осмотрах все было в порядке, по крайней мере, об истощении никто не говорил.
– В таком случае мы должны зафиксировать ваше высказывание и в интересах страхования передать его дальше, в кассу. Там дело почти наверняка дойдет и до расследования в отношении школы, ибо тут либо вы пренебрегли своим долгом присматривать за детьми, либо школа.
– Мои дети питаются нормально. Едят не много, но много теперь никто из нас не ест. Если бы вам каждый день выдавали еду порциями, у вас тоже пропал бы аппетит.
– Только не переходите на личности, фрау Зенф.
– Это вы как раз перешли.
– Да неужели? Ну, как я уже говорил, об этом позаботятся органы страхования. Разбираться, откуда у него взялись эти повреждения, – не мое дело. У меня могут быть только предположения.
– Ах, у вас есть предположения.
– Фрау Зенф, давайте будем объективны. Для вас это наверняка не очень просто.
– Нет, не очень просто, – я встала, – но я в вашу семейную жизнь не вмешиваюсь.
– Вмешательство иногда важно, фрау Зенф. – Он причмокивал и глотал слюну.
Доктор Бендер делал вид, будто его уже не интересует, нахожусь я у него в кабинете или нет; он вносил пометки в свой формуляр, подлил себе еще глоток мандаринового сиропа и выпил его неразбавленным, а под конец снял телефонную трубку и что-то в нее прошептал.
– Важно, важно, – повторила я, но он даже не повернул головы в мою сторону, я могла сколько угодно говорить себе под нос: когда он приводил в порядок свои формуляры, то не позволял, чтобы ему мешали, – вам можно просто не выходить из роли, верно? Как хорошо вы все устроились со своими ролями, верно? Роли на всю жизнь. В самом деле, разве их можно где-нибудь купить? – Я вышла, широко распахнув дверь, и спустилась вниз.
Катя лежала на кровати Алексея. Улеглась поперёк его туловища, болтая внизу ногами, и пела песню, которую я больше не хотела слышать.
– Ублюдок. – Катя решительно села.
– Ублюдок?
– Да, ублюдок, так кричали некоторые из ребят, когда топтали Алексея. Ублюдок, ублюдок. И, конечно, "чума восточная".
– Почему "ублюдок"?
– Не знаю, – она пожала плечами, – может, потому, что им известно: у нас нет отца, и вы с ним не были женаты.
– Ах, что ты, откуда им это знать?
– Да ведь учительница все время спрашивает. Кто по профессии твоя мама, чем занимается твой папа?
– А причем тут "женаты-не женаты"?
– Ну, тогда я сказала, что мой папа умер.
– И что?
– Тогда учительница сказала: значит, твоя мама вдова. Вдова – это звучало как-то нехорошо. Но я ведь знаю, что такое вдова. Это старая супруга мужчины, который умирает. И тогда я сказала, что ты не вдова, потому что вы никогда не были женаты, и ты еще совсем молодая, никакая не вдова.
– Ну я что? Сегодня это совсем не редкость. Вы родились вне брака. Что в этом такого? Я тоже была внебрачным ребенком, вы что думаете, моя мать могла так просто выйти замуж?
– А почему бабушка не вышла замуж?
– Это не разрешалось.
– Почему?
– Я вам уже рассказывала.
– Расскажи еще раз, мама, ну пожалуйста.
– Они не имели права. Она была еврейка, а он нет.
– Расскажи еще раз, как они познакомились.
– Нет, не сейчас. – Я довольно грубо оттолкнула Катю от Алексея. – Ты делаешь ему еще больнее, когда так на него наваливаешься.
– Я совсем не наваливалась.
– Поди-ка сюда, – я осторожно подняла руку Алексея: разумеется, она была легкой. Руки у Алексея всегда были легкие, про истощение еще никто не говорил. Сначала я погладила его руку, потом закатала ему рукава.
– А это что такое? – Я провела пальцем по крошечным сине-черным точкам, две из них воспалились и походили на маленькие кратеры с крошечными кольцами от засохшего гноя вокруг отверстия, в котором стояла прозрачная жидкость.
– Нет. – Алексей оттолкнул мою руку.
– Что это такое?
Катя наклонилась к руке Алексея и гладила ее.
– Почему ты не отвечаешь?
Я только что не кричала на нее.
Алексей устало и измученно смотрел куда-то мимо меня: он повернулся набок и уставился взглядом в подушку перед собой.
– Мама, не спрашивай его так. – Катя осуждающе глядела на меня, словно я задала неприличный вопрос. – В моем классе они тоже вытворяют такое с одним мальчиком. Во время урока колют его ручкой.
– Колют ручкой?
– Да, точно. Или карандашами. Как-то раз один мальчишка даже взял циркуль. Но учительница это запретила. Ведь на уроке надо сидеть тихо, и потом тот мальчик кричать боится, они и без того на перемене над ним смеются и обзывают его тряпкой.
– Тряпкой? – "Почему ты чуть что – и в слезы?" – как-то однажды спросил Василий. Я не знала, что ответить. С тех пор, как я получила свидетельство о его смерти, я больше не могла плакать, даже когда мне хотелось, и я находила это уместным. Я погладила эти мелкие точки, – некоторые из них, казалось, складывались в круги и узоры.
– Это же татуировка. – Я покачала головой.
– Они еще не такое делают, – сказала Катя. – Например, недавно, после урока физкультуры, они написали ему в ботинки, – Катя хихикнула, – ботинки были совсем мокрые.
Я закрыла глаза и почувствовала, как на гладкой детской коже выступили маленькие кратеры. "Клейма", – тихо сказала я и подумала о животных, которых клеймят.
– Или еще, представь себе, мама, представь себе, у этого мальчика, – по-моему, он приемный сын, но те всегда называют его приютским, – у него единственного, кроме меня, нет такой толстой сумки с магнитной застежкой. Вместо нее он носит сумку на "молнии", и они подложили ему туда собачьи какашки. – Катя передернула плечами и перестала хихикать. – Какая гадость, правда, мама?
– Ты не могла бы на минутку перестать тараторить? – Веки у меня налились тяжестью, а Катя, похоже, решила, что наступил ее звездный час.
– Только одно, да, только еще одно, мама, они как-то написали этому мальчику шариковой ручкой на куртке "Я дурак". А потом они хотели что – то написать и на моей куртке, но я удрала от них, да так быстро, – да, так быстро, как эти ребята бегать не умеют. – Катя хихикала и хихикала.
– Скажи, ты находишь это смешным?
– Нет, вовсе нет.
Случались моменты, когда Катино настойчивое желание разделить со мной свою детскую радость становилось для меня непереносимым. Она, как маленький несмысленыш, резвилась в таких ситуациях, в которых я от усталости могла заснуть на месте и ничего так страстно не желала, как десять минут побыть одной. Возможно, это были моменты, когда мне хотелось плакать, и я не плакала лишь потому, что больше не могла. Если я ее отталкивала, то мне бывало стыдно, тем более что она явно не случайно с тем большим упорством смеялась, чем глубже становилось мое отчаяние.
– Послушай, мама, можно я расскажу анекдот?
– Нет, анекдота не надо. – Я встала, вынула из пакета принесенные вещи и положила их в пустой ящик шкафа. Перед кроватью валялся ослик. У меня так устали ноги, что я снова села на кровать. Очки Алексей, должно быть, потерял на школьном дворе, хорошо, что теперь он спал, будить его, чтобы спросить об этом, я не стану, только вот визит к глазному врачу теперь надо будет отложить. Если бы этот Бендер, который именовал себя доктором, не жил в настолько ином мире, то я могла бы его попросить, чтобы Алексею уже здесь, в больнице, подобрали новые очки. Хотя провести зрительные тесты при сотрясении мозга было наверняка затруднительно.
– Я только хочу тебя утешить, – сказала Катя и обвила мне шею своими тонкими руками.
Сначала я почувствовала себя в объятиях моей дочери, как неподвижно покоящаяся огромная гора. Но потом внутри у меня что-то защекотало, широко разлился стыд, словно раскаленная лава подкатывала к лицу, но застывала на руках. Не шевелясь, пребывала я в ее объятиях. Мне просто не приходило в голову никакого осмысленного занятия. Да и слова казались не более чем бесполезным сотрясением воздуха.
На остановке автобуса сидела в своей меховой шубе фрау Яблоновска. Увидев, как мы подходим, она нам замахала.
– Похоже, что нам по дороге, – обратилась я к ней. Мех ее шубы выглядел тусклым. Я невольно задалась вопросом, захотят ли вши водиться в такой вот шубе, в конце концов она изо дня в день прогревается изнутри.
– К сожалению, нет, я еду на работу, у меня пересменка.
– А вы где работаете?
– В ресторане быстрого питания. Готовлю еду. С начала будущей недели меня, возможно, посадят за кассу. – Она гордо разгладила мех у себя на колене и поплотнее соединила полы шубы, чтобы они не расходились. Ее улыбку можно было принять за улыбку здоровой и дружелюбной крестьянки. Мне вспомнилось, что сказал у нее за спиной ее папаша: она была виолончелистка, притом плохая. Между ее круглыми коленями, должно быть, когда-то стояла та самая виолончель, которую их семья продала, чтобы похоронить здесь брата. Гордый взгляд фрау Яблоновской меня испугал.
– Это наверняка утомительно – целый день без свежего воздуха и дневного света.
– Без дневного света? Это мне и в голову не приходило. Без дневного света. – Фрау Яблоновска погладила свой тусклый мех. – Но мне это доставляет удовольствие. И не так уж это утомительно.
Ее бодрость казалась мне наигранной. Мизинцем она смахнула слезинку. Она молчала, и это молчание уже стало казаться мне молчанием замкнувшейся в себе женщины, которая, похоже, была совсем не такой, как я, не терзала себя мучительными мыслями. В том, что крестьянки ведут совершенно беззаботную жизнь, я не сомневалась. О виолончелистках я мало что знала. Безымянным пальцем она вытерла другой глаз. Сегодня ночью умер ее брат. Сейчас он лежит с отпавшей челюстью, если они не привели его в порядок. Минуты, когда я представляла себе Василия мертвым, случались у меня все реже. Его руки и ноги были неестественно вывернуты, темные глаза, которые больше не видели, стали неузнаваемыми, и во мне что-то надломилось. Дети принуждали меня жить дальше. Сначала это вызывало у меня внутренний протест, потом стыд за то, что я продолжаю жить. В конце концов в один прекрасный день я впервые ощутила затаенную радость от того, что я смогла на миг забыться. При мысли об отпавшей челюсти брата фрау Яблоновской я внезапно увидела Василия. Но мимо такого Василия я смогла бы пройти не задерживаяеь. Чувство превосходства казалось каким – то странным, чуждым моему существу, не имеющим со мной ничего общего. Как хорошо было бы иметь шапку-невидимку. Польские цыгане – так в лагере называли всех поляков. Причиной, наверно, была их любовь к праздникам, потому что они часто собирались внутри лагеря и могли быть такими бесстыдно веселыми. Ночи напролет они пели. Вот и мужчина в прачечной рассказывал мне, что часто не может заснуть, потому что польская банда всю ночь гуляет. Это оскорбляет нашу строгую немецкую чувствительность, – сказал мне этот маленький человек и взглянул на меня снизу вверх. Я не поняла, всерьез он это или нет.
Подошел автобус, и мы сели. У цыган не было не только жилья, это были люди без родины и без определенного занятия. Люди, не привязанные ни к чему, кроме своего племени, – свободные люди, как уверял Василий, люди без прав, как возражала ему я. Только вот никто не хотел быть такими, как они, никто, кроме Василия, который в минуты, когда бывал особенно ребячливым, говорил: как жаль, что он не родился цыганенком, ведь стать цыганом нельзя, а значит, он обречен всю жизнь оставаться несвободным. Эта его мысль казалась мне какой-то дурашливой, дурашливой потому, что собственное бытие и становление он связывал исключительно с происхождением, словно верил в судьбу – и эта его вера казалась мне такой по – детски наивной, что я за это его полюбила.
Всего несколько дней назад бюро по трудоустройству предложило мне место помощника продавца в винном магазине. Я отказалась. Как-никак я была химик, пусть и пришлось одно время заниматься совершенно другими делами, – когда в Академии наук мне сообщили, что больше меня использовать не могут, то меня определили работать на кладбище. По крайней мере, свежий воздух и дневной свет. Кладбище в Вайсензее уже почти не использовалось. Кого в Восточном Берлине еще хоронили по еврейскому обряду? Плющ и большие кусты рододендронов. Влажная тень. Колонны из песчаника, увитые молодыми побегами. Надписи, имена. В голове – только собственные мысли, никакой болтовни, никаких приказов. Однако сотрудник бюро по трудоустройству сказал: он охотно верит, что я была химиком, – при этом он пристально смотрел мне в глаза и подолгу – на мою грудь, только согласно его данным я не могу поступить на работу. Куда я на целый день пристрою детей? И вообще, то, что вы столь продолжительное время не работали по специальности, плюс разница в уровне развития науки в обеих странах,да еще ваш статус беженца с удостоверением "Б", – разве вы не подвергались преследованиям из-за морального конфликта с властью?Его взгляд изучал вырез моего платья. Итак, кем бы я ни была прежде, – его рука под столом стала особенно беспокойной, – как химика он меня наверняка устроить не сможет. Нет, сказала я, возражая ему, в винном магазине за неполных тысячу двести марок в месяц с вычетами – неизвестно еще, что я получу на руки, – я, конечно, работать не буду. Этот человек долго заверял меня, будто это совсем неплохая зарплата, а благодаря берлинской надбавке – просто хорошая, а я все время слышала, как он сглатывает слюну. Для чего нужна вся западная свобода, если не для того, чтобы принимать решения. Тут я донашиваю чужую обувь, живу с детьми в общей комнате, мы спим в кроватях с казенным бельем, где до нас неизвестно кто спал, но в чужую жизнь я не влезу, и со второй попытки не влезу, и с третьей, и с четвертой. Зато эта фрау Яблоновска, которая по пути на работу гордо запахнула свою меховую шубу, чтобы я могла сесть рядом с ней, казалась мне такой несгибаемой и цельной, что я, хоть и не верила тому, что они цыгане, вдруг ясно поняла: в Польше не может быть ресторанов быстрого питания. Поразительно молчаливой показалась мне сегодня фрау Яблоновска. «В душе она слышит музыку», – сказал мне Алексей в наше первое лагерное воскресенье, когда я забирала детей из ее квартиры, пропахшей капустой и свиным салом, а они не хотели уходить, чтобы не оставлять недопитыми стаканы с «колой». Недавно в прачечной я бы охотно заткнула ей рот. «Какое прелестное платьице», – сказала она с увлажнившимися глазами, взяв в руки одно из Катиных платьев, – будто речь шла о роскошном наряде из шелка. Она болтала о том, как хорошо воспитаны мои дети, и ни слова не говорила о своем капризном папаше и своем прошлом виолончелистки, которое, возможно, было всего лишь фантазией отца, а к ней никакого отношения не имело. Ее болтовня так действовала мне на нервы, что у меня не оставалось другого выхода, кроме как взять свое белье и не прощаясь покинуть прачечную. Похоже, она не обиделась на меня за это. И все – таки сегодня вся ее сердечность и симпатия словно улетучились. Она меня оставила наедине с моими размышлениями о ее жизни. Кристина Яблоновска попрощалась, ей предстояла пересадка, и Катя прыгнула на ее место.
Обратно в лагерь я шла с Катей мимо нашего жилого блока, и вдруг перед нами возникла и закачалась какая-то бутылка. Мы остановились и взглянули наверх. На подоконнике открытого окна сидел тот маленький мужчина.
– Пожалуйста, возьмите и посмотрите. Очень прошу. – Он затянулся сигаретой и, сильно размахнувшись, бросил ее вниз. Бутылка прыгала вверх-вниз. Катя вырвала свою руку и побежала обследовать бутылку.
– Не надо. Пойдем, – прошептала я Кате, надеясь, что она сможет обуздать свое любопытство.
– У меня получится, подожди. – Она тянула и дергала, пока узел на горышке бутылки не развязался. Когда Катя запрокинула голову, я сдалась и тоже взглянула наверх.
– Ну, давайте, давайте. – Он сделал движение рукой, призывавшее меня вскрыть бутылочную почту.
– Почему вы больше не носите ваше летнее платье?
– Зимой? – Я смотрела наверх.
– Но осенью вы его носили.
Этот маленький человек меня преследовал. Он появлялся возле меня все чаще и назойливее, будто для него было делом чести не упускать меня из виду. Уже не первый день я сталкивалась с ним повсюду, он либо шел за мной, либо случайно попадался мне навстречу или сидел в прачечной, когда я приходила туда. Катя протянула мне бутылку, которую я у нее буквально вырвала. Иногда я видела, как он прохаживается взад-вперед у нашего блока, словно ждет, что я выгляну из дома. Свернутая трубочкой записка легко выскочила из горлышка.
– Что там написано? – Катя хотела взять у меня трубочку, но я дала ей пустую бутылку.
– Неважно, пойдем. – Я крепко держала трубочку и засунула ее в карман куртки.
– Это определенно поклонник, мама.
– Может быть. – Мы поднялись по лестнице. Маленькую бумажную трубочку я положила на верх платяного шкафа и решила ее не разворачивать. Пусть люди, которые будут жить после нас в этой комнате и пользоваться этим шкафом, узнают, что карлик там написал. Я это читать не собираюсь.
Как-то раз я хотела спросить у привратника, нет ли почты для меня, я была уверена, что должно прийти письмо от моей мамы, из которого станет ясно, когда приедет из Парижа мой дядя. Он ведь объявил о предстоящем визите, но я до сих пор не знала, когда этот визит состоится. Дождь лил как из ведра. И тут я увидела этого человечка, он стоял возле привратника, листал толстую телефонную книгу и не желал замечать, что за ним стоит, и ждет, и мерзнет еще кто-то. Он закуривал сигарету за сигаретой, и только когда я тронула его за плечо, отошел в сторону.Яспросила привратника насчет почты, но у него не было для меня никаких писем. Разочарованная, направилась я обратно к себе в комнату, мимо первого жилого блока, мимо второго, и вскоре заметила, что он идет рядом со мной. Он завел разговор. Что он уже давно за мной наблюдает, хотя это совсем не в его привычках, поскольку женщины для него ничего не значат, решительно ничего. Наблюдает он только за мной. Смеяться над ним не надо, он бы с удовольствием со мною познакомился, потому что я ношу такое красивое платье, которое никак нельзя надеть в дождь. Однако его слова звучали так настойчиво, надежда была такой неколебимой, что мне было совсем не смешно. Весь этот разговор о платье – только предлог для более короткого знакомства, думала я и, опасаясь этого, не ответила на его умоляющий взгляд. Пока мы шли, он все время бежал на шаг впереди меня, часто спотыкаясь, словно ему было трудно идти с такой же скоростью, как я, при этом он раз-другой толкнул меня плечом в грудь. И это тоже, как мне показалось, было не чем иным, как несколько неуклюжей попыткой сближения. Он неудачник, как он сам уверяет, слабак, даже бегство ему не удалось. Потом он каким – то чудом освободился, однако не верит в то, что государство само додумалось его купить. Вероятно, им пришлось принять его бесплатно, впридачу, когда им понадобился кто-то другой. Я кивнула, но этого ему было мало. Вот и я тоже, сказал он, вначале показалась ему нереальной, какой-то сказочной принцессой. Глаза его сияли. «Три орешка для Золушки», этот фильм я должна знать. Опять он как бы случайно коснулся моей груди. Теперь он видит меня уже другой, более земной, но мне незачем беспокоиться, у него с женщинами ничего не получается, он уже пробовал, но ничего не выходит. Я сомневалась в том, что он пробовал, но вполне допускала, что у него не получилось.
Я даже не хотела слушать историю о женщине, которая его бросила. Мне не хватало терпения выслушивать этого суетливого человечка. Однако он говорил и говорил, не дожидаясь моего одобрения. И я услышала его рассказ про то, как он с кем был на пляже, и предположила, что речь идет о той самой женщине. Я не хотела задавать лишних вопросов, опасаясь, что тогда уже его рассказу не будет конца. Как она сидела в своей пляжной кабинке, совсем одна, смотрела на море и не желала, чтобы ей в этом мешали, в то время как он кувыркался перед ней на песке, точно собачонка, и за это лишь изредка удостаивался презрительного взгляда. Возможно, страх, глубокий ужас виновны в том, именно это осталось его единственным ярким воспоминанием о тех семи годах. Это я должна себе представить – после семи лет она просто взяла и ушла.








