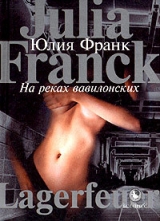
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Я ничего не хотела себе представлять, я оборвала его на полуслове, на середине предложения с восклицательным, а также с вопросительным знаком, сказала, что здесь я живу, и скрылась в своем подъезде.
За две недели в больнице Алексей потерял два фунта веса, лежал он палате с еще четырьмя мальчиками.
– Мы не ошиблись, в этой палате Алексей Зенф?
Мы трое подняли глаза и увидели в дверях высокую изящную фигуру. Жещина боязливо оглядывала присутствующих, рассматривала каждое лицо, пока не остановилась на наших лицах. За собой она вела маленького мальчика.
– Это мой сын Оливье, он бы очень хотел извиниться. Оливье, Оливье, давай извиняйся. – Оливье прятался за спиной у матери и с интересом разглядывал потолок. – Ты слышишь, Оливье? Или, может, сначала отец должен с тобой..? – Оливье хотел было топнуть ногой, но нечаянно угодил сапогом по ножке моего стула.
– Извините нас за вторжение. Мы сегодня так торопимся. – Эта мамаша не удостоила меня рукопожатия. Мать и сын были в брюках для верховой езды. Она стянула с руки тонкую лайковую перчатку. – Мы и понятия не имели, боже мой, пока нам в пятницу не позвонила учительница. В выходные у нас были гости, а теперь еще это. Оливье, извинись. Сейчас же. – Оливье слегка поднял руку, видимо, ожидая, что я ее подхвачу. Я ощутила только холодные кончики пальцев, которые он поспешно отдернул, словно боялся заразиться. Чума восточная, подумала я. Он сунул руки в карманы куртки и отвернулся от нас. Его мать достала из своей сумочки какой-то пакетик, завернутый в глянцевую бумагу, с большим серебряным бантом. Она вложила этот пакетик сыну в руки. Как только что обезвреженную бомбу бросил он этот пакетик на кровать Алексея, потом повернулся на каблуке и короткими твердыми шагами направился к двери. Женщина покачала головой; она была в больших очках с тонированными стеклами, сквозь которые улыбались ее глаза. Однако смотреть мне в глаза она избегала. Ни к Алексею, ни к Кате она не обратилась. Только улыбнулась собственному колену.
– Ах, уж эти дети, верно? Бьешься с ними, бьешься. Он все время был первым учеником, а теперь вот отличился. Она с любовью смотрела вслед сыну, который как раз закрыл за собой дверь. – Ну что с ними делать? – Она опять натянула перчатку. – Как я уже сказала, фрау Зенф, Оливье очень сожалеет. Ведь как это ужасно, когда звонит телефон, и ты снимаешь трубку, ничего не подозревая. – Женщина не удостоила Алексея и Катю ни единым взглядом, она взяла пакетик с кровати Алексея и дернула его за серебряный бант. – Учительница сразу сказала, что он там был не один. Но это все равно неприятно. – Женщина облегченно вздохнула и положила пакетик обратно на одеяло. Она откинула назад свои длинные, до плеч, волосы. Кончиками пальцев потрогала уголки рта, словно боясь, что блестящая помада уже стерлась. – К счастью, ничего страшного не случилось. Видите ли, Оливье все время уверял, что он не виноват, это другой мальчик подстрекал ребят. Но я сказала: извиниться он все равно должен. – Лицо ее приняло прямо-таки печальное выражение, она снова потрогала уголки рта. – В конце концов, он ведь хорошо воспитан. – Она засмеялась и потуже затянула на шее шелковый платок. – Мы, по крайней мере, заботимся о том, чтобы все было как надо. – И, помахав нам на прощание, она направилась к двери.
Ханс Пишке встречается в прачечной с Нелли Зенф
Ко дну барабана пристала какая-то темная тряпка. Я сунул руку в машину, чтобы вытащить, – как оказалось, это был чулок, – и выжал его, перед тем, как положить в корзину к другим вещам и отнести к центрифуге, но сначала я выбрал оттуда обрывки ниток. Воздух в прачечной был застоявшийся, у меня было такое ощущение, будто я вдыхаю эти обрывки ниток, теплые, плотные, влажные. Одну за другой я перекладывал вещи в центрифугу. Когда я поднял голову, то встретился с взглядом черных глаз, и кровь бросилась мне в лицо. Я смотрел, как она танцующей походкой подходит к раковине, открывает кран. Она крутила и выворачивала детские брюки, держала их под струей воды и растирала на коленях порошок. Потом она закрыла кран. Во рту у меня пересохло, я то высовывал, то втягивал язык. Ее волосы казались шелковыми, но на самом деле они просто блестели, блестели – и только. Людям вроде нее было хорошо, они могли стирать детские брюки и не спрашивать, зачем.
– В чем дело? – спросила она громко и неожиданно обернулась ко мне. Я испуганно оглянулся, но никого, кроме нас двоих, в прачечной не было.
– Ни в чем, извините. – Я отвернулся, чтобы она не увидела, как я покраснел.
– Как это "ничего"? Ты за мной следишь.
– Нет, правда. Я только смотрел в вашу сторону, в твою.
У нее на шее болталась тонкая цепочка с овальной подвеской, похожей на амулет. Ее круглые очки в серебристой оправе затуманились. Женщина, которая еще несколько недель назад ходила в летнем платье, и которую я в приступе тоски иногда провожал, чтобы излить ей душу, пожала плечами и стала тереть ткань маленьких брюк.
Я укладывал в центрифугу одну вещь за другой. Как-то раз я случайно услышал, как о ней говорили две женщины. Они сказали, что у нее нет мужа, и они должны прятать от нее своих мужей. Притом выглядела она совершенно безобидно. Возможно, она убежала от мужа. Слеза потекла у нее по щеке, оставляя след, и скатилась вниз.
– Извини.
– Да? – Она мяла ткань в руках и, казалось, не хотела, чтобы ей мешали. – В чем дело? – Теперь она все же взглянула на меня, ее черные глаза блестели.
– Почему ты плачешь?
– Как ты можешь меня об этом спрашивать? Мы ведь почти незнакомы. – Сжав в кулаке штанишки, она провела тыльной стороной руки по лицу, отирая влажный след.
– Иногда мы встречаемся, мимоходом, – сказал я и сообразил, что это, наверно, показалось ей попыткой оправдаться, притом неудачной. – Я спрашиваю только потому, что у тебя по щеке текла слеза.
– Я не плачу. Я стираю, и порошок ест мне глаза.
Я закрыл крышку центрифуги. Она начала было медленно крутиться, потом остановилась и задергалась.
– Может, у тебя есть другой стиральный порошок? – Женщина мне улыбнулась.
– Другой стиральный порошок? К сожалению, нет. Я тоже пользуюсь только этим. – Я показал на коробку. Стиральный порошок выдавали в лагере. Если человек хотел другой, он должен был выйти из лагеря и зайти в магазин по другую сторону улицы. Надо было пройти мимо привратника и мимо его красно-белого шлагбаума. Она разочарованно кивнула.
– Выкурим по одной? – Она положила брюки на стиральную доску. – Тебе редко приходится говорить с людьми, верно? – Она облизнула губы.
– Почему ты так решила?
– Потому что ты так бесцеремонно задаешь вопросы. О таких вещах ведь не спрашивают. – Она засмеялась. Этот смех я, наверно, должен был понимать как прощение. – Даже если бы я действительно плакала. Тем более.
– Ладно. – Я вдохнул дым сигареты и почувствовал нёбом приятно-противный сладковатый привкус, которым отличались только сигареты с Запада.
Теперь я могу сказать все, подумал я, и сказал:
– У тебя нет мужа.
– Почему ты спрашиваешь? – Она сощурила глаза и посмотрела на меня сверху вниз.
– Я не спрашиваю. Я знаю. Люди рассказывают друг о друге.
– Какие люди?
– Люди здесь, в лагере.
– А! – Она опять повернулась ко мне спиной и, с сигаретой в углу рта, стала полоскать брючки под краном. – Нелли, – она обернулась ко мне через плечо и протянула мокрую руку.
– У тебя на ресницах опять слеза.
– Это от дыма, – засмеялась она и, проведя пальцем под очками, стерла слезу.
– Да я понимаю, причин много. – Она протягивала мне руку, ждала. Я не решался пожать ее руку, и в то же время мне не терпелось это сделать. Обижать ее я не хотел. – Ханс.
– Что за рукопожатие. – В ее глазах я подметил отвращение.
– Какое же?
– В том-то и дело, что никакого. – Она заморгала и стала рукой разгонять дым. Когда она опять отвернулась к раковине, я отер руку о брюки.
– Ты открыла мою бутылку с посланием?
– Твою бутылку с посланием? – Она удивленно смотрела на меня, потом ее лицо прояснилось, как будто она только сейчас вспомнила, что несколько дней тому назад я спустил ей из окна бутылку, которую сперва поймала ее дочка, а потом она. – Ах, это.
– И что?
– Я не читала, еще не читала. – Она засмеялась. Л духи тоже были от тебя? Верно?
– Какие духи?
– Ты мне оставил у привратника духи. А за несколько дней до этого у меня на дверях комнаты оказался букет цветов. Они от тебя. Верно? Смотри не влюбись.
– Не беспокойся, любить я не могу.
Она недоуменно смотрела на меня.
"Не беспокойся, любить я не могу!" Я сказал это громко, чтобы перекрыть стук центрифуги. Однако она, судя по всему, была уверена в обратном, а потому смотрела недоверчиво. Я нажал на крышку центрифуги. Крышка отскочила и, несколько раз дернувшись, центрифуга остановилась.
– Так плохи дела? – Казалось, она не хочет принимать меня всерьез.
– Нет. – Я невольно улыбнулся, наклонился и запустил руку в центрифугу. – Ты ошибаешься. Дела вовсе не плохи.
– Если ты будешь шептать в барабан, я не пойму ни слова.
– Дела вовсе не плохи. – Я выпрямился и выжал рубашку.
– Как ты обращаешься со своим бельем! Можно подумать, у тебя в руках что-то хрупкое. – С насмешкой смотрела она на мои руки.
– Правда?
– Да.
– А разве белье – это не ценность? – Я наклонился и положил белье в корзину.
– Смотря как к этому относиться. – Она пожала плечами и села на скамейку. – Иди сюда, сядь со мной рядом. – Хотя мое белье было готово, и я мог уйти, я сел с ней рядом и, поскольку она молчала, а я не знал, что сказать, то я заметил:
– Представь себе, мне пришлось покупать новые вещи только потому, что я недостаточно бережно обращался с бельем.
– И что? Теперь ты купил себе новое.
– Ради этого я был вынужден пройти мимо привратника.
– Для этого ты как минимум вынужден был пройти мимо привратника.
Нелли искоса выжидательно смотрела на меня.
– Этого я не делал уже добрых тринадцать месяцев. – Я рассмеялся. Мне пришло в голову, что это не вяжется с историей о посланных мною цветах. Ведь на территории лагеря не было цветочного магазина, так откуда же этот посланец мог взять цветы, если не из города.
– Ты выдумываешь.
Чтобы подтвердить ее сомнения, я засмеялся, хотя смех мой звучал фальшиво, но этого она заметить не могла. Тем не менее я сказал:
– Ни духов, ни цветов, мне очень жаль. – Я покачал головой и удивился уверенности, с какой она подозревала в этом меня. Чем упорнее я это отрицал, тем вроде бы увереннее она становилась. Эта ее уверенность меня даже радовала, льстила мне.
Нелли рассмеялась, как будто поймала меня на лжи.
– Ну, так или иначе, я тебе благодарна. Но прими мое предосторежение всерьез. Ты зря потратишь силы.
Вот на что меня считают способным, сказал я себе, пока еще сам в это не веря. Может ведь быть и так, что она до сих пор не вскрыла мою бутылочную почту, и в данную секунду я ничего так горячо не желал, как того, чтобы она никогда ее не вскрыла, а в бутылке оказался бы пустой листок, или, по крайней мере, чтобы он еще оставался у меня. Мне понравилось представлять себе, как я ее люблю, то, что она считала меня способным любить, придавало мне в этот миг ощущение легкости и веселья. Какие же цветы висели перед ее дверью? И как можно решиться послать женщине цветы? Я завидовал ее поклоннику. Он умел даже выбрать духи, в то время как я здесь курил ее сигареты и рядился в его перья.
– Под конец мне попался сокамерник, который хотел, чтобы я его любил, – сказал я.
Нелли предложила мне вторую сигарету, которую я взял, словно я был не я, а кто-то другой, человек, который живет полной жизнью и каждый день болтает с такой женщиной, как Нелли, дарит цветы, любит и смеется.
– Ты был в тюрьме?
– Но я не мог, понимаешь. При том, что он был действительно симпатичный. Не такой, как те, с кем мне приходится жить здесь, в лагере.
– Чтобы любить мужчину, нужно, наверно, что – то другое, – она улыбнулась.
– Почему?
– Да так. Будучи мужчиной, хочу я сказать. А почему ты сидел в тюрьме?
– Ничего захватывающего.
– Когда ты однажды провожал меня домой, то рассказывал о неудавшемся побеге.
– Смешная история.
– Длинная?
– Да я уже не помню.
Она недоверчиво смотрела на меня.
– Года четыре, наверно.
Секунду она молчала, может быть, размышляла о том, что это означает: четыре года. Задумчиво постукивала носком туфли по стиральной машине. – Тебе хочется меня пощупать, правда?
– Потому что я был в тюрьме? – спросил я быстрее, чем успел подумать и выиграл время для того, чтобы испугаться и создать ее образ, который распался у меня на глазах, словно она была из пепла. Она показалась мне серой и расчетливой. Серенькая кучка, давно испробованная и давно сожженная.
– Мне очень жаль. С тех пор, как мы здесь разговариваем… – Я умолк и задумался: не обижу ли я ее ненароком, если признаюсь, что мне даже на секунду не приходило в голову к ней прикоснуться.
– Да ладно, – отозвалась она, как будто знала, что я хотел сказать. Она накрутила себе на палец прядь волос и ногой оттолкнулась от стиральной машины. Скамья, на которой мы сидели, чуть подвинулась назад.
– Отец моих детей пропал уже добрых три года назад. Ты с ним случайно не встречался?
– Пропал?
– Умер, как говорят одни. Другие им не верят. Я не знаю. Я могу представить его себе мертвым, а могу живым. Я ни во что не верю. – Она взялась за маленькую овальную подвеску, и та проскользнула у нее между пальцами.
– Как его имя?
– Василий. Но что значит имя? Баталов, Василий Баталов.
– Русский?
– Вероятно.
– Ты как будто хорошо его знала.
Она словно не хотела замечать моей иронии.
– Достаточно хорошо. – Она открыла старомодный амулет и показала мне фотографию.
Я бросил беглый взгляд на крошечный черно – белый снимок в медальоне, который она держала в руке перед грудью. Чувство легкости стало у меня таять, вместе с представлением, что я способен ее любить. Я согласно кивнул.
– Он был высокий, я прав?
– Достаточно высокий. – Нелли все еще протягивала мне фото, но я его не взял. – В чем дело? Ты его знаешь?
– Откуда я могу его знать?
– Ну, возможно, по тюрьме.
– Большую часть времени я был там один. – Я бросил еще один взгляд на фотографию. – Теперь он мне кажется знакомым.
Нелли закрыла медальон и спрятала его у себя в вырезе платья.
– Ах, ты фантазируешь. Если ты посмотришь на него в третий раз, то будешь уверен, что знаешь, а на четвертый скажешь, что это твой сокамерник. Верно я говорю?
– Может быть, – кивнул я, точно застигнутый врасплох. Действительно, если несколько раз взглянуть на фото, то усиливается ощущение, что ты знаешь этого человека, именно потому, что на фото человек не двигается, а двигается только в воображении смотрящего, когда тот на секунду отводит взгляд. Когда госбезопасность или какая-нибудь западная секретная служба показывали мне фотографии, случалось, что люди на них казались мне знакомыми. – Ты по нему тоскуешь?
Она напряженно смотрела на стиральную машину, губы ее шевелились, искали верное слово, начало, потом она опустила глаза и встала.
– Твое белье готово, да? – Она бросила взгляд на мою полную корзину. – Тогда я не стану тебя задерживать.
Ты меня не задерживаешь, мог бы я ей сказать, но для этого я чувствовал себя слишком отяжелевшим, и даже то оживление, которое я почерпнул из ее уверенности, будто я в нее влюбился, исчезло. Я тоже встал и взял свою корзину. Она меня не задерживала, не сказала ни одного слова, на которое я мог бы ответить, и я толкнул дверь.
– До скорого, – сказал я, выходя, но она, видимо, не слышала. В лицо мне дохнуло холодом.
Над лагерем ревела сирена, со стороны привратника прямо на меня катила пожарная машина. У моего блока уже стояла машина "скорой помощи" и изливала на людей тревожный синий свет. В сумерках лица были почти неузнаваемыми. На стенах домов мерцали синие проблески. Я побежал быстрее, миновал два первых подъезда. Люди, собравшись группками, глазели наверх. Я не проследил за их взглядами. Выставив перед собой корзину с бельем, я пробивался сквозь толпу, – люди стояли вплотную друг к другу. Я узнал детей Нелли, они держались за руки. "Проход, освободите проход, внимание, пожалуйста, отойдите в сторону!" – звучало из мегафона. Толпа дрогнула, но люди почти не двинулись с места. Какая-то женщина позади меня весело рассмеялась. "Она осталась должна мне десятку". – "Ну, о десятке можешь теперь забыть", – услышал я, как ей отвечает какой-то мужчина.
К стене приставили пожарную лестницу. Сумеречный свет, смешиваясь с синим светом мигалок, казалось, дробил предметы на части. Я едва мог сложить из них целостную картину. Вдруг чья-то рука схватила мою, я ее отбросил. Когда я обернулся, то увидел страх в лице Нелли. Она пошла за мной с корзиной под мышкой. Когда она стояла вот так, рядом, то казалась на целую голову выше меня. Я чувствовал ее дыхание.
– Твои дети стоят вон там, – сказал я ей и указал в ту сторону, где, как я полагал, находятся ее дети. Нелли кивнула и повернулась, пытаясь проложить себе дорогу к детям. Внизу, в моем подъезде, люди стояли так плотно, что я едва смог войти. Лестница наверх была свободна, и я отдышался, еще до того, как я включил свет в своей комнате, я увидел в окно пожарного, который лишь в нескольких метрах от меня стоял на своей лестнице и, отчаянно жестикулируя, пытался что-то объяснить коллегам внизу. Я остановился в дверях, не смея ни включить свет, ни подойти к окну, чтобы задернуть занавеси. С дерева свешивалось что-то белое, какой-то кусок ткани, ночная рубашка. Из рубашки торчала голова. Синий свет мерцал на стенах комнаты. Пожарный находился вровень со мной, и я увидел, как он вскинул ночную рубашку к себе на плечо, завозился с веревкой, которую она наверняка связала крепким узлом, и вместе с телом стал осторожно спускаться по лестнице. Я подождал, пока его каска и белый кусок ткани не скрылись из виду. Даже не всматриваясь внимательно, я понял, что это была та старая женщина, которая в течение моего пребывания здесь занимала комнату прямо надо мной. Казалось, ей тоже не удался прыжок из лагеря на свободу, – или все-таки удался. Я ей завидовал.
У Кристины Яблоновской появляются новые мысли
Я высыпала на сковородку с жиром одну порцию "помм фрит" за другой, смотрела, как танцуют картофельные палочки, как кипит и пузырится жир, пока палочки не зарумянятся и не придет очередь следующей порции. Глаза у меня слипались от жира. Время не желало двигаться. Однажды я попыталась засунуть волосы обратно под чепчик, и "помм фрит" почернели прежде, чем я успела поднять решетчатую крышку.
– Быстрее, – кричала кассирша, – ты должна быть попроворнее! – Она нетерпеливо барабанила по кассе. Лоб ее блестел. Иногда я задавалась вопросом, куда она так спешит, в конце концов, работаем мы не сдельно. Возможно, она получала процент с оборота. Несколько дней назад мне пришло в голову, что если я за более короткое время высыплю на сковородку больше картофельных палочек, то это умножит не чьи-то, а именно ее доходы. Мне срочно понадобилось в туалет, но я не осмеливалась попросить разрешения.
– Быстрее, эй, ты что, не поняла?
Я обернулась и кивнула ей. Как я ни старалась и какой проворной ни была, ее время бежало, а мое стояло на месте.
– Недожарено, – сказала она, и вытрясла мне на сковородку целую порцию. – Послушай, клиенты жалуются, ты вообще имеешь понятие, что такое работа? – Кассирша спрашивала, не ожидая ответа. Она думала, что я совсем не понимаю по – немецки, а мой немецкий язык понять и не пыталась. И я перестала ей отвечать.
– Можно мне в туалет?
– Что ты хочешь? – Она непонимающе уставилась на меня, приложила руку к уху: – Говори четче, когда ты ко мне обращаешься, по-нормальному, по-немецки.
– В туалет мне можно?
– Прямо сейчас? – Кассирша показала на очередь к ее стойке, а я всыпала еще больше "помм фрит" на сковородку и перевернула колбаски, добавила новых, достала из кармана фартука носовой платок и попыталась высморкаться, нос у меня, казалось, был забит испарениями жира. Я стиснула бедра, чтобы не случилось беды. Лицо у меня горело. Жара не ослабевала, воздух был тяжелый. Люди вокруг меня двигались, как в замедленном кино, мелькали перед глазами. Даже стрелка часов, казалось, отяжелела от жира.
– В кожуре! – кричала кассирша, так, словно повторяла это в десятый раз, что было вполне возможно.
– В кожуре, ты понимаешь или нет?
Я потрогала колбаски, все они были без кожуры. Мне надо было к холодильному прилавку. Всего – то четыре шага назад, колбаска в кожуре, четыре шага вперед, пять без кожуры, десять в кожуре, и все с карри. Порошок раздражал ноздри. Но еще сильнее беспокоил меня зуд ниже поясницы, куда у меня едва доставали руки, и мне никто не разрешал, не давал времени чесаться. Колбаски лопались, одна за другой. У моего отца был шрам на руке, такой длинный, словно кожа там лопнула, но так и не зажила. Когда он на меня орал, то повторял, что это я виновата, что это из-за меня у него такой шрам. Когда мне было двенадцать лет, я как-то переходила улицу со своей виолончелью, мы шли в Варшавскую консерваторию, где я должна была выступать. И я, слепая курица, должно быть, не заметила трамвая, а поскольку отец шел всего в нескольких метрах позади меня, то он изо всех сил стукнул по виолончели, чтобы она не угодила под колеса. И вот теперь у него этот шрам. Я перевернула колбаски и провела щипцами по кожуре, чтобы она скорее лопалась. Если начать сверху и достаточно быстро провести черту до конца, то могло получиться, что на колбаске окажется всего одна более или менее прямая трещина.
– Два шашлыка, – кассирша смотрела мне через плечо, – ты еще не положила жариться шашлык? – Она вздохнула, протянула свою красную ручищу поверх меня, схватила два шампура, чтобы бросить их на жаровню, кусок мяса оторвался и плюхнулся в сковородку с жиром. Жир брызнул мне на руку. Кассирша застонала. Соната для виолончели и фортепьяно в g-moll, в день, когда умер Ежи, и я пришла слишком поздно, потому что в лагере меня не смогли известить, – в тот день я, когда ехала на работу, сошла на одну остановку раньше и заглянула в магазин пластинок. Я прослушала эту сонату. Играть, как эта Жаклин Дюпре, я никогда не смогу. Однако тут я впервые поняла, чем так восхищался Ежи.
Ресторан быстрого питания вдруг разом опустел. Только еще один посетитель стоял возле кассы и дожидался своих двух шашлыков.
– Эти, с Востока, все на один лад. Все равно откуда. Вот, одна уверяет, будто у нее есть опыт, да куда там. – Кассирша закурила сигарету и указала в мою сторону. Чтобы не случилось беды, я стояла, слегка наклонившись вперед, скрестив ноги; и поворачивала шашлыки. Мужчина глотнул пива из бутылки. Кассирша ворчала, даже не давая себе труда понизить голос, наверно, она думала, что я не понимаю. – Они понятия не имеют, что такое работа. Можете хоть сто раз им объяснять. Они не понимают. – Мужчина что-то ей ответил, чего я не поняла. Она рассмеялась и одобрительно ему кивнула.
Шашлыки были готовы, теперь – паприка, карри и кетчуп. Я пододвинула к ней картонную тарелку, когда открылась дверь и вошла Петра.
– Пересменка! Переодевайся, – сказала мне кассирша. Мелкими шажками я побежала в туалет. Только я села, кто-то нажал на ручку. Через тонкую дверь я услышала что-то похожее на "ах, так?" и "часы". Я прикидывала в уме, сколько мне удалось на данный момент сэкономить, и решила с сегодняшнего дня откладывать не только пятнадцать, но и все тридцать две марки дневного заработка. Таким образом, я смогла бы через две недели забрать у антиквара свою виолончель. В маленьком чулане Петра натягивала майку. Груди у нее были круглые, как у молоденькой модели в бельевом каталоге. Она испуганно обернулась ко мне: "Я тебя даже не слышала".
К нам присоединилась кассирша.
– Опять кое-чего не хватает, – сказала она, обращаясь к Петре через мою голову.
– Много?
– Как сказать, почти двенадцать марок. И это в такой день, как сегодня. – От злости она брызгала слюной. Она еще раз пересчитала банкноты и как бы в доказательство выложила их перед нами на узкий шкафчик. Время от времени она облизывала кончики пальцев. Собрала всю мелочь и составила ее башенками рядом с банкнотами. – Ну вот, десять двадцать три, – сказала она Петре, потом посмотрела на меня: – Ты ведь не воруешь?
Я покачала головой, думая, что бы я могла ответить.
– Обирать себя я не позволю, ясно тебе? Всякий раз, как я отлучаюсь, беру ключ с собой. – Она переводила взгляд с меня на Петру и снова на меня. Потом остановила его на Петре: – Придется у нее это вычесть. Еще не хватало, чтобы в такой день, как сегодня, я доплачивала из своего кармана. Пусть она не думает, что ей это сойдет с рук. Да, ни на секунду нельзя отвернуться – они тут как тут.
– Может быть, ты ошиблась, когда давала сдачу? – Петра сказала это тихо, как бы между прочим.
– Я?
– Бывает же.
– Со мной – нет, моя дорогая, можешь мне поверить, я двадцать пять лет за кассой. – Кассирша бросила еще один осуждающий взгляд на меня и, не сказав больше ни слова, направилась к кассе. Там она поздоровалась с Гертой, своей сменщицей.
– Не бери в голову, – сказала мне Петра, застегивая халат. Она моргала левым глазом, и я не была уверена, что она делает это нарочно. Каждый раз я спрашивала себя, был ли это нервный тик, или подмаргивание было обращено ко мне. Она вынула из сумки маленькое зеркальце, подкрасила губы, поджала их, потом по очереди выпятила. – Если тебе интересно, что я думаю, то я скажу: деньги она всякий раз кладет себе в карман. – У Петры были тонкие губы, которые она подкрашивала в виде сердечка. Сейчас она достала чуть более темную помаду и подкрасила ею только нижнюю губу. – Будь я кассиршей, делала бы то же самое. – Петра наложила белые тени для век и еще раз бросила взгляд в маленькое зеркальце прежде, чем его закрыть. – Я отсюда сваливаю.
– И кем будешь работать?
– Представительницей. Представительницей фирмы. Видишь эту помаду? Такой в обычных магазинах не бывает. Эксклюзив. Ради этого я приглашаю к себе домой нескольких приятельниц, ставлю на стол соленые палочки и предлагаю им "кока-колу". Всё за счет фирмы, как ты понимаешь. – Она сунула в рот жевательную резинку и протянула мне пачку. Я взяла одну, хотя жевательную резинку я не люблю.
– Красивый цвет. – Я ей кивнула.
– Ты бы тоже наверняка могла этим заниматься. – Петра достала пудреницу и напудрила нос, лоб и подбородок.
– Ах нет. Спасибо. У нас слишком маленькая квартира. – Я невольно подумала об отце, который лежал в лагере на своей койке и надеялся, что в один прекрасный день явится какая-нибудь Нелли или произойдет какое-нибудь чудо. Вечерами, когда я возвращалась с работы, он говорил, что из-за меня он здесь загнется, потому что это мне пришла дурацкая идея попытаться вылечить на Западе брата, который все равно умер. Вчера вечером он мне впервые сказал, что Ежи умер по моей вине, он просто не вынес переезда. Я на это ничего не ответила.Если бы мы остались в Щецине, он был бы еще жив.В последние недели я перестала отвечать отцу, я давала ему выговориться, и он выкладывал все, что думает. Он тоже со временем будет на ее совести, ему это ясно уже сейчас. Я жевала осторожно, чтобы у меня не выпали пломбы. Жевательная резинка была со вкусом земляники и такая большая, что я боялась подавиться.
– Ятоже сначала думала, что в своей квартире делать этого не смогу. Тогда шеф сказал мне: никакая квартира не может быть слишком тесной, разве что каталажка. – Она засмеялась. – Где на первый взгляд тесно, там зато уютно, и товары выглядят значительнее. Было бы только хорошее настроение.
– Вы возьмете еще кофе, или что-то другое? Ну живее, живее. – Кассирша строго смотрела на нас и продолжала разговаривать с Гертой. Живее. Я представила себе хорошее настроение Петры и подумала: как приятно было бы посидеть здесь подольше и послушать ее. День ото дня мне все меньше хотелось возвращаться в лагерь к отцу. Неужели это будет мой дом? Петра живет на севере Берлина, в одной из городских новостроек. Квартиры там были доступны по цене, и в них имелось все необходимое: горячая вода, отопление, встроенная кухня. В каждом доме – лифт. Пол в квартирах выстлан ковролином, а мусор прямо из кухни сбрасывается в подвал. Рассказывали даже, будто там есть переговорные устройства, чтобы узнать, кто пришел. Почему бы и мне не иметь такую маленькую квартирку, как у Петры? Мне бы даже не надо было тащить виолончель сначала в лагерь, чтобы ее увидел мой отец, я могла бы принести ее от антиквара прямо в эту маленькую квартирку и наняться на работу в какую-нибудь музыкальную школу. – А настроение я могу создать сама. Нет, честно. – Петра захлопнула пудреницу.
Я сняла чепчик. Петра схватила меня за руку.
– Но чур не болтать, понятно?
Я кивнула.
– Им незачем это знать. Пока я не подпишу договор, я не уволюсь.
– Не беспокойся, – сказала я и сняла халат.
– И еще кое-что. – Она опять схватила меня за руку. Я повесила фартук на крючок и взяла свою шубу, которая была уложена в большой пластиковый мешок, чтобы не провоняла жиром.
– Да?
– Вопрос немножко неприятный, но раз уж мы так друг другу доверяем, Яблоновска, скажи: ты пользуешься "Део"?
– Пользуюсь чем?
– "Део". Я имею в виду дезодорант. – Букву "Т" в конце слова она выговорила особенно четко. – Ты не знаешь, что это такое? Такая брызгалка, чтобы не пахло потом. Понимаешь, когда целый день работаешь, да еще в таком тесном помещении. Ну, я просто хотела тебе это сказать, ничего? Она расстегнула заколку, встала перед небольшим зеркалом, висевшим возле гардероба, и, тряхнув головой, распустила волосы. Она заметила, как я за ней наблюдаю, и подмигнула мне. Волосы у нее были красивые, рыжевато-белокурые, только у корней – более темные. Она достала из сумочки какой-то флакон и чем-то побрызгала волосы. Был ли у этой брызгалки приятный запах, я сказать не могла. От жира нюх у меня притупился.
– В чем дело? Закрой-ка рот, а то муха влетит. – Она рассмеялась, а я закрыла рот. – Ты не сердишься на меня, Яблоновска? – Она собрала волосы в "конский хвост", что не подходило к ее возрасту.
– Нет.
– Ну, скоро ты там? – Герта села за кассу.
– Все это, конечно, между нами. – Петра ловко скользнула в дутую розовую зимнюю куртку. Вокруг ее шеи сомкнулся белый венок из искусственного меха. – Вчера куплено. Как я выгляжу?
Я невольно вспомнила русских детей, но сказала:
– Как младенец Иисус, как смесь младенца Иисуса с эскимосом.
Петра удовлетворенно кивнула. Сняла куртку и повесила ее на вешалку.
– Сейчас мне пора идти. – Она толкнула меня вперед, мимо плиты, мимо кассы и прилавка.








