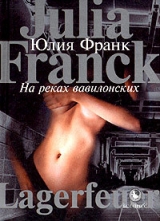
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Неизбежно последовал вопрос Биргит, нашел ли я, наконец, работу или квартиру. Эта цель казалась мне иллюзорной.
– Черт побери! – проревел кто-то мне в ухо, и две руки стиснули мое горло. – Я человек миролюбивый, миролюбивый, черт побери.
Неожиданно он отпустил меня, а мне пришлось ухватиться за стул.
– Извините. – Я пытался высвободиться из его объятий, однако мой сосед по комнате опять сдавил мне горло.
– Хочу другую комнату, – ворчал он, завязывая ботинки. – Это наглость, наглость.
– Извините, – сказал я еще раз, после чего он вскочил, сорвал со стула свою куртку и захлопнул за собой дверь.
Биргит и Чезаре были мои единственные знакомые в Берлине, а если разобраться, то и единственные знакомые, какие были у меня на Западе, хоть я и мог сознаться себе в том, что на Востоке их у меня было ненамного больше. По крайней мере, если не отказывать слову "знакомые" в некотором дружеском смысле.
Мы выпили кофе в честь дня моего рождения – первый "нескафе" в моей жизни, – и даже предложили чашечку тогдашнему моему соседу, но он как раз собирался, в рубашке и при галстуке, на предварительное собеседование. Биргит похвалила вид, какой открывался из моей комнаты на такой же новый дом напротив и на комнаты других обитателей лагеря.
В жизни приходится рисковать, – повторил Чезаре, при этом он с удивлением оглядывал двухъярусную кровать и тесную комнатку, где я вот уже сколько месяцев – он сосчитал по пальцам – влачил свое существование, и сравнил ее с тесной клеткой хищника, которая, очевидно, была знакома ему не понаслышке.
– Получилось! – радостно возвестил мой сосед, вбежав в комнату. Одной рукой он держал у носа платок, другой принялся запихивать свои вещи в сумку.
– Это можешь оставить себе, – сказал он и пододвинул ко мне по столу только что открытую пачку сигарет. – Будь здоров. – Он удалился, и я опять остался единственным жильцом этой комнаты.
В конце концов, Биргит схватила Чезаре за руку, словно ей надо было набраться мужества, чтобы задать вопрос. Они хотели утащить меня на какую-то вечеринку. Правда, она начнется только в полночь, добавил Чезаре.
– Слишком поздно, – заметил я, не выдавая чувства облегчения, – ведь в это время, да еще на целую ночь я теперь уже разрешения не получу. – Ногтем большого пальца я пытался соскоблить лак с фигурки мальчика.
– Разрешение? – Чезаре огляделся, рассмеялся и сказал: – Дружище, я думал, тебе под сорок. Дружище, где твоя мамочка? Какое еще разрешение?
Я с удивлением смотрел на Чезаре. Тут Биргит ущипнула его за руку и объяснила ему, не решив пока что, надо ли ей от возмущения говорить громче, или же, наоборот, очень тихо:
– Он должен отпроситься у лагерного начальства, Чезаре, если уходит на всю ночь. – Морализаторский пафос ее слов, кажется, продолжал вибрировать в воздухе еще долгое время после того, как она замолчала. Я встал и сделал вид, будто я должен застелить постель, разгладил одеяло, стыдясь при этом скорее бесполезности своих действий, нежели своего явно жалкого положения.
Мягкий шум раздался в моем левом ухе, нас троих разделяло молчание, пока Биргит не сказала:
– Ну, раз так, мы пойдем, – и они ушли.
Я открыл окно и увидел, как они выходят из дома. Чтобы они меня не заметили, я не уселся, как обычно, с сигаретой на подоконник, упершись ногой в раму. Блеклый неоновый свет, освещавший им выход из дома, был слишком слабым, чтобы можно было узнать их лица.
– Бросила? – услышал я недоверчивый голос Чезаре. – Как это можно себе представить? Женщина никогда не могла бы так поступить, никогда.
Они остановились, и я увидел, как Биргит вцепилась в Чезаре.
– Мамма миа, да этого и нельзя понять, – прошептала она, – никто не знает, почему, но он больше никогда ее не видел.
– Она наверняка была больна, – заметил Чезаре.
– Вовсе нет.
– У нее был любовник!
– Замечательная идея. Но разве этого достаточно?
– Когда это было?
Шум у ушах у меня стал громче; помимо стука и рокота, который напомнил мне поршни мотора в чреве корабля, раздавался певучий, звучный шелест, скребущее царапанье, которое я должен был спокойно терпеть – до тех пор, пока до меня не донеслись металлический звон и лязг, похожий на звук запирающегося замка, и чьи-то голоса:сохраняйте спокойствие, господин Пишке, иначе это не исчезнет.Случались такие мгновенья, как это, нынешнее, когда я прямо наслаждался шумом, царапаньем и шелестом, защищавшими меня от громких голосов снаружи, преграждавшими им дорогу, настолько переполнявшими мой слуховой проход, что ответа Биргит не было слышно, равно и того, как она рассказывала кому-то незнакомому, что движет мою жизнь, что для меня важно, и я увидел, как Биргит схватила его за руку и потащила, хотя он мотал головой и, удаляясь, говорил что-то вроде: «Возможно, поэтому он такой». И еще: «Я в это не верю, нет, не верю».
Я погасил сигарету о подоконник, шум куда-то отступил, и я бросил ее вниз. Я расслышал даже, как она там упала внизу, – словно прижимался ухом к мостовой. Воздух был влажный. Мне даже показалось, будто я слышу тихое шипение, как если бы погасла последняя искра пламени. Я обернулся, взял со стола своего тезку и поспешил бросить придурка-красногвардейца в помойку. Не потому, что эта детская фигурка меня раздражала, конечно же, нет, просто я ни за что не хотел, чтобы она стояла у меня в комнате. По-настоящему раздражал меня рассыпанный "нескафе", который я всячески пытался убрать, но следы которого еще много дней обнаруживал под столом и у себя на джемпере, даже возле туалета.
Младенец за стеной орал без передышки, теперь к этому прибавился еще и голос женщины, он звучал визгливо, и хоть я пытался заткнуть уши и ничего не слышать, от нее я узнал, что он ни разу не встал среди ночи, чтобы успокоить ребенка. Голос мужчины – попытка ответа – был низкий, ворчливый и звучал недостаточно долго, чтобы дать объяснение и тем более успокоить, поскольку я тут же снова услышал женщину: она повторила фразу, которую твердила целую неделю: "Я больше этого не выдержу, слышишь, я больше не могу".
"Тогда убирайся вон", – прошептал я себе в чашку, и наверное ее муж сказал нечто подобное, во всяком случае, она расплакалась; ее плач напоминал колокольный звон, – звуки были высокие и короткие, и следовали друг за другом, как толчки; "тюрьма", – прорыдала она, затем раздался стук, грохот, словно младенца швырнули об стену или, по меньшей мере, сломали стул и отколотили кого – то по голой заднице. Потом наступила странная тишина. Я не услышал ни вскрика, ни хныканья, так что я рисовал себе, как она с искаженным лицом валяется на полу, а он, измученный, стоит возле нее на коленях, испытывая облегчение от того, что заставил ее замолчать, прервать упреки, и пронизанный ледяным ужасом, который отчасти оправдывал его поступок. Младанец, казалось, передохнул и орал теперь во все горло. Последний глоток кофе был холодным. Я надел шапку, слева и справа натянул ее на виски, словно шоры, так, чтобы мое лицо было как можно труднее разглядеть, и прислушался, прежде чем открыть дверь комнаты. Коридор был пуст, дверь в соседнюю комнату только притворена, но казалось, будто в квартире, кроме младенца, никого нет. Тем не менее я вышел на цыпочках, дверь запер осторожно – так, чтобы она не издала никакого, ну ни малейшего скрипа. Вырвал у себя волос – с затылка, где они были длиннее остальных, – и просунул его в щель запертой двери. А как еще мог я удостовериться, что за время моего отсутствия никто не открывал дверь в комнату и не шарил там? И я быстро вышел из квартиры.
Джон Бёрд становится свидетелем
На следующее утро я на своем "мерседесе" поехал на Аргентинише Аллее. Включил радио.Take а chance of те.[2]Радиовещание американского сектора. Берлин. Восьмичасовые известия. Нелли. В голове у меня все еще звучала эта песня; я миновал охранников из службы безопасности. Позволил снять с себя куртку, приветливо кивнул секретарше и поздоровался с начальством.
Так что я снова присутствовал при том, как Нелли Зенф задавались вопросы. На сей раз допрос вел Флейшман. Он был одном из старейших и опытнейших сотрудников. Нелли пришла в том же платье, что и вчера. Ее стул стоял посреди комнаты, стола перед ним не было, не было и банки с кока – колой, за которую она могла бы держаться.
– Ваши дети хорошо устроены? – Флейшман начинал чуть издалека. Голос у него был теплый и прокуренный.
– Мои дети в лагере, у священника. Они рисуют.
– Любят рисовать, да?
– Школа откроется только через неделю. Но вы, конечно, это знаете. Сначала я должна ответить на ваши вопросы, вам надлежит убедиться, что никто из нас не болен заразной болезнью, так? Тогда нам можно будет смешаться здесь с остальными. – Нелли Зенф сообщала нам наши собственные правила. В ее голосе не слышалось ни малейшего разочарования или горечи, жалость к себе словно бы тоже ей не свойственна. Возможно, она слегка подсмеивалась над мерами предосторожности, с какими ее здесь принимали, но из-за этого не расстраивалась.
– Ах да, верно. – Флейшман стоя перелистал ее дело. – Вчера коллеги Гарольд и присутствующий здесь Джон Бёрд, – он кивнул в мою сторону, – расспрашивали вас о вашем спутнике жизни, Василии Баталове. Вы познакомились с ним в Берлине?
– Мы не жили вместе.
– Но он отец ваших детей. Так вы познакомились с ним в Берлине?
– Да. – Нелли перевела внимательный взгляд с Флейшмана на меня и неожиданно улыбнулась.
Флейшман подошел к ней поближе.
– Да? – Голос его был почти дружелюбным, манил теплотой, пониманием умудренного жизнью человека.
– Нет, ничего я невольно подумала кое о чем другом.
– И о чем же?
– Этого я бы говорить не хотела. Ведь я не обязана, верно? – Она отвела с лица прядь волос и опять улыбнулась. Возможно, она узнала во мне старого знакомого, мы ведь вчера уже встречались, – и сейчас это могло создать у нее ощущение непривычной близости. Я был ее старый знакомец. Ее туфля беспокойно покачивалась вверх-вниз. Ноги, поросшие черными волосками, казались матовыми и отливали желтизной, а в сравнении с ее вообще очень светлой, даже почти белой кожей они выглядели подкрашенными, и этому могло быть только одно объяснение: к своему цветастому платью из легкой, и, как я предполагал, полупрозрачной ткани, основным цветом которой был яркий лимонно-желтый, она надела ярко-желтые нейлоновые колготки. И синие босоножки тут тоже не очень подходили.
– Нет. Вы ничего не обязаны. – Мнимое дружелюбие Флейшмана не уменьшилось ни на йоту, возможное разочарование, вызванное ее замкнутостью, на его поведении никак не сказывалось. – Но я могу вам сказать, о чем вы подумали. О том, что с Баталовым вы познакомились вовсе не в Берлине.
– Не в Берлине? – По телу Нелли прошла судорога, ее нога перестала покачиваться. Она с удивлением, почти с любопытством смотрела на Флейшмана.
– Вы познакомились с ним в Аренсхоопе, Хоэ Уфер, двадцать девять. Припоминаете?
– Как вы сказали? – Нелли закашляла.
– Дочь хозяина дома пригласила в гости вас и еще нескольких друзей. Там вы впервые встретились с Баталовым.
– В Аренсхоопе? – Нелли покраснела.
– Синий дом с тростниковой крышей. Одиннадцатое апреля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. Вы прибыли утром: поездом доехали до Рибница, оттуда автобусом до Аренсхоопа. Песчаная дорога. Тополя. Облепиха. Собралась большая компания из Восточного Берлина. Карин, дочь владельца дома отдыха, с ее мужем Ленертом, Эльфрида, переводчица, Роберт и Петер – два берлинских художника. И вы сами. Вы как раз сдавали экзамены на аттестат зрелости. Из Лейпцига там был Франц Наузе, инженер по строительству высотных зданий, со своей подругой Бербель, студенткой-медичкой, и наконец переводчик Баталов из Ленинграда.
Нелли молчала, красные пятна с ее лица сползли вниз в вырез платья, она напряженно разглядывала носки своих туфель.
– Не забывайте, что мы хотим вам помочь. Нам желательно бы верно оценить вашу ситуацию. Вы понимаете, сколь многое может от этого зависеть? – Флейшман облокотился о письменный стол. Он явно получал удовольствие, загоняя Нелли в тупик – ведь он ей демонстрировал, что знает намного больше, чем полагали она и другие. Материалы ЦРУ содержали информацию, о которой другие спецслужбы могли только мечтать. Мнимая любезность Флейшмана должна была сейчас казаться Нелли непредсказуемой и опасной.
– Насколько хорошо вы знали тех друзей, через которых познакомились с Баталовым?
– Насколько хорошо я их знала? – Нелли начала заикаться.
Какую-то секунду Нелли Зенф и Флейшман удивленно смотрели друг на друга, словно вопросы задавал кто-то третий, и оба они не знали, что отвечать.
Мисс Киллибегз осторожно открыла дверь и внесла поднос с кофейником-термосом и чашками, в комнату хлынул кофейный аромат. Когда она хотела наполнить чашки, Флейшман взял кофеник у нее из рук.
– Вы позволите? Ах да, не будете ли вы столь любезны, мисс, не принесете ли еще одну чашку?
Мисс Киллибегз скрылась, а Флейшман налил кофе в одну из чашек.
– С сахаром? С молоком?
– Спасибо, мне черный. – Нелли откашлялась, потом взяла у него чашку и стала дуть на кофе.
– Не стройте из себя дурочку, фрау Зенф. Если вы будете отвечать мне вопросами на вопросы, то я применю другие методы и прикажу со всей возможной любезностью отправить вас обратно.
– Карин я знала, остальных – нет. – Нелли пыталась пристроить чашку у себя на коленях. После короткой попытки она эту затею оставила и держала теперь чашку на весу.
– А Баталов, он что, с самого начала свободно говорил по-немецки? – Флейшман налил кофе и молока во вторую чашку, положил на край блюдца три кубика сахару и поставил чашку на стол фрау Шрёдер.
– У него был легкий акцент, однако некоторые люди принимали его за южно-немецкий. Его мать была немкой, и немецкий язык с детства был у него на слуху. – Мешая кофе, Нелли взглянула на Флейшмана. – Верно? – Должно быть, ее собственные высказывания казались ей теперь никчемными и требующими постоянной сверки с тем, что знал Флейшман.
Флейшман кивнул. Мне достался кофе с небольшим количеством молока, этот Флейшман подбирал к каждому лицу подобающий ему кофе. Пока допрос ведет Флейшман, мне ни одного вопроса задать не удастся. А между тем я бы с превеликой охотой выяснил у нее, как долго Баталов, по ее мнению, уже прожил в этой стране, и как она определила, что он русский. Разве не мог этот его акцент и в самом деле быть южно-немецким? Хотя последнего Нелли пока всерьез не утвеждала. Происхождение человека обычно в чем-то проявляется, а о происхождении Баталова мы знали еще далеко не все. Остававшиеся у нас сомнения были причиной того, что мы классифицировали Нелли как важного свидетеля. Было вполне возможно, что она сделает намеки, которые могут подкрепить или ослабить то или иное подозрение. Баталов якобы приехал в эту страну и работал в ней как переводчик, но нам не удалось найти ни единой его публикации. Мы просмотрели списки всех служащих государственных учреждений. Но среди переводчиков и штатных сотрудников его имя не попадалось. Легенда о еще не законченной процедуре
5 На реках вавилонских оформления гражданства, которая приводилась как причина того, почему он не может жениться на Нелли, по всей вероятности, была ложью. Нам, по крайней мере, не удалось найти никаких документов на его имя, свидетельствующих о прохождении им этой процедуры.
Когда мисс Киллибегз принесла четвертую чашку, Флейшман вежливо ее поблагодарил, но одновременно нетерпеливым движением руки выслал прочь. Он помешивал свой кофе, посматривая на Нелли, стекла его очков запотели, и он держал чашку на некотором расстоянии от себя, пока пар перед его глазами не рассеялся. В его взгляде не читалось ни растерянности, ни недоумения, словно ответы Нелли были известны ему наперед и вопросы он задавал лишь порядка и вежливости ради.
– Одиннадцатого апреля вы переночевали с Баталовым в Синем доме и вступили с ним в связь?
– На этот вопрос я не отвечу. – Нелли сокрушенно покачала головой.
– Вы там переночевали. На чердаке – обе спальни внизу были заняты другими гостями. – Флейшман отхлебнул кофе.
Белки глаз у Нелли покраснели. Возможно, у нее лопнули сосуды от напряжения, с каким она слушала Флейшмана, стараясь не расплакаться от испуга.
– В связь с ним вы вступили лишь две недели спустя, в квартире другого приятеля. – Не сводя с нее глаз, Флейшман улыбнулся. – Как его звали?
Нелли уронила чашку. Она не обратила внимания ни на осколки, ни на коричневые брызги, какие остались от кофе на ее платье и колготках. Нарочно ли она уронила чашку или от неловкости – об этом по ее реакции судить было трудно. Она смотрела не на Флейшмана, а куда-то мимо него, но сказала:
– Ваш коллега вчера потратил много времени, расспрашивая об именах. Я не хотела бы называть имена. Вы обращаетесь со мной, как люди из госбезопасности. Имена, имена, имена. В ваших глазах человек не что иное, как носитель информации. Госбезопасности я никаких имен не назвала и вам не назову тоже.
Флейшман посмотрел на нее, как бы забавляясь и в то же время с интересом, потом он кивнул, будто бы она была совершенно права. Фрау Шрёдер встала и долила ему кофе. Никто не шевельнулся, чтобы убрать осколки чашки. Другой чашки кофе Нелли не предложили. Из чашки Флейшмана шел пар. Он сделал на пробу крошечный глоток, – кофе был явно еще слишком горячий. Потом он поднял палец, точно ему только сейчас пришел на ум следующий вопрос.
– Вчера вы сказали, что Василий Баталов бросился с крыши какого-то дома.
Нелли замотала головой.
Стук пишущей машинки смолк, но у фрау Шрёдер не могло быть воспоминаний о вчерашних высказываниях, она при них не присутствовала, лагеря изнутри она не знала, свою службу справляла исключительно в изящно обставленных залах и кабинетах ЦРУ. Безучастно, словно не улавливая смысла произносимых слов, смотрела она в пустое пространство перед собой.
– Нет, это сказал ваш коллега. Я ему не возражала. Но Баталов ни с какой крыши не бросался. В это я не верю. Василий боялся высоты – стал бы он шутки ради лезть на крышу и с нее бросаться.
– Какая уж тут шутка, если человек сводит счеты с жизнью. – Флейшман любовно смотрел в чашку и пил горячий кофе, не дуя на него и не прихлебывая. Фрау Шрёдер стучала на машинке, переводила строку, стучала, исправляла опечатки; потом остановилась.
Нелли положила теперь другую ногу на ногу и стал кусать ноготь.
– Нет ли у вас случайно маникюрных ножниц? У меня только что сломался ноготь, а своих ножниц я что-то не нахожу, наверно, дома забыла.
Флейшман и я взглянули на фрау Шрёдер, которая не сразу уловила смысл разговора.
– Что? Извините, что вы сказали? Маникюрные ножницы – это был настоящий вопрос, да? Записывать его не надо?
– Дорогая моя, мы здесь задаем только настоящие вопросы, но этот вам действительно записывать не нужно. Вероятно, вы можете на него ответить сами. – Флейшман прямо-таки опекал эту фрау Шрёдер, которая наверняка не знала, что без его постоянного заступничества она бы уже давно у нас не работала.
– Знаете, я должна посмотреть, секундочку, нет, погодите, вот моя сумочка. – Она взяла сумочку, висевшую на спинке стула, и стала в ней рыться.
Она и в самом деле достала оттуда маленький футляр и бережно положила его рядом с пишущей машинкой. Нелли встала, взяла футляр, поблагодарила и вернулась на прежнее место. Она открыла молнию. Кольца маленьких ножниц были позолочены.
– В свидетельстве о смерти было написано: "Смерть от перелома шейного отдела позвоночника вследствие падения с крыши с целью самоубийства". На месте, где должна была значиться фамилия врача, был прочерк. – Она сделала вдох сквозь сжатые зубы, – явно порезалась, или ноготь сломался глубже, чем она предполагала, и надорвал кожу.
Флейшман бросил на меня торжествующий взгляд.
Нелли смотрела на свои туфли, потом подняла голову и поглядела мне прямо в глаза. Я улыбнулся. Разумеется, она мне улыбкой не ответила. Ножницы она положила обратно в футляр.
– Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу сказать точно то, что сказала. Таково было содержание свидетельства о смерти, которое я должна была подписать. Оно было необычайно подробным, особенно потому, что показаний известных свидетелей как будто бы не было. – Она закрыла молнию на футляре. – О дальнейших похоронных формальностях мне заботиться не пришлось, так как у Василия еще не было гражданства. Вы же наверняка всё это знаете? Организация его похорон была в известной степени делом властей. Во всяком случае, они возложили на гроб букет гвоздик, и еще там была роскошная гирлянда, знаете, гирлянда из цветов, о которых мы давно забыли. Забыли там, хочу я сказать, на той стороне. Белые розы, огромные лилии, которые казались искусственными, и махровые гвоздики. Подобранные без особого вкуса. И все же гирлянда была впечатляющая, особенно потому, что на ленте было написано только: "Прощай, верный товарищ", и никто не мог докопаться, от кого это.
Нелли встала, но ей пришлось немного подождать, пока стук машинки смолк, и фрау Шрёдер смогла взять у нее футляр.
– Возможно, от Союза художников? – Флейшман хитрил.
– Это вы у меня спрашиваете? Я могу себе представить, что вы знаете, от кого была эта гирлянда.
– От кого? – Флейшман не отступался от этого вопроса, так что мне самому было неясно, знает он или нет.
– Я этого не знаю. – Нелли покачала головой, протерла глаза и положила другую ногу на ногу. Под ее подошвой заскрежетал осколок.
– Не от Союза художников наверняка. Он там не состоял. Думаете, что человек, если он переводчик и русский, мог запросто туда вступить? – Нелли подняла руку, чтобы убрать волосы с лица. Только теперь мне бросились в глаза большие пятна пота, которые образовались у нее на платье. – Знаете, что меня удивило? Его родители не приехали. Умирает молодой человек, а никто из его родных не приезжает. Говорят, что его отец к тому времени был уже очень плох. Он долго болел, – об этом Василий мне рассказывал. Они с отцом, похоже, постоянно переписывались. Власти тогда мне обещали, что известят его родителей. Я ведь ни к чему подступиться не могла, у меня не было ничего, ни одного адреса, его квартиру опечатали, – у меня не было на нее никаких прав. – Нелли покачала головой, ладонями отерла себе лицо и в поисках помощи взглянула на меня.
– Не дадите ли вы мне воды?
Только было я хотел встать, чтобы принести ей воды, как Флейшман, который моего движения, казалось, не заметил, строго сказал:
– Ну, мы скоро сделаем перерыв. А пока что продолжайте, фрау Зенф. У вас не было никаких прав?
По голосу Нелли было слышно, как пересохло у нее во рту.
– Мы не были женаты. Позднее мне и детям вручили некоторые его личные вещи. Но ни его отец, ни мать на похороны не приехали. Я все время задавалась вопросом: может, им не разрешили выехать?
Хотя бы сейчас, напоследок, я мог у Нелли спросить, чем она объясняет, что они все еще жили врозь, – ее возлюбленный Баталов и она. Наверняка она сказала бы, что дело упиралось в его служебную квартиру. Но тем удивительнее было, что она не располагала адресами его родных, никогда раньше с ними не встречалась. Так что было вполне возможно, что вся история про его мать, чистокровную немку, якобы вышедшую замуж в России, была просто выдумкой. Я представил себе, в какой ужас пришла бы Нелли Зенф, если бы мы изложили ей предположения такого рода, как она бы разом накрутила на пальцы все пряди своих волос и не переставая чмокала бы пересохшими губами, как в конце концов упала бы без чувств, и кому – то из нас пришлось бы ее подхватить. Я бы долго медлить не стал. В этом случае я не упустил бы возможность похвалить ее красивое платье. Какую-то долю секунды я думал о том, чтобы это платье с нее снять, дабы избавить ее от пятен пота, которые наверняка были ей неприятны. О колготках я мог бы не говорить, как и о многом другом, что показалось бы ей благодеянием и нежданной защитой.
Однако Флейшману влечение и сочувствие, казалось, были неведомы. Он был профессионал до мозга костей,"– я не смог подметить у него ни малейшего личного побуждения. Флейшман не допустил бы, чтобы Нелли Зенф узнала какие-либо важные подробности, которые, с большой вероятностью, знало только ЦРУ. В конце концов, после нас брались за дело другие секретные службы, и было бы неосторожностью позволить Нелли узнать больше, чем надо.
Флейшман вздохнул.
– Если в свидетельстве о смерти врач не был назван, что это могло означать?
– Это означало, что я не должна знать никаких имен, никакого адреса, по которому мне можно было бы обратиться, чтобы расспросить, как это в точности могло произойти. Это означало, что не было никого, кто бы мне сказал, что Василий наверняка упал вот с этой крыши, именно с нее бросился вниз. А что это означает еще? – Нелли взглянула на свои часы. – По ночам мне снится, что он приходит опять, появляется из-за какого-то дома и тащит меня в угол. Он признается мне, что еще жив, но что для всех будет лучше считать, будто бы он погиб.
– И так могло быть на самом деле?
Нелли рассмеялась, смех у нее был детский, насколько об этом мог судить бездетный человек вроде меня. Флейшман вызывающе смотрел на нее.
– Моя мать говорит, что у людей, ее поколения это бывает часто. Все ее подруги, тогда еще молодые девушки, если они выжили, кого-нибудь да потеряли – а иногда и всех. Почти все видят во сне, что этот человек возвращается. Ничего необыкновенного тут нет, понимаете, просто этим они утешаются, создают себе во сне эту фата-моргану, место, но также и время, другое время, отныне общее для всех. Словно находишься в общей системе координат земных стран света.
– Тут вы, возможно, правы. – Флейшман склонил голову набок и почесался. – С такой стороны я это еще не рассматривал. Но факт остается фактом: вы не знаете, правда ли то, что написано в этом свидетельстве о смерти.
– Сколько есть всего такого, чего мы не знаем!.
– Возможно, он еще жив.
– Если они были способны пригласить его родителей к пустой могиле, то да. Но возможно также, что он погиб. Бросился именно с этой крыши. Только вот бросился он не сам, а его столкнули.
– Кто мог быть заинтересован в том, чтобы столкнуть его с крыши? – Флейшман притворялся тупицей.
Нелли пожала плечами и зевнула.
– Что наводит вас на такую мысль? Есть подтверждения?
– То, что он не оставил прощального письма.
– Слишком личный мотив для подобного предположения.
– Нет, мотив – это нечто другое, – наставительно сказала Нелли. – А это – идея, не более, чем идея. Мы же говорим о наших идеях. – Она наклонилась вперед и скрючилась, закрыла лицо руками и тяжело дышала. А то я уже удивлялся: сколько еще времени нам понадобится, чтобы довести ее до слез. Флейшман посмотрел на меня, и мне показалось, что глаза его выражают довольство. Удовлетворение. До сих пор Нелли Зенф казалась совершенно безучастной, равнодушной, как девушка, что пересказывает слухи, которые сами по себе ужасны, но ее не трогают, не сказываются на выражении ее лица или ее поведении. Нелли сидела по-прежнему скрючившись.
– Мертвым вы Баталова не видели?
Упорство Флейшмана, жесткость, проявлявшаяся у него в такие моменты, когда я, скорее, подошел бы к допрашиваемой и положил ей руку на плечо, заставляла его в ходе служебной карьеры брать препятствия, перед которыми в нерешительности остановились бы его деятельные соперники, опасаясь, как бы им все же не сломать себе шею. Дыхание Нелли было единственным проявлением жизни, исходившим из ее насквозь промерзшего, или застышего от боли, или просто усталого тела. Мне показалось, что она не слышала вопроса.
– У вас была возможность его увидеть? Вам предлагали увидеть его в последний раз?
– Нет. Что бы это дало? Говорили, будто он изуродован. Думаете, они могли его усыпить и загримировать, и такого, усыпленного и загримированного – положить передо мной, а я бы им поверила? Решила бы, что он мертв, и сохранила бы в памяти этот искаженный образ, этот фантом? – Голос ее шел откуда-то из глубины, из ее лона, из легкого летнего платья, в котором ей наверняка было холодно.
Она не посмотрела на нас и не выпрямилась.
– Может, теперь вы меня отпустите? Я больше не могу с вами говорить. Василия вы не знали, так что вам за дело до его смерти?
– Все это вам приходило в голову уже тогда? Что его смерть была всего лишь спектаклем, разыгранным специально для вас? – Флейшман перебил Нелли, просьба отпустить ее для него значения не имела.
Она подняла голову, немного распрямилась, разгладила платье у себя на коленях и провела большим пальцем по материи там, где остались заметные брызги кофе. Она обратилась к этому пятну, но не к Флейшману и не ко мне.
– Подобные мысли становятся неотвязными, если двое жили в такой ситуации, как наша, когда не было и намека на возможное самоубийство. Василий покончил с собой не в окружении близких. Покойного обнаружили не друзья или родные, его подобрали незнакомые люди.
– Покойного. Вы говорите так, словно подобные случаи происходят часто.
– Да, такие случаи бывают. Вы хотите сделать вид, будто этого не знаете? – Теперь она выпрямилась. Она не заплакала. Посмотрела на нас, – сперва на Флейшмана, потом на меня, потом опять на Флейшмана. – Вы же знаете, что люди странным образом исчезают. Одни снова всплывают в какой-нибудь тюрьме, другие якобы покончили жизнь самоубийством. Сочетание тюрьмы и так называемого самоубийства тоже не редкость.
– Допустим. Ваше подозрение верно, только если допустить, что Баталов не покончил с собой, а был похищен или убит. Какие мотивы для этого могли быть у государства?
– Что вы хотите от меня услышать? Я знала Василия и полагаю, что могу утверждать: намерений покончить с собой у него не было. Но неужели вы думаете, будто мне известны мотивы государства? Может быть, их не устраивал его русский нос? Вы неверно меня поняли, если подумали: у нее есть подозрение, что его похитили или убили.
– Разве вы только что этого не сказали?
– Нет. Я хотела только дать понять, что существует много возможностей – что мне еще оставалось, как не раздумывать над этим. Как могла я решить вопрос о судьбе предполагаемого покойника, как могла отважиться решить насчет Василия, умер ли он по собственной воле, на свой страх и риск, или виноват тут некто другой – неопределимая серая масса под названием "государство"? Я это решить не могу. – Глаза Нелли налились слезами. – Бывают моменты, когда я верю – это был он сам, и тогда я рада и горда, и думаю: по крайней мере, решение он принял сам, он охотно брал на себя ответственность, никакая серая масса сюда не вмешивалась. Но потом во мне опять вспыхивает боль, и я чувствую, что эта гордость направлена против меня и наших детей, и я думаю: нет, таким сумасшедшим, таким безответственным, таким усталым он не был. В такие моменты я ненавижу всю страну и в каждом человеке на улице вижу потенциального убийцу, который тихо ходит своими повседневными путями, чтобы в один прекрасный день сделать свое дело. Я вижу отца, приходящего за ребенком в школу, и невольно думаю: возможно, на службе он носит мундир, возможно, это тот самый человек, который убил Василия, то ли ударом по голове, то ли выстрелом в затылок. Я вижу, как этот человек подбрасывает вверх своего ребенка, и тогда я отвожу от него взгляд, смотрю на собственного сына, хватаю его и пытаюсь подбросить вверх, но он слишком большой я тяжелый, и у него нет отца, который бы его подбрасывал, есть только мать, которая прижимает его к себе…








