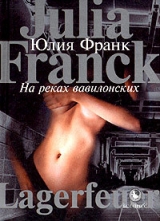
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Глаза у Нелли были полны слез. Флейшман никакого удовлетворения не выражал.
– … и я стараюсь не смотреть на этого другого отца. В конце концов, он мог быть пекарем, и я бы каждое утро ела его булочки, – вы понимаете, что я имею в виду? Тогда я начинаю сходить с ума. Вот так. И в минуту изнеможения думаю: ты все себе упрощаешь. Виновато неопределимое нечто, даже если оно никакой ответственности не несет. И напоследок наступил момент, когда я должна была уехать и больше оставаться не могла. Поэтому я уехала и сижу здесь.
– Вы полагаете, что здесь так просто сумеете избавиться от подобного прошлого? – Флейшман улыбался деланной заученной улыбкой, режуще острой улыбкой, и Нелли эту улыбку выдержала, словно ей не было больно; она покачала головой. Ее взгляд искрился презрением.
Брат Кристины Яблоновской строит планы
На следующий день после того, как Ежи сделали операцию, я пришла в больницу и очутилась перед пустой кроватью.
В палату вошла молодая белокурая сестра.
– Скажите пожалуйста, сестра, где он?
– Не волнуйтесь, фрау Яблоновска, ваш брат все перенес как нельзя лучше. Нам пришлось ненадолго отвести его в ванную комнату. У него был легкий приступ, и он весь перепачкался. А вы присядьте и немножко подождите, санитар сейчас его привезет.
Тяжелые капли воды с моей шубы падали на линолеум вокруг стула, на котором я сидела. Образовались маленькие озера. Так я сидела и ждала. Чувствовала на себе взгляд соседа Ежи по палате. Он не сводил с меня глаз. Я посмотрела в окно, и он сказал в мою сторону:
– Какая сегодня холодина, верно?
Я посмотрела на черное от дождя дерево, с ветвей которого свисали уже считаные листья и множество капель.
– Еще здорово хватает за нос, – сказал он и прищелкнул языком. Потом я услышала, как он пьет из поильника, громко глотая, и рискнула взглянуть на него, – он смотрел в вырез моего платья. Я плотнее запахнула шубу и стала наблюдать за черной птицей, которая сидела снаружи, на дереве, и каркала. "Сливочная помадка", – услышала я голос соседа Ежи, потом "сладкий пончик", и увидела, как прилетела вторая черная птица, села рядом с первой, а первая улетела. Когда санитар привез моего брата, то пересадил его из кресла – каталки на кровать, сестра Хильдегард, которой оставалось недолго до пенсии, взбила ему подушку и оправила ночную рубашку. Пока его пересаживали, он в этой рубашке совершенно запутался, им пришлось перевернуть его с левого бока на правый, и на какой-то миг мой взгляд упал на темный и бесформенный кусок мяса, который дрябло лежал у него на ляжке, и был этот кусок маленький, как мой мизинец, и мне понадобилась еще секунда, чтобы осознать, что это такое. С соседней койки доносилось прищелкиванье языком, казалось, никто,› кроме меня, его не слышит. На меня упал стеклянный взгляд моего брата, словно он заметил, куда я смотрела. Я быстро отвела глаза и подумала, что навряд ли я могла это видеть. Видимость еще уменьшилась, может, то был червяк, которого держала в клюве птица на дереве за окном? Сестра Хильдегард еще надела моему брату носки, прежде чем опустить ему рубашку.
– Пять марок, да, – сказал ей санитар, – и это за три недели полного ухода. Вот это, скажу я вам, щедрость.
Она фыркнула:
– Перестань, к этому привыкаешь.
– Только не я. Тогда уж лучше начну ходить в вечернюю школу. – Удивительно гибкими руками он расправил у Ежи одеяло, окутал им его ноги и хорошенько разгладил.
– Это ты, дорогой мой, рассказываешь с тех пор, как я тебя знаю – самое малое четыре года.
Подошла белокурая сестра.
– Могу я помочь?
– Ты его поднимешь, а мы обе натянем простыню, – она сбилась в складки. – Санитар исполнил распоряжение сестры Хильдегард: поднял Ежи, подведя руки ему за спину, а молодая белокурая сестра и сестра Хильдегард натянули под ним простыню.
– Ты изо дня в день их моешь, возишься с ними, когда никто больше не желает к ним прикасаться, и на тебе благодарность – пятб марок. – Санитар так и сыпал словами.
– Они понятия не имеют о приличиях, эти люди, никакого понятия. – Белокурая сестра явно знала, о чем он говорит.
– Тогда лучше бы уж совсем ничего не давали, верно я говорю, Доро? – спросил санитар, а молодая сестра в ответ кивнула и не к месту рассмеялась.
– Когда ты прав, то прав, – добавили остальные. Втроем они подвернули и расправили одеяло, не давая ему образовать складки, и продолжали его разглаживать.
У себя в кармане шубы я нащупала кошелек, в нем осталось всего несколько марок, их никак не хватило бы на то, чтобы дать пять марок хоть одному из этих людей. Молодая белокурая сестра, которую санитар называл Доро, потрепала моего брата по щеке, словно ребенка, и спросила:
– Ну что, нам стало получше? – Хихикая, они удалились. Их фамильярность была мне неприятна, тем более что я знала, как мало замечает ее мой брат.
Я опять услыхала прищелкиванье языком, и теперь, когда Ежи благополучно приземлился в кровати, и я чувствовала в своей руке его худую и холодную руку, я вполне самоуверенно взглянула на его соседа по палате.
– Чем старее, тем глупее, – сказал он, прищелкивая языком. Он смотрел на меня изумленно и в то же время дружелюбно.
Операция прошла успешно, Ежи очнулся. Он спросил меня по-польски, кто я – его мать?
– Нет, Ежи, – ответила я и задумалась: говорить ли ему, что наша мать умерла еше семнадцать лет тому назад, предположительно от той же болезни, которая теперь была у него. – Я – Кристина.
– Это хорошо. – Он задумчиво кивнул, а меня взяли сомнения: знает ли он, кто такая Кристина? Возможно, кивком он просто маскировал свое неведение. Кивок давал ему ориентацию, так что он продолжал равномерно кивать.
– Да. – Я показала ему фотографию нашего отца: как он сидит в лагере на двухъярусной кровати и приветственно машет Ежи рукой. – Отец шлет тебе привет.
– Где он?
– В лагере. Ты же знаешь: двигается он неохотно, целый день лежит в кровати, а неделю назад, незадолго до твоей операции, он уселся и потребовал, чтобы я привела кого-нибудь, кто его сфотографирует. Чтобы ты его не забыл, сказал он. При этом сам он постоянно забывает, что ты в больнице. Жалуется, как редко ты его навещаешь. Потом отец начинает думать, что ты ходишь на работу и подыскиваешь нам квартиру, а временами начинает нервничать и спрашивает, когда ты наконец заберешь нас из лагеря.
– Он в лагере?
– Гм, – я вложила фото в руку Ежи.
Ежи повернул трубку для внутривенных вливаний и, глядя на фото, растерянно покачал головой.
– Это ведь было уже давно, верно? История с лагерем, думал я, уже позади. Отца и меня освободили, Кристина. Сейчас ведь войны уже нет? – Ежи неуверенно смотрел на меня, потом расхохотался, будто поймал меня на лжи. Не только наш отец забывал, где находится его сын, и что мы ради него приехали в Германию – чтобы он прошел хороший курс лечения. Врач предупредил нас, что развитие болезни, а также операция и наркоз могут вызвать осложнения, которые, вероятно, пройдут, но с уверенностью этого предсказать нельзя.
– Какой у нас сейчас год, Ежи?
– Почему ты спрашиваешь об этом меня? Думаешь, я этого не знаю? – Ежи с оскорбленным видом смотрел в окно. Я подошла к шкафу и достала оттуда женский журнал. Ежи мог бы прочитать дату его выпуска и тем избавить меня и себя от неприятного вопроса.
– Смотри, Ежи, вот твой журнал. – На обложке была изображена белокурая женщина с розовыми губами, в шелковой комбинации. "Агнета сама подбирает себе платья", – сообщала подпись под картинкой, набранная мелким шрифтом.
Ежи бросил на меня злобный взгляд, потом его лицо просветлело.
– Нет, Кристина, ты ошибаешься, это не мой журнал.
Наступило молчание.
– Ты такая бледная, Кристина. Тебе грустно? – У самого Ежи не было в лице ни кровинки, но он озабоченно смотрел на меня.
– Нет, ничего.
– Этот Лист осложняет тебе жизнь, верно? Ты все еще разучиваешь это соло. Оно для тебя слищком экспрессивно, Кристина. Тут нужна страсть, страсть.
Я покачала головой. Казалось, он даже не помнит, что я продала виолончель ради того, чтобы купить немецкие документы.
– Листа я больше не играю.
– Ты начала с Брамса, с сонаты номер два, в F – dur, opus 99? – Казалось, он и сам в это не верит.
– Нет, Ежи.
– Кристина, молчи. Соната для виолончели и фортепиано, g-moll, opus 65, Шопен, Кристина. – Лицо его выражало восторг.
За Ежи я могла бы отдать жизнь. Разумеется, только продолжая играть на виолончели, если бы ему дано было это заметить.
– Я это знал, Кристина. Ах, я это знал. Знал, что в один прекрасный день ты с этого начнешь! Ты все думаешь о том молодом человеке, верно? О том рыжеволосом. Как его звали-то? Ты мысленно играешь с этим молодым пианистом.
– Ни с кем я мысленно не играю, Ежи. И что это за молодой человек? Любой молодой человек мог бы быть моим сыном.
– Твоим сыном? Да ты даже не замужем, Кристина, как же тогда он мог бы быть твоим сыном?
– Именно поэтому.
– О каком сыне ты говоришь, Кристина?
– Я ни о каком сыне не говорю. Я говорю о том сыне, которого у меня нет. – Я постепенно теряла терпение.
– Тогда почему же ты так злишься?
– Да ничего я не злюсь.
Когда у меня за спиной открылась дверь, Ежи дернул меня за блузку.
– Тшш, прячься, Кристина.
Я уронила журнал и огляделась. Вошла Молодая белокурая сестра вместе с одним из соседей Ежи по палате, которого она подвела к его кровати.
– Прячься! – Ежи нетерпеливо дергал меня за рукав.
– С чего бы это мне прятаться, – сказала я и отбросила его руку, при этом мне пришлось отгибать его пальцы по одному – так крепко вцепился он мне в рукав.
– Я тебе что сказал! – Ежи был в ярости, а я удивленно смотрела на него. Мне еще никогда в жизни не приходилось прятаться. Казалось, что мое сопротивление причиняет ему настоящие мучения, он закатывал глаза, тяжело дышал и наконец попытался немного оттолкнуть меня в сторону. Потом я заметила у него на лице улыбку, кроткую, зачарованную улыбку. Но она предназначалась не мне, он улыбался кому-то в комнате мимо меня. Я обернулась и увидела, как сестра вытащила несколько увядших цветов из вазы другого пациента и вышла из палаты. Когда я снова посмотрела на своего брата, он отрешенно улыбался, глядя на дверь. Казалось, он даже забыл кивать.
– Ежи? – Я подняла журнал. – Ежи?
Мой брат словно застыл с улыбкой на лице.
– Это Доротея. Мы любим друг друга.
– Кто такая Доротея?
– Вот эта красивая девушка. Ты что, ее не видела? Она каждый день надевает белое платье, только ради меня. До-ро-те-я.
Я заглянула в его широко раскрытый рот – они здесь даже зубы ему толком не чистили.
– Мы любим друг друга. – Он закрыл рот и с наслаждением зачмокал, словно ел какое-то лакомство.
Я кивнула.
– Завтра это произойдет, – прошептал Ежи.
– Да?
– Двадцатое октября – хорошее число.
– Да?
– Я спрошу ее, согласна ли она выйти за меня замуж.
– Да. – Я в изнеможении опустилась на стул возле его кровати. Какое-то время мы молчали, он улыбался и кивал головой, а я, чтобы не отвечать на его улыбку, смотрела в окно. На дереве больше не было ни одной птицы.
– Такое нечасто случается в жизни, Кристина. Наверное, только раз. И тогда нельзя упускать эту возможность.
– Почему мне надо было прятаться?
– Кто знает? Вдруг бы она стала ревновать. Она же о тебе даже не подозревает.
– Не подозревает обо мне?
– Тшш.
Секунду я медлила, потом похлопала по журналу.
– Взгляни-ка, Ежи, в этом журнале…
– Да это не мой журнал. – Он пытался повернуться на другой бок. – Твой поезд ушел, Кристина, теперь ты наверно уже не найдешь себе мужа, – он поднял голову, – но виолончелистке, безусловно, лучше не быть замужем. Никаких детей, никакого мужа, самое большее… – повернуться ему не удалось, – это несчастная любовь.
Я встала, чтобы ему помочь.
– Не надо. Это сделает Доротея, если она вернется. Никакого сына, слышишь, Кристина, для этого ты уже слишком стара. А мой сосед говорит – толста. Но разве он понимает, что такое виолончелистка.
– Оставь меня в покое, Ежи. – Я опять села.
– Говорю тебе: ты должна еще раз попробовать ту вещь Мендельсона. Номер два, opus 58.
– Я уже пробовала. Она меня не привлекает.
– Именно поэтому. Надо всегда браться за то, чего еще не умеешь.
– Ежи, сонату номер два я не люблю.
– Это ничего не значит, Кристина. Повод к проявлению сильной страсти у многих людей сам собой не приходит, его надо искать.
– Это ты мог бы отнести и к себе, – сказала я и развернула журнал.
– Что?
– Какое у нас сегодня число, Ежи?
– Девятнадцатое октября – это же ясно, Кристина, если завтра двадцатое.
– А год какой?
– Ничего-то ты не знаешь. – Ежи озабоченно смотрел на меня и качал головой.
– Я-то знаю, а вот ты, наверно, нет.
– Ты не собиралась уходить, Кристина?
– Нет, почему ты спрашиваешь?
– Ты поднялась с места.
– Да, но теперь я опять сижу, – сказала я и подумала: так скоро я сегодня не уйду. В лагере мне тоже было нечего делать, кроме как сидеть сложа руки. Так уж лучше я посижу здесь. Щелканье языком, раздававшееся с соседней койки, приятно щекотало мне нервы. Иногда у меня завязывался недолгий разговор с кем-нибудь из соседей Ежи по палате. Я снова услышала, как один из них шепчет: "сладкий пончик", – это звучало нежно и ласково. Надо мне в лагере заглянуть в словарь и удостовериться в значении этого слова, прежде чем я отважусь еще раз посмотреть на изумленное лицо этого человека.
Я могла бы отдать всю жизнь за Ежи, если бы только играла на виолончели. Вместо этого я привезла его в Германию и положила в эту больницу, продала виолончель, и все, что я теперь еще могла сделать – это держать его за руку. Я погладила эту руку и сказала:
– До завтра.
Нелли Зенф приглашают танцевать
С Алексеем по правую и с Катей по левую руку я позвонила в квартиру этажом ниже, к польке, с которой познакомилась только вчера на лестничной клетке. Говорили, что ее отец целый день лежит в кровати и спит, так что она должна быть дома.
– Извините, надеюсь, я вас не разбудила?
Полька вытерла фартуком мокрые руки и протянула мне мясистую ладонь.
– Сегодня воскресенье, верно?
– Да, еще только девять часов. Сожалею, что пришла так рано. – Может, мне лучше было не звонить, но я подумала, надо попробовать. В воскресенье дети в школу не ходят. Мне надо уйти, но взять их с собой я не могу.
– Да вы заходите.
Алексей весь затрясся от пожатия ее лапы, а Катя попятилась назад и уцепилась за мою руку. В нос нам ударил крепкий запах капусты и свинины. Мы вошли.
– Мой отец еще спит, – сказала она извиняющимся тоном, но тем не менее предложила нам сесть за ее маленький стол, который выглядел точно так же, как наш наверху. Вообще вся комната была в аккурат как наша. Такие же металлические многоярусные кровати, такие же стулья из прессованной древесины, такой же пол. Казалось, что совпадает не только расстановка мебели. Зеленая корзина для бумаг так же, как у нас, стояла между дверью и шкафом. Даже постельное белье в бело – синюю клетку было точь-в-точь как наше: ничего удивительного, в конце концов все мы получали его в одном и том же месте.
– Раньше мы каждое воскресенье ходили в церковь. Но католическая церковь здесь совсем другая и отсюда довольно далеко. Моему отцу уже не дойти, понимаете. Мы верующие. Вот, видите. – Она зажгла свечу на столе и поставила поровней образок с ликом Марии, прислонив его к свече. – Вы здесь недавно?
– Да, с понедельника.
– Кофе хотите? Извините, я уже готовлю обед, мне надо только долить воды и помешать, подождите. – Я бросила взгляд на часы, но полька, протянув руку сзади мне через плечо, уже поставила передо мной чашку.
– Совсем черный, надо побольше сахару, – она приветливо улыбалась и, не спросив меня, сыпала мне в чашку сахар, ложку за ложкой.
– Стоп, этого хватит, спасибо, – я прикрыла чашку ладонью.
– Ну, еще ложечку, – сказала она, а сахарный песок тем временем сыпался в чашку у меня между пальцами.
– Ах, я вам еще не представилась? Яблоновска, Кристина. А это мой отец, – она указала на верхнюю койку. – Как вы слышите, он еще мирно спит. – Только она это сказала, как ее храпевший отец поперхнулся во сне, отхаркался и заворочался в постели.
– "Кока-колу" для детей? – Прежде чем я успела ей напомнить, что было не только воскресенье, но еще и раннее утро, она скрылась в кухне. Мои дети радостно и смущенно ерзали, предвкушая "кока-колу".
– Вы здесь недавно? – С верхней койки к нам склонился старик.
– Доброе утро. Извините, мы нечаянно вас разбудили.
– Ах, что там. Никто меня не будил. Я ранния пташка, всегда такой был. – Отец польки уселся на кровати и поглаживал ладонью грудь, поросшую седым волосом.
– Вы музыку любите? – Он показал нам маленький радиоприемник, который явно держал наверху, у себя в постели, и включил его. …when we sat down, ye-eah we wept, when we remember Zion. By the rivers of Babylon.Он покачивал головой, а большим пальцем крутил колесико радиоприемника. Как только он поймал другую, более заводную песню, он завел ее погромче и слез с кровати.
– Потанцевать хотите?
И он схватил меня за руку, чтобы поднять со стула, как раз в ту минуту, когда его дочь вошла в комнату с бутылкой "колы".
– Оставь это, папа. – Фрау Яблоновска зажала ладонями уши.
– Я, знаете ли, был первым танцором, во всем нашем квартале никто не мог танцевать, как я. – От старика еще веяло теплом постели; своим брюшком он погонял меня по комнате. – У нас бывали знатные танцы, да будет вам известно, – глаза его сияли, – а девушки, ах, они стояли вокруг, одна прелестнее другой. И знаете, все только и ждали, чтобы я их пригласил.
– Папа… – Глядя на своего танцующего отца, фрау Яблоновска покраснела и пыталась ухватить его за пижаму. – Папа, перестань. Эта дама – наша гостья.
– Так именно поэтому, моя толстая голубка, именно поэтому, – он танцевал вокруг своей дочери, словно она была не чем иным, как колонной в бальном зале, – и раз-два-три, смотрите, это же совсем просто, – его живот толкал меня вперед и не давал мне наступать ему на ноги, его руки поддерживали нас обоих в равновесии.
– Владислав, – прошептал он, – и дозволено ли мне будет узнать ваше имя? – Губы старика коснулись моего уха.
– Нелли.
– Как?
– Меня зовут Нелли.
– Какие у вас восхитительные бедра. Вы, наверно, часто танцуете?
– Не сказала бы.
Его вежливость была трогательной, ведь как хороший танцор он должен был заметить, что я не знала ни единого из его па, и тем более ни одного собственного.
– Папа, дама хотела бы уйти. Отпусти ее.
– Дама хотела бы уйти? Этого я не думаю. – Он крепко держал меня и завертел так, что у меня голова закружилась. – Лучший танцор. Однажды я вытанцевал себе большой приз Щецина – угадайте, с кем? Нет, не с матерью Кристины. – Он сделал многозначительную паузу. – Это была не кто
6 На реках вавилонских иная, как Цилли Ауэрбах. Что за танцорка! – Он двигал меня перед собой по комнате, как щит.
Громкий стук в стенку заставил фрау Яблоновску сделать музыку потише.
– Папа, прошу тебя. – Однако отец фрау Яблоновской, орудуя мною и собственным локтем, перегнал ее из одного угла комнаты в другой. – Соседи, папа. Сейчас воскресное утро.
– И знаете что? Она хотела выйти за меня замуж. – Он рассмеялся. – Еще совсем ребенок, первые успехи в кино – и хотела за меня замуж! И раз, и раз, и раз!
Песня кончилась, и дикторша начала читать длинную лекцию о растущем числе безработных.
Он сел рядом с Катей и взял ее за подбородок.
– Что это у нас за хорошенькая маленькая девочка? – Но не стал дожидаться ее ответа и опять повернулся ко мне. – Чем мы увлекались после Первой мировой войны? Ведь мы были дети, вас это удивляет, верно? Мужчине, с которым вы только что танцевали, – сколько ему, по-вашему, лет?
Обижать его я не хотела и, хотя была уверена, что ему далеко за семьдесят, нерешительно пожала плечами. Он закашлялся.
– Ну, дитя мое, вы не угадаете. Кристина, а для меня чашки не найдется? – спросил он, и его дочь, для которой и без того уже не было места за ма леньким столом с четырьмя стульями, вышла, чтобы принести ему чашку. Едва она скрылась за дверью, как отец достал из кармана пижамной куртки темно-красную пачку сигарет и, кашляя, закурил сигарету без фильтра.
– Она была виолончелисткой, – сообщил он, глядя на дверь, – но с этим, слава Богу, покончено. Мы продали виолончель, чтобы купить документы. К тому же играла она плохо. Преподавательница консерватории, на большее она была неспособна. – Старик взъерошил свои жидкие волосы, казалось, он обозлен недостатком таланта у дочери и ее неудачей.
– Знаете ли вы, каково это – целый день выносить пиликанье? Она мне все нервы вымотала. – Последние слова он произнес шепотом: открылась дверь и его дочь снова вошла в комнату.
– Папа, здесь дети. – Фрау Яблоновска лихорадочно замахала рукой, разгоняя дым, поставила перед ним чашку и насыпала в нее сахару. По радио снова заиграла музыка. Владислав Яблоновски встал, повернул колесико и, схватив меня за руку, потянул из-за стола.
– Дети, да, у меня уже были дети. Но казалось, что Цилли Ауэрбах это не беспокоит. Знаете ли вы, что я был лучший танцор на весь квартал? – Танцуя мимо стола, он на секунду остановился и отхлебнул кофе. – Однажды я получил большой приз Щецина за танцы. Все были при этом. Все. – Он сделал размашистый жест.
– Папа, даме, возможно, некогда. Она хотела оставить здесь детей, верно я говорю? – Фрау Яблоновска беспокойно переступала с ноги на ногу.
– Да, верно, – хотела я сказать, но Владислав Яблоновски продолжал:
– Куда ни глянь, одни девчонки. Ведь во время войны число мужчин сократилось, понимаете, так что у таких мрлодых парней, как я, были неплохие шансы. Вы себе даже не представляете, скольким женщинам надоело ждать своих мужей. А ведь некоторые из них так и не вернулись. Но, говорю вам, танцевать я умел.
– Цыгане! – Голос из соседней комнаты загремел так громко, словно говоривший стоял рядом с нами. – Поляки сраные! Цыганский сброд! – Об стенку опять что-то грохнуло, судя по звуку, скорее какой-то предмет, чем чей-то кулак.
– Папа, дама торопится, слышишь, ей пора идти. – Фрау Яблоновска схватила меня за руку и оттащила от него.
– Ведите себя хорошо! – крикнула я своим детям, пока старик продолжал рассказывать.
У дверей фрау Яблоновска подала мне свою мягкую руку.
– Извините, обычно отец ведет себя вполне спокойно. Он уже не одну неделю лежит в постели. Но вот приходит молодая женщина, и он заводится, без конца рассказывает одни и те же истории, как он стал героем, – ну, тут уж мне его не остановить. Тот еще герой.
– Все равно я вам очень благодарна. Мои дети не хотели оставаться наверху одни. Где-то к часу я непременно вернусь. Вы присмотрите за ними, да?
– Разумеется, я люблю присматривать за детьми. – Она глядела на меня, очень довольная и как бы чего-то ожидая. Возможно, она была рада, что я ничего не сказала об ее отце, обратилась к ней за помощью. Возможно также, она надеялась, что я скажу ей, куда это мне так срочно понадобилось в воскресенье утром и почему я не могла взять с собой детей. Но я просто поблагодарила ее и ушла.
Хансу Пишке неожиданно предлагают работу
На дворе сеялся мелкий дождик. Листья берез, казалось, отяжелели от воды и стали бесцветными. Ветер не шевелил их, не в силах совладать с лежавшей на них тяжестью. На металлической лесенке, с которой большей частью облупилась и отлетела красная краска, сидели двое детей и ели сладости. Бумажный кулек, в который они попеременно залезали, намок, так что они с трудом просовывали туда и вытаскивали оттуда руки.
К окошку раздачи продуктов питания стояли в очереди три женщины. Я встал за ними. Вторая из них, весьма пышнотелая особа в желтой непромокаемой накидке, ругалась: она мол уже теряет терпение, нет у нее времени на то, чтобы целый час стоять за едой, наверху ее дожидаются пять голодных ртов, однако та, что была в очереди первой, сухопарая и педантичная, не давала сбить себя с толку и объясняла раздатчице, медленно и с заметным южно-немецким выговором, что колбасы она не хочет, но спора о том, является ли колбаса основным продуктом питания, сейчас заводить не собирается, колбасы она просто не хочет, а этой – то и подавно, вместо нее она взяла бы побольше сыру, и ей непонятно, почему вместо рациона колбасы она не может получить этот сыр, продукт наверняка менее дорогой, в конце концов, ведь речь идет, если не считать предлагаемого еще как вариант плавленого сыра, о пахучем тильзитере простейшего сорта.
Женщина на раздаче миролюбиво заметила, что у нее есть определенные указания, и она обязана их соблюдать, выдать сыр по колбасному талону она не может. Но первая в очереди не сдавалась, пока вторая, пышнотелая, не обернулась к нам с раскрасневшимся лицом и не попросила меня и молодую женщину, стоявшую передо мной, ее поддержать.
– Это же бог знает что. Еще особые пожелания. Да где это видано? Стоит здесь уже десять минут, ну а я, значит, девять, или что-то в этом роде.
Молодая женщина между нами беспокойно переступала с ноги на ногу. Она была в светло-желтом летнем платье в крупных цветах и явно не рассчитывала на дождь. Платье у нее прилипало к икрам. Она кусала губы и казалась смущенной, так что я предположил: возможно, она приехала из России или из Польши и не понимает по-немецки.
Сухопарая тоже обернулась. Она подняла руку, в которой держала колбасный талон.
– Может, кто-нибудь хочет поменяться?
– Поменяться?
– Колбасу на сыр. – Она немного смягчила свой резкий южно-немецкий говор.
– Ну, уж это вы могли бы сказать сразу. Еще бы нет! Колбасу мы едим в охотку – мои пять голодных ртов и я. Чайную колбасу, ветчину, ах, да по правде говоря, мы всё едим в охотку. Вот так. – И не давая никому себя опередить, пышнотелая в желтой непромокаемой накидке выхватила у своей обидчицы талон.
Обе отоварили свои талоны и удалились, соблюдая между собой дистанцию в добрых пять метров.
– Можно подумать, нам тут делать нечего. – Женщина на раздаче кивнула вслед отошедшим и громко проговорила про себя, так, чтобы мы могли ее слышать:
– Пять голодных ртов. Смех, да и только. Почти четыре тысячи человек перебывали здесь за прошлый год, если присчитать поляков, – да, без малого четыре тысячи, только здесь, в одном этом лагере.
Женщина в летнем платье, стоявшая передо мной, подошла к окошку раздачи.
– Добрый день! – Поздоровалась она и протянула в окошко небольшую пачку талонов, – наверное, вы могли бы мне помочь. Что я получу за такой вот талон? – Она выдернула из пачки лежавший сверху талон. Говорила она без малейшего акцента, с интонацией Восточного Берлина. Когда она, привстав на цыпочки, наклонилась к окошку, мокрый подол ее цветастого летнего платья потянулся вверх и остановился в подколеннрй ямке.
– "Ч" означает рацион чая. А вот "М", то есть рацион молока. "X" – это хлеб. Здесь вы можете выбрать, что хотите – хлеб из разносортной муки или хрустящие ржаные хлебцы.
– Да, тогда, тогда я возьму… А нельзя понемногу и того, и другого? – Она отвела за ухо прядь волос. Моросящий дождь обрызгал ее волосы мелкими капельками, словно украсив их сверкающей диадемой, сбоку я видел ее изящный профиль – она выглядела как чешская сказочная принцесса.
– Ну, это если у вас два талона. Один талон – один рацион.
Женщина на раздаче помогла ей разобраться с талонами.
– Вот повидло, но ассортимента нет – только клубничное, вот масло или маргарин, а вот это отоваривается только раз в неделю, – это талон на кофе. У вас ведь есть дети?
– Откуда вы знаете? – Она провела рукой по волосам, стерев мелкие капельки, – теперь ее волосы были просто мокрыми, перестав быть волосами принцессы. У принцесс не бывает детей.
– По талонам на молоко – одинокому взрослому столько молока не дают. – Женщина на раздаче с удовлетворением засопела, отвернулась и принялась упаковывать продукты.
– Чайную колбасу или ветчину?
– Чайную колбасу, пожалуйста.
– Сахар и соль нужны?
– Да, пожалуйста, у нас уже все это кончилось.
– Растительное масло?
– Да.
– Сможете вы все это унести?
– Конечно, смогу.
– Если нет, вот этот молодой человек вам поможет. – Женщина подмигнула мне из своего окошка, а молодая дама обернулась. На ее лице мелькнула улыбка.
– Ах нет, не беспокойтесь, помощь не требуется.
– Вот я все вам упаковала в одну коробку, так вам будет удобней нести. – Раздатчица пододвинула вперед картонную коробку, дама взяла ее, рассыпаясь в благодарностях, как, наверное, поступил и я, когда был здесь в первый раз. Глядя ей вслед, я заметил, как намокшее летнее платье прилипало у нее к икрам и странным образом сковывало ее движения, ей удавалось ступать лишь мелкими шажками. Я благодарить не стал. В конце концов продуктами нас одаривала не эта женщина на раздаче, – как я предполагал, за эту работу ей платили. У нее была работа и торжествующая, покровительственная улыбка служащей, которая соединяет приятное с полезным и помимо месячного оклада снова и снова получает выражения благодарности от новоприбывших. Я вручил ей свои талоны.
– Есть особые пожелания?
– Спасибо, нет.
– Какого вам хлеба – из разносортной муки или хрустящего ржаного?
– Какого у вас больше.
– Вы в самом деле хотите взять две порции масла? – Женщина подняла руку с соответствующими талонами.
– Нет, это, видимо, ошибка, я и понятия не имел.
– Тогда сыру.
– Спасибо, нет.
– Колбасы?
– Нет, нет, – оставьте ее себе. – Ее вопросы были для меня слшком сложными. В продуктовых талонах я ценил одно: на них было четко написано, что можно за них получить, поэтому не приходилось принимать трудные решения. Я взял продукты, отказавшись от чечевицы, которую сегодня давали вместо консервов.
– У меня есть еще турецкие бобы! – крикнула эта женщина мне вслед, но я не обернулся и воздержался от благодарности. Я не хотел еще больше усиливать чувство собственной значимости, которое и без того отчетливо слышалось в ее голосе.
Дама в летнем платье стояла возле металлической лесенки, где сидели дети. Свои сладости они, очевидно, уже съели или спрятали. Она поставила коробку на лесенку, между детьми, и стала демонстрировать им свою добычу: хрустящие хлебцы, чайную колбасу, сахар. Она закурила сигарету и наблюдала за тем, как они вытаскивают пакетики, один за другим, вертят их, рассматривают и при этом что-то говорят.
Я пытался перехватить взгляд женщины в летнем платье, с удовольствием бы ей улыбнулся и увидел ее улыбку, но она на меня не смотрела, так что я прошел мимо нее, двигаясь вразвалку, едва переставляя ноги, поминутно оглядываясь – вдруг она обернется – и открыл дверь в свой подъезд.
Младенец орать перестал, вероятно, заснул, а может, родители взяли его подышать свежим воздухом, во всяком случае, дверь в соседнюю комнату была заперта. Волоса в щели больше не было. Правда, это можно было истолковать двояко: в конце концов, дверь могла захлопнуться от порыва ветра, и тогда волос бы вылетел сам собой. Но даже если бы он все еще был в замке – как мог я быть уверен, что и у других людей не возникла та же идея, что им не хватило хитрости проверить, нет ли в запертой двери зажатого волоса. Им было бы легче легкого вернуть волос на место. Я намазал маслом хрустящий хлебец и подошел к окну. Новенькая сидела у основания металлической лесенки и курила; она взглянула наверх на своих детей и что-то сказала. Дети засмеялись. Она стала растирать себе мокрые икры, ей наверняка было холодно. Я разгладил ладонями джемпер и кое-что прошептал. Женщина в летнем платье встала, вынула из кармана плаща какой-то небольшой предмет и протянула его мальчику в очках. Однако мальчик замотал головой, а его сестра взяла то, что ей предлагали. Потом мальчик оттолкнулся и прыгнул матери на спину.








