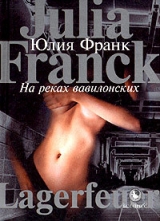
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
– До свидания.
Кроме Петры, которая лишь мельком посмотрела на меня и подмигнула, мне никто не ответил.
Когда двое встречаются на улице
– Вот так номер! Вы разве не фрау Зенф? – Женщина, к которой я обратился, обернулась, с плеча у нее вяло свисала пустая сумочка. Она прищурила глаза и внимательно смотрела на меня, пытаясь понять, кто я.
– Вы живете в Мариенфельде, верно я говорю? В лагере. – Одной рукой я оперся о свою машину и с улыбкой глядел ей в лицо.
– Кто вы такой? – Стекла ее очков были усеяны мелкими капельками.
– Джон. Джон Бёрд. Я работаю на американском контрольном пункте. Месяца два тому назад у нас с вами состоялась беседа.
– Что у вас было?
– У нас. Я сказал, что у нас была беседа. Вы не помните? Разговор шел о мотивах вашего бегства.
– Мне очень жаль. – Она поправила на плече пустую сумку и собралась было продолжить свой путь под моросящим дождем.
– Подождите, я не хотел вас пугать. Можно вас подвезти?
– Спасибо, нет. – Ее кашель звучал сухо и хрипло.
– Пойдемте, выпьем по чашке кофе, здесь недалеко есть кафе.
К моему удивлению, она улыбнулась и сказала:
– Почему нет?
Мы вошли в кафе, она села на один из диванов, обитых красным бархатом, и я получил возможность оглядеть в большом, ослепительно сияющем зеркале за ее головой полупустой в этот утренний час зал. Несколько мужчин сидели поодиночке за столами, изучая газеты, со своими трубками и с кофе в самых разных вариантах, который стоял на небольших серебряных подносах рядом с крошечными и никогда не пустовавшими стаканчиками с водой, а кое-кто курил французские сигареты без фильтра. Нелли накручивала на палец прядь волос и ждала, пока я сяду напротив нее.
– Вы не хотите снять куртку?
Она неторопливо, сидя, сняла куртку, тонкую и совершенно промокшую. Под курткой оказалась свободная блузка из тончайшей ткани. Что на ней нет бюстгальтера, было видно сразу. Я отнес ее куртку в гардероб, – влажная ткань источала почти знакомый запах, – и вернулся на место, когда она садилась на диван, держа в руках коробок спичек и прикуривая сигарету. В зеркале я смог увидеть, как ей приветливо и настойчиво кивает какой-то пожилой господин, явно тот, кто подарил ей спички.
– Вы начали курить?
– Почему начала? – Она помахала спичкой, чтобы та погасла, и бросила ее в пепельницу.
– Во время нашей беседы два месяца назад вы еще не курили.
– Этого я не помню. Сейчас я курю. – Она даже не пыталась подавить зевоту. – По возможности не при детях, наша комната быстро наполняется дымом. – Ее сигарета тлела, по ней можно было следить за дыханием Нелли.
– Вы молодая. – Это я констатировал, а не спрашивал.
Я еще не был уверен, надо ли ей говорить, что недавно на улице я принял ее за малолетнюю проститутку, потому что она ходила по тротуару какой-то порхающей походкой, еще более деланной, чем у той девушки, которая прохаживалась здесь до нее, и которую я часто видел фланирующей по Курфюрстенштрассе. Эта походка каким-то непостижимым образом внушала тебе, что девушка готова стараться ради удовольствия, а не только за маленький пакетик героина или из страха перед здоровенным парнем в меховой куртке, следящим за ней из машины за углом, с мастино на заднем сиденье, разинувшим пасть и высунувшим язык. Замечание о ее молодости как будто бы ей понравилось. Пальцы ее играли спичечным коробком. В ее глазах я разглядел мимолетную улыбку.
– Это вы так думаете.
– Нет, я это знаю. Точно не скажу, но вам еще нет тридцати.
– Кто знает? – Ее улыбка проводила едва ощутимую границу, не столько стену, сколько ограждающий канат, который задорно призывал его перепрыгнуть. Спички в коробке между ее пальцами пересыпались, издавая легкий шум. Потом пальцы замерли, точно она ждала моего следующего вопроса.
– Что поделывают ваши дети? Они ходят в школу, верно?
– В настоящий момент – да. Мой сын десять дней пролежал в больнице. Но вот уже две недели, как он опять ходит в школу.
– Что-нибудь скверное?
– У вас есть дети?
– К сожалению, нет.
– Но вы ведь женаты?
– Вы что, теперьменядопросить хотите?
– Кто говорит о допросе? Я вижу ваше кольцо и думаю про себя: вы выглядите, как женатый мужчина.
Я опять услышал звук пересыпающихся в коробке спичек. Если бы я ее спросил, не для того ли она прохаживается по Курфюрстенштрассе, чтобы заработать еще немного денег, она бы ответила мне вопросом, часто ли я здесь бываю, – в этом я был уверен. Поэтому, немного помедлив, я спросил:
– И как же выглядит женатый мужчина?
– Есть женатые мужчины, которые выходят на охоту. Это легко определить по их походке и по тому, как они смотрят на женщин.
– И как же такие женатые мужчины смотрят на женщин?
– С любопытством, с известной уверенностью в себе и с совершенно естественным чувством превосходства, голодным и одновременно пресыщенным взглядом. Жадно, но без настоящей готовности рискнуть. Каждый из них, словно король с большим аппетитом, который ночью пробирается в дворцовую кухню, открывает горшки и кастрюли, чтобы зачерпнуть пальцем и попробовать им самим выбранные яства, а узнав, какое из них вкуснее, быстро проглотить, и таким образом всю ночь наедаться, передвигаясь от горшка к горшку, прежде чем ему на следующий день, как всегда, накроют стол.
Нам принесли кофе, я взял ложкой кусок сахару, обмакнул его в кофе и наблюдал, как сахар становится коричневым. Я взял ложку в рот.
– Значит, по-вашему, я такой?
Она бесстрашно наблюдала, как сахар исчез у меня во рту, потом ее взгляд устремился за окно, и я уже опасался, что она перестанет обращать на меня внимание, как она вдруг сказала:
– Вишневые деревья. Как странно. Вишневые деревья посреди города и посреди зимы.
Я не стал следовать за ее взглядом, я хотел удержать ее там, где мы с ней только что были, поэтому выжидательно смотрел на нее. Она еще не ответила на мой вопрос.
– К тому же вы человек удивительной профессии, вы работаете на свое правительство, на ответственном посту, в секретной службе, в поисках истины и возможного соприкосновения с возможным врагом. В известной мере вы можете даже подумать, что вы сами – часть правительства, это выдает жажду власти и безоглядное стремление целиком подчинить себя высокой задаче. Вероятно, вызов кроется в повседневном преодолении жажды власти, чтобы она была подчинена делу.
– Вы считаете, что я – король на дворцовой кухне?
– Женатый человек.
– Что бы вы сказали, если бы я вас спросил, не пойдете ли вы со мной в ближайший отель?
– Вишневые деревья зимой такие черные и старые, что их цветы весной выглядят такими красивыми прежде всего по контрасту. – Но смотрела она не на вишневые деревья, она смотрела на меня.
– Так вы пойдете со мной?
– Почему нет?
На маленьком серебряном подносе, который пододвинул ко мне кельнер, зазвенели монеты. Через руку у него были перекинуты ее куртка и мой плащ.
Моросящий дождь временами переставал. Ее запах, сладкий и острый. Я поднял плащ и держал его над нами, как зонт, пока мы шли несколько шагов до машины.
Комнаты в отеле были крошечные, от стены до стены – буквально два шага. Уши у нее пылали, и она часто дышала. Кожа у нее была нежная. Только потом, после всего, я ее совсем раздел и с ней на руках миновал считанные сантиметры до кровати. Она осталась лежать на животе и не хотела, чтобы я укрыл ее одеялом. Я еще в октябре удивлялся, что она не мерзнет в своем цветастом летнем платье и желтоватых колготках. Под темными волосами проглядывала ее длинная белая шея, я погладил ее плечи, спину и ниже, до подколенной ямки, где было черное родимое пятно в виде островка.
– Почему вы прячете черную кожу?
– Она мне не нравится.
– Взгляните, сколько ее у меня. – Я взял ее руку и провел ею по моим плечам.
– Это совсем другое. – Ее прохладная рука лежала в моей руке, словно была не ее, словно каждое движение и прикосновение этой руки еще несколько минут назад исходили от другой женщины.
– Разница не так уж велика. Человек и человек. Кожа и кожа. Цвет и цвет. – Ее цвет был на вкус солоноватый, кожа отливала серебром. Меня волновал ее запах, сладкий и острый, чуть кислый; прохлада ее кожи и серебро, которое нельзя было ощутить на вкус, а можно было только видеть, вызывали у меня озноб и оторопь. Казалось, ей это безразлично. Я выпрямился и положил ей руку на грудь.
Она внимательно посмотрела на меня. Пока ее тело было погружено в прохладу, мысль ее, казалось, лихорадочно работала.
– Тем не менее ваша рука всегда нисходит сверху. Вы не боитесь скуки и пресыщения.
– Почему это она нисходит сверху? – Я взял ее руку и поднес вплотную к моей груди.
– По отношению к нам. Вы представитель, или по меньшей мере, часть, а значит, орган государства, которое решает, имеем ли мы право остаться, и в каком качестве.
Ее шею охватывала тонкая серебряная цепочка. Я подцепил ее указательным пальцем и хотел взять маленькую овальную подвеску, которая висела не цепочке, но она отстранила мою руку.
– Это "мы" означает какую-то группу? – Я схватил ее руку и провел ею по своему лицу, дав ощупать скулы, нос и короткие волосы.
– Нет, это "мы" означает разрозненных людей, беженцев, переселенцев, высланных. Каждого достает рука сверху и поднимает его, либо делает ему знак. – Ее рука вяло шевелилась в моей, но вдруг ожила и двинулась дальше, я почувствовал ее на спине и ниже, – руку, которая кажется слишком маленькой, чтобы суметь схватить меня даже за щеку. Теперь обе ее руки трогали меня со всех сторон, мои шрамы, онемевшие места, кожу между ними, иногда они только гладили, но не хватали, а иногда хватали, – каждая из ее рук.
– Вы приезжаете такие, какие вы есть, а мы смотрим, какие вы. Одно дело, когда человека преследовали, другое дело – когда нет. Тут есть разница. – Уже не в первый раз с тех пор, как я встретил ее на улице, я невольно думал о Баталове, присутствие которого я ощущал так отчетливо, словно он прятался за портьерой или вместо меня отражался в ее глазах.
– Смотрите. Нет, вы не смотрите, скорее вы проверяете, подходят ли вам те свойства, которые вам предстоит обнаружить. – Голос у нее был хриплый, а глаза блестели, не давая даже самому рассеянному моему взгляду проникнуть внутрь.
– И что, подходят?
Нелли не улыбнулась. Ее взгляд проскальзывал куда-то между нами. На пейзажных обоях было много синевы, пальм и видов южных островов. Я был почти уверен, что в Ноксвиле нигде не было на стенах пейзажных обоев, такое казалось мне возможным только в Германии. Куда бы я ни смотрел, взгляд упирался в узкое, слегка косое окно, которое позволило бы увидеть задний двор, если бы не розовые занавески с оборками. Старая кровать скрипела. Выпасть из нее было бы не так легко, потому что она прогнулась, как миска, спрятав нас в себе. Не то что мягкое, уютное гнездо, а ореховая скорлупка в океане, взявшая курс на один из южных островов. Запах Нелли не ослабевал, а час, отведенный нам в этой комнате, был почти на исходе. Я поймал себя на том, что надеюсь: следующая пара придет необязательно сразу после нас, чтобы безо всякого права окунуться в ее запах.
– Если вот так посмотреть на вас, то можно бы забыть, где вы живете и откуда приехали. – Щека у нее была теплая, какую-то секунду я касался ее губами. Она могла считать меня прожженным бабником, королем Обжорой. – Кто же вы такая? – добавил я шепотом. Я ненадолго отодвинулся от нее, чтобы лучше ее рассмотреть и потрогать, и тут она сказала:
– Не я.
– Вы – это не вы?
– Нет. Хотя… Нет. – Она потерлась носом о мою вспотевшую грудь, мне показалось, что в ее глазах я заметил отвращение. – Я неспособна забыться.
Ответить ей захотели мои руки. Синева отодвинулась вдаль, а пальма оказалась прямо под боком. На таком вот южном острове мог обретаться Баталов, он прятался бы и в своем одиночестве издавал бы звуки, какие издают герои комиксов: "крррсссчш", поедая мякоть кокосового ореха, или "цшшшшт", откусывая банан, и ждал бы, пока явится она. И она пришла бы, потаенными и все же видимыми путями, как положено в сказках, и избавила бы его от этих звуков. Однако Баталова пока не было видно, вместо него я видел в зеркале, как моя рука хватает ее груди, и ее рот раскрывается, а я не мог с уверенностью сказать, от чего – от наслаждения или от боли. Само зеркало словно бы терзалось сомнениями и потому искажало его. Руки мои не замедлили с ответом.
Когда я ее одевал и подал ей очки, которые предварительно протер и только потом ей надел, она спросила, стал ли бы я вот так одевать свою жену. А я в свою очередь ее спросил, почему она живет в лагере, а не у друзей.
– Вам что, опять захотелось узнать имена? – Голос ее звучал резко и в то же время кротко. – Настоящих друзей у меня здесь, на Западе, нет. Во всяком случае, таких, у которых я могла бы запросто жить с двумя детьми.
Я чувствовал ее взгляд на моем теле, на шрамах, которые она только что трогала. Язычок от пряжки брючного ремня упала на ковер с тихим глухим звуком. Когда я наклонился, деревянный пол под ковром заскрипел. Я подобрал язычок, но он никак не приделывался.
– Вы ведь знаете, что заводить в лагере друзей опасно.
Она присела на кровать и наблюдала за моей попыткой застегнуть ремень без язычка.
– Там есть шпионы. Не один десяток лет госбезопасность внедряет туда своих людей. В прошлом году была попытка похищения. Что тут смешного?
Нелли прикрыла рот рукой и фыркнула.
– Даже русские службы тянут сюда свою длинную руку, пытаясь вернуть заблудших овец.
Она прыснула от смеха.
– До чего всерьез вы принимаете свою задачу.
– Эта задача вполне серьезна, мне незачем ее принимать всерьез. – Ее смех постепенно начал меня раздражать. На конце ремня я завязал петлю.
Ее смех, который еще в конце октября напоминал мне смех юной девушки, сейчас показался мне детским, а под конец даже – смехом чертенка, а не человека.
– А кто вам сказал, что я не шпионка?
– Я это учитываю.
Она удивленно взглянула на меня. Лицо у нее было гладкое, словно она и не думала смеяться.
– Вы это учитываете?
– Учитываю, как одну из неизвестных величин. Иначе я не мог бы работать.
– Вы хотите сказать, что сейчас вы работаете? Мы с вами переспали, и это ваша работа?
– Нет. Однако моя работа неотделима от моей личности. Я еще ни разу в жизни ни на секунду не переставал чувствовать ответственность. Так что я всегда принимаю в расчет какую-то неизвестную величину, вроде вас.
Заговорил радиобудильник.Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight.
Одним движением я подтянул узел галстука.
– А нельзя его выключить? – Нелли похлопала ладонью по радиобудильнику. Но это не помогло. Тогда она ударила по нему кулаком, и радиобудильник умолк.
Я спускался впереди нее по узкой лестнице, и мимоходом сунул хозяйке чаевые. Благодарность ее прозвучала сухо, едва слышно. Она повернулась к нам спиной, достала с полки свежее белье и пошла наверх. Проезжавшие автомобили разбрызгивали дождевую воду, я открыл перед Нелли Зенф дверцу машины.
– Какая фальшивая песня, – сказала она, когда я сел в машину рядом с ней.
– Почему вы так волнуетесь из-за какой-то песни?
– Я не волнуюсь. Кто из этих людей когда-либо плакал о Сионе? Такая песня – насмешка над нами. – Ее дыхание застыло между нами облачком белого пара.
– Над нами? Над группой, которая совсем и не группа, а состоит из разрозненных людей?
Она ничего не ответила. Пока мы ехали, она держала руки в карманах куртки.
– Вот, опять не проехать, – заметил я на одном из перекрестков. Она вытянула губы трубочкой, потом поджала их так сильно, что под ними обозначились зубы, и казалось, будто у нее вообще нет рта, а на этом месте выпятилась бледная складка кожи. Когда мы проезжали под мостами городской железной дороги, я предпринял еще одну попытку прервать ее молчание.
– За последние несколько недель популярность президента неожиданно выросла. Еще Кеннеди в свое время обеспечил себе прирост голосов благодаря активной внешней политике. И похоже на то, что Кемп – Дэвид спасет президенту его кресло. Жаль только, что активность избирателей у нас так низка.
Нелли тупо смотрела перед собой и играла прядью волос. Она слегка повернула голову. Газометр почти скрылся в тумане.
Только когда мы проезжали мимо маленького указателя "Мариенфельде", она вытащила руки из карманов куртки и заговорила.
– Когда я гляжу на вашего президента, мне всякий раз невольно вспоминается кот. Кот в сапогах.
– Откуда вы знаете английский?
– Я не знаю английского. – Она снова засунула руки в карманы куртки.
– Нет, знаете. И я нахожу это необычным для человека с той стороны.
– Нет, не знаю.
– Вы поняли текст песни.
Она промолчала, не разжала губы.
– Мне так показалось уже в тот раз, когда мы с вами беседовали.
Нелли внезапно прыснула.
– Шпионка, – смеялась она, – которая втайне говорит по-английски.
Я терпеливо дал ей отсмеяться, потом сбросил скорость и свернул в боковую улочку.
– Мы приехали.
– Еще не совсем.
– Мы не пойдем вместе мимо привратника.
– Нет. Наверно, это повредило бы вашей репутации. А сейчас вы работаете? – В ее взгляде соединялись насмешка и серьезность, которая, возможно, была лишь наигранной.
– Через полчаса – да. – Я выключил мотор, но продолжал сидеть.
– Как научные работники, мы постигали основы своей науки на аглийском. По крайней мере, так было в отделении, где работала я. По-английски читал не каждый, но я читала. В конце концов мы были обязаны уметь читать западные публикации. – И она кивнула, будто не веря собственным словам.
– Вы вовсе не так уж долго занимались научной работой. И такого вот профессионального постижения основ было достаточно, чтобы понимать разговорный язык?
– Теперь вы, Джон Бёрд, смотрите на меня весьма скептически. Вы что, мне не верите? – Глаза ее метали искры. Всерьез она меня не принимала.
– Я не знаю.
– Вера не имеет ничего общего со знанием. – Нелли засмеялась, и я вспомнил ее толкование понятия "вера", которым она в октябре развлекала нас с Гарольдом.
– Потому я и говорю, что не знаю, – сказал я и подумал о том, что вечером мне предстоит беседа в ЦРУ, беседа, которой я ждал, надеясь, что она вытащит меня из этого лагеря и обеспечит мне перевод на другой пост, достойный моего труда и моих возможностей.
– Что вы хотите от меня?
Вопрос был задан неожиданно, и я секунду медлил, не зная, должен ли я отвечать. Она, должно быть, думала, что наши расследования редко выходят за рамки процедуры принятия. Что же я мог от нее еще хотеть? Полезными ей мы могли быть в октябре, а сейчас на дворе был уже декабрь, процедура ее принятия считалась завершенной, а она жила в лагере. Тут уж от нашей доброй воли ничего не зависело. Она все еще смотрела на меня, бледная и холодная, ее большие карие глаза, несмотря на длинные ресницы, не казались затененными. Ее густые и тяжелые каштановые волосы свободно лежали на плечах, не подчиняясь никакой прическе, и в лучах пробившегося сквозь тучи солнца отсвечивали рыжиной. В ожидании моего ответа глаза ее, казалось, застыли, ни единый взмах ресниц не прерывал ее взгляда.
– Вы что, никогда не плачете?
– А что, я должна заплакать? Вы этого от меня хотите?
– Я только задаюсь вопросом, почему вы не плачете.
– А я таким вопросом не задаюсь.
По улице шла женщина с маленькой белой собачкой, на которой было надето красное пальтишко с капюшоном, закрывавшее спину и застегнутое на животе. Конечно, оно должно было защищать собачку от холода и дождя. Я вынул из кармана рубашки пачку сигарет и предложил Нелли закурить. Она достала спички из сумочки и опередила меня с моей зажигалкой. Она втягивала в себя раскаленный воздух, в котором кислород уже выгорел, не успев дойти до ее рта.
– Слез у вас уже не осталось, верно?
– Да, если вам угодно. – Изо рта у нее шел дым. Она чуть выпятила губы. – Я думаю, слезы вас не интересуют. Единственное, чего вы хотите добиться, что хотите увидеть, – это смирение. – Она улыбнулась.
Стекла автомобиля запотели, людей, проходивших мимо, трудно было узнать в лицо. В ЦРУ я собирался сказать, что я готов и был готов еше до первой ступени обучения, во время самого обучения и второй ступени, в каждую секунду моей жизни я чувствовал себя готовым, так я думал и хотел бы сказать: я давно уже готов и созрел. Что важно для меня, так это наша свобода, а условия я буду соблюдать и создавать сам. Безопасность. Вот что поставлено на карту. То была великая идея, во имя которой я шесть лет назад целыми днями летал на своей трудолюбивой пчелке, беспрепятственно облетал поля вместе с товарищами, хотя мне, как и им, пришлось читать в "Пентагон пейперс" что, возможно, мы забираемся так высоко, потому что другие виды военных действий вызывают у нас кризис личности, – даже если впервые в нашей истории это не привело к победе, правда, мой полет оставлял просеку, рубец в ландшафте, а над ним – плотные грязные тучи, но на Рождество я упал поблизости от Хайфона. Я бы им сказал, что готов отправиться, куда бы меня ни послали, на еще более бесперспективные авантюры, и не признался бы, что горел желанием выполнить любые задания, и что я не мог сдержать слезы, когда несколько дней назад смотрел фильм "Охота на оленей", я хотел сказать, что буду защищать мою страну. Моя жена не будет этому помехой, нет, помехой она еще никогда не была.
– Зачем нужны эти обследования? – Нелли затягивалась сигаретой и выпускала дым себе на колени.
– Какие обследования?
– Медицинские. В первую неделю. Почему вновь прибывших отправляют в карантин, и для чего их следы их присутствия сохраняются в маленьких пробирках, зачем надо сдавать анализы крови и кала, зачем исследуются и измеряются наши тела? Для чего еще это делается, если не для того, чтобы мы выказали смирение? – Всякий раз, как Нелли произносила слова смирение" и "смириться", она словно бы нечаянно улыбалась.
– Обследования производятся ради безопасности. По причине особого положения этого города – острова приходится опасаться проникновения возбудителей болезней, эпидемии могут распространиться в лагерях и по всему городу.
– Вы шутите? – Она рассмеялась и сглотнула слюну, погасила сигарету, опять сглотнула и рассмеялась.
– Это совсем не смешно, где-то в России культивируется вирус оспы, там производят эксперименты. – Вдруг меня пронзила догадка, что общественности об этих экспериментах ничего не известно, и что я чуть было не выболтал секретные сведения. – Вы только представьте себе, что приехал человек с туберкулезом. Неужели мы не возьмем у него анализ крови, а в случае сомнений не сделаем ему рентгеновский снимок, неужели не будем держать этого новоприбывшего в изоляции? Ведь он за короткое время мог бы заразить весь лагерь. Дети стали бы ходить с этим носителем инфекции в школу, те, кто работает, приносили бы болезнь в город.
Она расстегнула мой плащ, отодвинула в сторону отворот пиджака и положила руку мне на грудь. Чего она хотела, – ощутить мою кожу, биение моего сердца? Ее рука блуждала по моей груди, а мое сердце под этой рукой билось ради свободы, и безопасности, и независимости. Это я еще сознавал, и все же ее прохладная рука вызывала и другие эмоции. Какое-то неясное желание, возможно, стремление преодолеть опасность, побороться с нею, помериться с ней силами. Она вытащила из кармана моей рубашки пачку сигарет и улыбнулась, как улыбалась, произнося слово "унижение". Я протянул ей мою зажигалку. Язычок пламени был маленький. Она взяла у меня зажигалку из рук и сама высекла себе огонь. Я запустил пальцы ей в волосы, потрогал шею, белую и теплую, часть внешней оболочки ее существа, кусочек кожи, как залог смирения, которого я от нее требую.
– Чего я требую от вас, как и от других людей, – это всего лишь смирения перед независимостью и свободой, какие вы сможете познать, едва вырветесь из Восточного блока, – сказал я, и сказал это с иронией в голосе, которую, как я надеялся, она не уловила, поскольку иронию для этого утверждения я придумал только сейчас, чтобы не дать ей узнать обо мне что-то определенное, не говоря уже об истинном. Но она смотрела на меня, не догадываясь, что я полон решимости выполнить задание, которое получу сегодня вечером после собеседования, на котором меня сочтут достойным этого и примут в свои ряды. Это задание, казалось мне, я начал выполнять уже сейчас, сидя в машине, где запотевшие стекла частично скрывали для меня облик внешнего мира, но и внешнему миру не давали как следует разглядеть мой облик и то, чем я занимаюсь, – мою беззаветную преданность целям моего правительства, ради которых я если и не погиб, то так проникся ими, что чувствовал, как свобода, безопасность и независимость, слившись воедино, пылают во мне. И это пламя, и мгновенная боль, какую причинили мне зубы Нелли, дали мне ощущение, что сам я – воплощение свободы, а перед свободой она должна была выказать смирение. Поэтому я позволил ее голове остаться у меня на коленях, а ее губам – сомкнуться вокруг свободы, провел рукой по ее волосам и шее, ощутил под пальцами ее позвоночник и подумал о статуе Свободы, а больше – решительно ни о чем.
У меня не было желания ответить на ее улыбку, ' даже когда она подняла глаза и улыбнулась, как улыбалась, произнося слово "смирение". Смирение можно было воспринимать только всерьез, и я был готов ко всему. Ее улыбка стала маской, но снять эту маску я не давал себе труда. Через семь минут я заступлю на службу, если она наконец-то уберет свою задницу из моей машины и последние метры до лагеря пройдет пешком. Тогда я еще успею найти место для парковки и вовремя появиться в конторе. Однако вместо того, чтобы выйти, она потрогала пальцем шрам у меня на лбу.
– А этот откуда?
– В другой раз, – сказал я, перегнулся через нее и открыл дверцу машины, чтобы она могла выйти. Если бы я ей сказал, что не имел понятия, откуда этот шрам, знал только одно: что моя пчелка была сбита, а катапульта сработала, зато память долгое время работать не хотела, – то она бы, вероятно, насмешливо откликнулась: "Тысяча девятьсот семьдесят второй?" В тот год мы через открытые границы проникли в Польшу, страну, которая после большой забастовки была такой революционной, как никакая другая. Она бы рассказала мне про американские фильмы, которые она там видела, и о том, как она любовалась небом над Мазурскими озерами.
Она наконец вышла, потом обернулась и произнесла:
– Каждому свое геройство.
На запотевших стеклах образовались тоненькие ручейки, прихотливый узор на матовом фоне. Вполне возможно, что она в то время не читала газет, и в ее мир не приникала информация о том, сколь трудно нам было стать героями в той войне. Не найдя под рукой ничего другого, я протер стекла рукавом плаща. Видимость, правда, улучшилась от этого ненамного, но достаточно, чтобы тронуться с места. Хотя я торопился доехать и припарковаться, все же я поравнялся с будкой привратника, как тогда, когда она интересовалась своей почтой. Она даже не обернулась на меня, поэтому я не мог удержаться, чтобы в нескольких метрах от входа не подождать ее и не сказать:
– Тогда вы утверждали, что не может быть более надежного места, чем коммунистическая страна, обнесенная стеной. К сожалению, вынужден вам сказать, что вы заблуждаетесь – вы, или ваша мать, которая якобы этого говорила. Безопасность людям обеспечивает не просто стена. Только приказ стрелять обеспечивает безопасность.
Она отчужденно взглянула на меня, как будто не узнавая, потом повернулась, словно я был какой – то сумасшедший, что посреди улицы разговаривает сам с собой, окликает прохожих, не дожидаясь ответа, – и пошла дальше своей порхающей походкой, на которую я обратил внимание два часа назад на Курфюрстенштрассе.
Чья-то тяжелая рука похлопала меня по плечу.
– Джон, ты ведь не станешь заводить разговоры с бабами из лагеря? – Рик протягивал мне пачку сигарет, и я взял одну. – Ты ее знаешь? – В зажигалке кончился газ.
– А что, должен знать? – Но своей зажигалки я не нашел, вероятно, ее прихватила Нелли.
– Да нет. Просто красивая женщина, я тоже уже обращал на нее внимание. – Он нашел у себя спички, и я прикрыл рукой сигарету, чтобы ветер не погасил пламя.
– Порядок. – Мы прошли мимо охранника и через парковку к нашей конторе.
– Я спросил ее, который час, поскольку мои часы остановились. – Для подтверждения я постучал по стеклу своей "Омеги". – Но, похоже, здесь никто не понимает по-немецки.
– Так попробуй разок по-английски. – Рик, смеясь, придержал передо мной дверь. У меня мелькнула догадка, что его предложение могло быть намеком, возможно, он был знаком с Нелли, и я был не единственным, кто знал, что она говорит по – английски. Но потом я решил, что вряд он мог ее знать, здесь жило слишком много народу, и едва ли кто-то из нас мог близко общаться с этими людьми. Так я решил. И не без удовольствия, которое ощущал, как нечто запретное, по меньшей мере, как извращение, вдыхал запах вестибюля, чувствуя, что постепенно расслабляюсь. Каждое утро, – а в такой день, как сегодня, только во второй половине дня, – когда я входил в помещение нашей конторы, то, едва перешагнув порог, испытывал благостное и приятно отупляющее чувство. Благостность, среди прочего, вызывал несколько затхлый дух, что только вначале воспринимался как холодное и свежее дуновение, в коем смешивался запах мужской мочи – туалеты явно убирали недостаточно тщательно, – и пота, какой надолго остается в пальто умерших людей, но также и под мышками современных рубашек из полиэстера, которые носим мы все. Хотя никто здесь не переобувался и даже не развязывал шнурков на ботинках, на третьем этаже сильно пахло средствами для ухода за обувью.
В комнате для собеседований сидела на стуле женщина лет сорока с крашеными хной волосами, ее брюки из серебристого кожзаменителя расширялись книзу. По ее документам я мог сделать вывод, что она бежала на Запад, сильно рискуя. Я должен был ей задать несколько вопросов, в общем, стандартных.
– Ваше имя?
– Грит Меринг. Родилась в Хемнице, последний адрес – Берлин, Димитровштрассе, шестьдесят четыре. – Она положила ногу на ногу и вызывающе смотрела на меня.
– Спасибо, но когда и где вы родились, значится у меня в документах. – Я полистал бумаги и нашел рисунок, который эта женщина сделала по нашему указанию: он изображал место бегства. Я старался не встречаться с ней глазами и пытался себе представить, как она в таком одеянии бежит сквозь ночь и туман – рыжие волосы горят вокруг головы, словно пламя, да и серебристая ткань ярко блестит в свете прожекторов.
– Можете вы мне кратко и внятно объяснить, как и где вы перешли границу?
– "Перешли"? – Она саркастически засмеялась. – Переходить я ничего не переходила, я переплыла через канал Тельтов.








