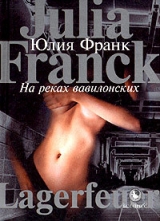
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Вы даете своим жертвам такие дорогие вещи? – Она еще держала в руке банку с кока-колой, но почти не пила. Создавалось впечатление, что она из вежливости притворяется, будто пьет, а на самом деле только подхватывает капельки из маленького отверстия. Казалось, возможность держать в руке банку для нее важнее, чем пить.
– Жертвам? – Гарольд с недоумением посмотрел на нее, потом опустил протянутую руку и с еще большим недоумением взглянул на меня. – Вы для нас вовсе не жертва. Мы беседуем с вами, чтобы определить, подвергались ли вы преследованиям. Итак, имя этого друга? Вы обмолвились, что у Баталова был такой друг.
– Нет, меня не преследовали. – Она решительно покачала головой и намотала на палец прядь волос. – Нет, ни в малейшей степени. После подачи заявления на выезд я лишилась права работать, но ведь это было в порядке вещей, особенно если человек занимался научными исследованиями. Или работал в средствах массовой информации. Или в сфере образования, или еще в чем-то таком. Это было вполне нормально.
– Имя этого друга?
– Какого друга?
– Недавно вы упомянули какого-то друга, с которым он время от времени якобы встречался по поводу своих переводов.
– Я упомянула? Нет. Никакого друга Василия я не знаю.
– Послушайте, не принимайте нас за дураков. – Гарольд опять потерял терпение. Когда он раздражался, то повышал голос. – Стоит нам спросить у вас имена, как выясняется, что вы никого не знаете.
Нелли молчала.
– Если вы не будете с нами сотрудничать, мы не сможем вам помочь.
Нелли опять ухватила прядь волос и принялась наматывать ее на палец. Она внимательно следила за Гарольдом.
– Вопрос в том, кто здесь кому должен помочь, – совершенно спокойно произнесла она и оставила прядь волос в покое.
Гарольд тяжело дышал, потом он повернулся к секретарше, заглянул в глубокий, как всегда, вырез ее платья и рявкнул:
– Такие вещи вы записывать не должны.
Секретарша подняла на него глаза:
– Я должна это вычеркнуть?
– Ах… – Гарольд снова сел на свое надежное место за письменным столом. – Давайте-ка вернемся ко времени перед тем, как вы подали заявление на выезд. Вы сказали, что хотели уехать, потому… потому что между вами и вашим другом возникли определенные проблемы. – Гарольд опять раскрыл папку и ждал ответа.
Нелли смотрела на Гарольда с недоумением. Ее кожа казалась мне белой, как мрамор, глаза у нее покраснели, даже слегка припухшие нижние веки просвечивали розовым.
– Проблемы? Я же вам сказала, что он лишил себя жизни. Для меня больше не имело смысла там оставаться. Он присутствует там во многих местах, и я не могу увидеть их по-новому. Другая страна с тем же языком, однако без этих мест – вот ради чего я здесь. Неужели вы этого не понимаете?
– Мне очень жаль, – деловито сказал Гарольд. – Однако здесь вы тоже не обретете вновь вашего друга.
На глазах у Нелли выступили слезы, было слышно, как она глотает слюну, она глубоко вздохнула, ноздри у нее вздрагивали, но она не плакала, – во всяком случае, не плакала по-настоящему, как плачет Юнис. Нелли, похоже, не приходилось сдерживать плач, скорее, слезы наворачивались ей на глаза, но там и оставались. Гарольд бросил на меня многозначительный взгляд.
– Вы сказали, что Василий Баталов бросился с крыши дома и не оставил вам настоящего прощального письма. Но ведь в его бумагах вы нашли какую-то заметку. Она была явно помечена одним из недавних чисел?
– Да, возможно, это был черновик.
– Вы не захватили эту заметку с собой? Эту последнюю заметку, последний привет от человека – вы просто оставили ее лежать, где лежала?
– Разве я раньше не говорила вам, что меня не интересуют такие материальные вещи? Нет, наверно, я ее там оставила.
– Подобные вещи вы называете материальными? Но ведь для вас это должно было иметь духовную ценность. – Гарольд подвинул по столу к Нелли лист бумаги. – Напишите здесь, что значилось в той заметке.
– Не могу.
– Почему же не можете? Если вы не будете с нами сотрудничать, мы не сможем вам помочь. – Гарольд принял обиженный вид, но потом все же изменил тон и нетерпеливо сказал: – Поймите же, тут речь идет о том, чтобы вас приняли в Федеративную республику. Вы же хотите, чтобы вас приняли?
Нелли кивнула, с сомнением посмотрела на меня, потом на Гарольда.
– Ну, пишите. – Гарольд протянул ей шариковую ручку.
Рука Нелли покоилась у нее на коленях. Она опять нерешительно посмотрела на меня. Мне показалось, что она ждет моей поддержки.
Теперь Гарольд воткнул острие ручки в бумагу.
– Вот. – Он дал понять, что теряет надежду. – Вот, пишите. И давайте не будем говорить, что для вас это не имело значения.
Нелли опять посмотрела на меня.
– Вот.
Ожидание в ее взгляде заставило меня спросить о том, что я впервые услыхал, когда он заговорил.
– Как вы понимаете эту фразу: не будем говорить, что для вас это не имело значения? – Я старался, чтобы мой голос звучал участливо. В конце концов, я был обязан задавать вопросы.
Нелли скрестила на груди руки и посмотрела на меня своими большими светлыми глазами. На вопрос она не ответила.
– Вот. – Гарольд воткнул ручку в бумагу и наклонился над столом. – Фрау Зенф?
– Это нигде на бумаге не значилось.
– Как вы сказали? – Гарольд взял себя за ухо. – Вы что, солгали нам?
– Нет, я вообще так не говорила.
Гарольд перелистал бумаги в папке.
– Фрау Зенф, мы задаем вопросы только ради того, чтобы выяснить, каким репрессиям вы подвергались.
Нелли кивнула.
– Да, это вы уже сказали. – Она говорила так тихо, что я едва расслышал. – Знаете, я здорово устала, возможно, мне просто больше ничего не приходит на ум. – Она склонила голову набок и облизнула губы. – Понимаете, полжизни меня расспрашивала госбезопасность, сегодня за меня взялись вы, завтра примутся англичане, послезавтра пожелают французы, пусть бы даже вы еще со мной не закончили. А когда же приступит к делу секретная служба ФРГ? Про это я уже забыла. А на границе меня расспрашивали наши государственные чиновники, уж не знаю кто, возможно, госбезопасность в форме, похожей на полицейскую. Голова у меня пуста, до того пуста, что вы и представить себе не можете, я уже понятия не имею, что я рассказала вам и что рассказала другим. Это, в сущности, перекрестный допрос. Может, вы завтра попробуете со мной еще разок? – Ее вопрос звучал почти умоляюще.
– Разве вас допрашивали? – На Гарольда ее измученное состояние никакого впечатления не производило. Я взглянул на часы: мы допрашивали ее, сменяя друг друга, уже семь часов, и насколько я знал Макнила и Флейшмана, до пяти часов они ее не выпустят.
Нелли истерически рассмеялась.
– Разве меня допрашивали? Это что, шутка? Меня беспрерывно допрашивают. Вы допрашиваете, другие допрашивают, всё у меня теперь вышло наружу, в голове ничего не осталось, она пуста, ее выспросили, всю выпотрошили. – Нелли постучала кулаком по голове. Я бы охотно ее от этого удержал, если бы мог и если бы не показался при этом смешным. Голос ее оставался неизменно приветливым и твердым. В самом деле: голос представлял заметную противоположность ее мнимой усталости.
– Но разве раньше, до подачи заявления на выезд, вас тоже допрашивали?
– Конечно, у меня было как минимум семь, или десять, или пятнадцать, или просто бесконечно много таких встреч с госбезопасностью, некоторые происходили в народной полиции. Я должна была являться на эти встречи, чтобы мне позволили учиться в университете, позднее для того, чтобы поступить на работу в Академию наук. В промежутке тоже находились поводы для вызова туда.
– Где именно это происходило? Кто вел допросы?
– А как, например, ваша фамилия?
– При чем тут я? Я же спросил у вас фамилии допросчиков из госбезопасности. – Гарольд давно уже потерял терпение и больше не пытался казаться дружелюбным.
– Вы думаете, что там называют по фамилии? По крайней мере, это-то вы должны знать. Никаких фамилий. Даже если бы им и полагалось представиться. Кто в такой ситуации запомнит фамилии?
– Где вас допрашивали?
– А где я сейчас?
– "Где я сейчас"? Вы что, фройляйн, все это время были в обмороке? Дом "П", вот вы где.
– Дом "П"… Это было в разных местах.
– И в каких же?
– Я уже не помню.
– Вот. – Гарольд опять хлопнул по листу бумаги и шариковой ручкой пробуравил в нем дырку. – Напишите названия мест и имена людей. Нарисуйте план этих мест.
Нелли не шевельнулась.
Гарольд набрал в грудь воздуха, закурил и постучал по пачке "Мальборо", чтобы выскочила еще одна сигарета.
– Покурить не хотите?
– Спасибо, нет.
– Хм. А может, "кэмел"? – Из кармана рубашки Гарольд достал пачку "кэмел" и протянул ее Нелли. – Можете взять всю пачку. "Кэмел". Настоящие американские сигареты.
Нелли покачала головой. Гарольд быстро сделал три затяжки подряд.
– Вас просили сотрудничать?
– Да, было и это. Разве вы уже об этом не спрашивали? Мне предлагали различные занятия. Но мне они пришлись не по душе. – Нелли засмеялась. Смеялась она, как юная девушка, которая поняла двусмысленную шутку, однако не уверена в том, что ей следует показывать это окружающим, так что в итоге она молчит, дабы выглядеть благовоспитанной и в случае чего отрицать, что она поняла. – Видите ли, у меня всегда был удобный повод, чтобы защититься от госбезопасности. Я говорила, что происхожу из еврейской семьи. И, кроме того, мое желание сделать карьеру в науке было не столь уж велико. Они могли подбросить мне под ноги только мелкие камешки.
– Но какую роль могла сыграть тут принадлежность к иудейской вере? Можете объяснить мне это поподробней? – Гарольд зажег новую сигарету от еще не вполне докуренной и пустил дым Нелли в лицо. Такие вещи он делает не нарочно, это результат его сосредоточенности на том, что ему предстоит услышать, спросить, на том, что от него хотят утаить.
– Я этого тоже не знаю. Да и не в вере было дело. Просто я сказала, что происхожу из еврейской семьи, и это подействовало как извинение. Словно было понятно, что человек не хочет с ними сотрудничать, если происходит из еврейской семьи. Возможно также, что у них самих не было интереса к тому, чтобы вступить в тесное сотрудничество с такими людьми, как я. С верой это мало связано. Так или иначе, моя вера госбезопасность не интересовала. Знаете, я человек не политизированный, не религиозный, в голове у меня пусто, просто я больше не хотела оставаться в этой тюрьме.
– Что вы подразумеваете под тюрьмой?
– Ну, все эти места.
– Какие места? – Гарольд опять вонзил ручку в лист бумаги. На этом листе уже образовалось много дыр, а Нелли не выказывала ни малейшего желания протянуть руку в ту сторону, где находилась ручка.
– Мюггельзее. Во Фридрихсхагене, где мы жили, нам было до озера меньше десяти минут ходьбы. Вася был фантастическим пловцом. Внизу в доме находился ресторанчик, где Вася однажды вечером мне сказал, что хочет на мне жениться. На следу ющий день он об этом забыл. Уверял, что просто был пьян.
Гарольд закатил глаза, подпер голову рукой и уставился в потолок. Казалось, Нелли не замечала его разочарования и бодро продолжала говорить.
– Неужели вы не понимаете? Я была взята в окружение, ведь здесь, – я хочу сказать, по ту сторону, остались только места, вызывающие у меня воспоминания. А каждое воспоминание – ложь, порой мне это приходит в голову, когда я слышу своих детей или других людей. Только знаете, лгу я теперь одна, а это не то же самое, что лгать вдвоем, делясь всеми яркими впечатлениями, какие являются нам в виде лжи, красивой или безобразной: поддерживать ложь одной – это нечто совсем иное. Это весит много. Весит, да, представьте себе, воспоминания весят, как ребенок. Как вы думаете, насколько тяжелым может стать такой вот ребенок, если вы носите его в одиночку?
Я с любопытством наблюдал за этой Нелли Зенф. Хотел увидеть признаки ее несчастья, признаки скорби на гладком молодом лице. Ничего. Прядь волос она теперь заложила за ухо. Вот и все.
– А вы не чувствовали себя в плену – из-за стены? – Гарольд отважился на смелый шаг. Видимо, ему было тоже немаловажно обеспечить ей незапятнанный статус беженца.
Однако Нелли Зенф беззаботно улыбнулась и прервала его.
– Вы удивляетесь: люди не имели права выехать из страны, не могли получить высшее образование, – так неужели их могли волновать еще какие-то проблемы? Слава Богу, только и могу я на это сказать, слава Богу, что есть эта стена, не то, возможно, и в вашей половине города нашлась бы тысяча мест для воспоминаний. Моя бабушка имеет право разъезжать, имела его всегда. Тех, кого прежде преследовал нацистский режим, не ограничивали в передвижениях. Казалось, они добровольно приехали сюда и остались. Моя мать говорит, что у них не было выбора. Кто хотел вернуться после войны, должен был ехать на Восток. Но я думаю, это была фата-моргана. Утопия. Приблизительно то же, чем для многих из нас, тех, что на Востоке, сегодня является Запад. Лучшее "я" разоренной страны, страны, потерпевшей крушение. Но я скорее сказала бы, что ее издалека оглушили социалистической идеей.
– Почему вы так говорите: "оглушили"?
– А разве это не значит оглушить? Представьте себе: вас преследуют и жестоко с вами обращаются из-за вашего происхождения, вы живете в лагерях или в изгнании, в постоянном страхе. О Боге тут уж и думать не приходится. Нет времени, всегда говорила моя бабушка, у нее просто не было времени и, вероятно, должного терпения, чтобы думать о нем. И, в конце концов, они открыли для себя движения протеста, революционеров, то есть пылких коммунистов, таких, кто просто имел талант никогда не терять надежду, ибо эту надежду они выскребли из самих себя и навязывают целому народу…
– Помедленнее, помедленнее, фрау Зенф, мы за вами не поспеваем. – Я увидел, что секретарша в растерянности сидит перед пишущей машинкой: не совладав с потоком слов, она перестала печатать. Ее пальцы словно застыли на клавишах.
– Разве у вас нет подслушивающих устройств? – Нелли щурилась, глядя на нас.
– Подслушивающих устройств? – Гарольд покачал головой. – Вы имеете в виду записывающие устройства? Вы считаете, что мы вас преследуем?
– Пока вы сидите на своем стуле, нет. И за чем вы могли бы гнаться? За моей пустой головой?
– Ваша маленькая головка вовсе не так уж пуста, – сказал Гарольд, слово "маленькая" он употребил, видимо, в смысле "хорошенькая", ибо голова Нелли маленькой не была, – только, пожалуйста, говорите чуть помедленнее, фрау Зенф. Вы полагаете, что социалистическая глухота, как вы это называете, была следствием преследования евреев? Или краха нацистов?
– Ах, это не так просто. Здесь ведь уже почти не было евреев, к которым это могло бы относиться. Только, по-моему, в том, что касается коммунизма, речь идет о заменителе религии. – Она тихо прибавила: – Возможно, и Веймарской республики. Но это уже другая тема.
– Да? – Гарольд не мог удержаться от недоверчивой усмешки. Хорошо, что Нелли не обратила на это внимания.
– Он затронул особенно тех людей, которые не только обладали способностью верить в какую-то идею, но для которых эта вера была чем-то вроде внутренней необходимости и в которых эту веру тем или иным образом вытравили. Как утратили родных, так утратили и веру. Если посмотреть на это в другой перспективе, то подобная утрата наверняка постигла и нацистов. Исход войны, несомненно, их оскорбил. Видите ли, они ведь тоже всей душой верили в национал-социалистскую идею. Коммунизм как отъем и обобществление – это лишь мнимая противоположность обособлению. Жрать и убивать. Разве и то и другое – не симптомы страха? Страха перед чужаком?
Гарольд откровенно расхохотался ей в лицо.
– Толику философии она тоже успела изучить. Давайте-ка начнем с другой стороны. Что вы думаете о властолюбии? О жажде власти? Без страха?
Нелли Зенф сидела, положив ногу на ногу, и задумчиво смотрела на свое колено. Когда она взглянула на Гарольда, глаза ее сияли.
– Попробуйте только отнять у человека то, во что он верит. Боль и ощущение несправедливости вызовут у него сильное желание исправить положение, раствориться в новой идеологии, которая способна была бы возместить людям гибель старой. Такой идеологией недолгое время был коммунизм, а когда никто не захотел по-настоящему к нему присмотреться – из страха перед новыми оскорблениями и хорошо знакомой болью, – то коммунизм превратился в социализм, так его, по крайней мере, назвали. Он тоже только по видимости является тем, что сулит его название. Шрамы часто совсем не болят – вы этого не знали?
Мы оба, Гарольд и я, сидели, разинув рты, и слушали эту женщину, которая при всей пустоте в голове, на которую она жаловалась, без умолку несла сплошную чушь. Я безотчетно погладил длинный шрам у себя на лбу. Она была права, шрам боли не причинял, его ощущали только мои пальцы, словно инородное тело под кожей.
– Последний вопрос, фрау Зенф. Воспринимайте его как шанс для себя или, пожалуй, как намек. Вы уверены, что хотите, чтобы здешнее правительство согласилось принять вас? – Гарольд закурил сигарету и следил за реакцией Зенф, но реакции не было. – Вам, наверно, известно, что подобные ходатайства о виде на жительство иногда отклоняются? А вы представляете себе, какова жизнь в лагерях для непринятых?
Нелли Зенф устало смотрела на нас. Она и глазом не моргнула. Могло показаться, будто она не почувствовала в словах Гарольда скрытой угрозы. Ее молчание и выраженное в нем нежелание дать нам информацию, казалось, были для нее важнее, чем надежный и беспрепятственный прием в число граждан Федеративной республики.
– Процедура срочного приема покажет, что послужило причиной вашего отъезда – стесненное положение или духовная несовместимость. Судя по всему, с вами могут возникнуть трудности. Мы, правда, живем в ФРГ, но пряники на деревьях у нас не растут. Это я для ясности. А если вы думаете иначе, то скажу вам честно: можете забыть о ваших претензиях.
Нелли Зенф дернула плечом и подавила зевок.
– А теперь, извините, я вас оставлю. Сейчас сюда придут мои коллеги и зададут вам дальнейшие вопросы. – Гарольд вытряхнул добрых три сантиметра пепла из фильтра своей сигареты, а пустой фильтр бросил в переполненную пепельницу. Ее запорный механизм перестал действовать, окурки забили отверстие в виде ножниц. Гарольд сорвал обертку с шоколадного батончика, засунул половину его себе в рот и откусил.
Он поднялся с усталым видом. Я, не дожидаясь приглашения, последовал его примеру. Проходя мимо фрау Зенф, я ей кивнул. Она смотрела в пол, а я вдыхал ее аромат.
Когда мы вышли, Гарольд сказал мне:
– Честное слово, вот именно такой мне и не хватало, – она, видишь ли, желает что-то объяснить нам насчет глухоты. Слушай, а она вообще – то в своем уме? Ты ее ноги видел? Эти немецкие бабы толком побриться не умеют, все, сколько их есть, – что на Востоке, что на Западе.
– Может, они здесь, кроме талонов на еду, больше ничего не получают?
– Откуда ты свалился, Джон, разве ты никогда не смотрел на ноги немецких баб? Лучше я сразу открою тебе секрет: они вообще ничего себе не бреют. Хочешь почувствовать под руками гладкую кожу – найди себе настоящую красотку.
Вместо ответа я спросил его, верит ли он на самом деле, будто Нелли Зенф догадывается о наших подозрениях насчет Баталова. Гарольд незамедлительно ответил, что этого он себе представить не может. Она – кривляка и дура, но не более того. Может, кому-то следует проверить эту историю о попытках госбезопасности ее завербовать, еще раз спросить, когда точно это было и что она могла тем людям сказать.
Мы пошли в комнату для совещаний и приветствовали начальников, которые, похоже, были уже в курсе дела.
– Твердый орешек?
– Скорее, глухая, – Гарольд рассмеялся и пошел в туалет.
Макнил похлопал меня по плечу.
– Мы все равно завтра ее отсюда увезем. Это дело для более высокой инстанции.
Иногда мне бывало обидно, что элита ЦРУ, не ступавшая в лагерь ногой, считала себя намного лучше тех, кто почти ежедневно нес там дежурство, потом я стал лелеять надежду, что в один прекрасный день сам окажусь среди этой элиты, и мне больше не придется идти через проходную, чтобы попасть на огороженную территорию лагеря, в "дом "П". Уже и теперь выпадали дни, когда они говорили, что я нужен им в городе, на Аргентинише Аллее. Официально, как участник переговоров, однако напрашивалось предположение, что они наблюдают за тем, как мы работаем и подбирают себе кандидатов для сотрудничества. Так будет завтра, когда у коллеги выходной, и я должен буду присутствовать на очередном допросе Нелли Зенф.
– Скажи мне, – я с тобой говорю! – ты что, уже спишь сидя? – Юнис стукнула меня кулаком в предплечье. Она выглядела разбитой, глаза были красные и заплывшие. Скорее, наверно, от травки, чем от слез. – Здешняя тьма меня погубит. – Она рухнула рядом со мной на кушетку и ткнулась головой мне в плечо. – А ты не думаешь, что у них могла бы найтись для тебя работа там, в Штатах? – Дыхание у нее было каким-то затхлым, словно она уже целый век не раскрывала рта.
– Хочу домой, хочу домой, – да ты ведь уже не ребенок, Юнис, это был шанс и для тебя, ты могла бы здесь выучить немецкий, могла бы начать учиться в университете.
– Могла бы, могла бы. Зачем мне университет? Я рисую. Выучить немецкий? Лучше я стану людоедкой. К чему мне учить немецкий, если я не могу ни с кем разговаривать?
– Не хочешь разговаривать, Юнис. Пожалуйста, не выворачивай мои слова наизнанку. Можно подумать, будто я тебя заставлял.
– Так ты меня и заставлял, и сам прекрасно это знаешь.
– Каким образом?
– Ты меня даже не спросил, а просто сказал: ситуация у нас вот такая, мы едем в Германию, в Берлин.
– Но мы же не в Сибири.
– Нет, милый, мы в Германии. Моей подруге Салли стоило только раз попросить мужа, и он сразу же уехал с ней обратно в Новый Орлеан.
– Пожалуйста, Юнис, не заводи опять про Салли. Без нее и чихнуть нельзя. Не смеши меня.
– Так или эдак, он черный градоначальник. Мы здесь на краю света, мои подруги…
– … Тоже несчастны, ты сама говорила. Кроме того, я устал. Полагаю, ты хочешь спать одна?
– Так и есть. – Она гордо и упрямо повернулась и стала опять подниматься по лестнице. Невнятно бормотала что-то похожее на: "Разве ты не заметил, что больше мне не нужен?" Но я не прислушивался, и ее бормотанье исчезло вместе с ней на втором этаже. Из ванной послышался какой-то шум. В ногах кушетки лежало розовое одеяло, в которое Юнис куталась днем, когда смотрела телевизор или рисовала. Я натянул его на себя и попытался вспомнить запах Нелли. Будь я Василий Баталов, думал я, я бы ей тоже ничего не сказал. Особу с такими вывернутыми мозгами, как у этой Нелли Зенф, в секреты не посвящают, если человек еще в своем уме. Но, возможно, он был уже не в своем уме. Возможно, она давно уже вскружила ему голову. И, наконец, чутье мне подсказывало, – уже после того, как я узнал, какие вопросы собиралась выяснить британская секретная служба, и мог из этого сделать вывод о том, что именно они узнали от нас или от французов, – что шпионская деятельность этого Василия Баталова была чистой выдумкой. Мы бы об этом знали, тем более если он как двойной агент работал и на нас, – кое у кого были такие подозрения. Но мы ничего не знали. Во всяком случае, насколько мне было известно. Мои мысли разворачивались на фоне равномерного жужжания, жужжания маленького моторчика. Я открыл глаза и уставился в темноту. Возможно, это Юнис чистила себе зубы электрической зубной щеткой, которую мы привезли из Штатов. Да мало ли что это могло быть. Потом я услышал ее тихий стон. Я не хотел задумываться над тем, отчего стонет Юнис – от наслаждения или от боли. Возможно, она опять плакала. Я высморкался. Если змеи пожирали друг друга и постепенно душили, заглотнув одна другую, возникал вопрос, которая из них уцелеет. Та, что была моложе и сильнее и быстрее душила, или та, у которой было больше упорства, и вместимость была больше? Мои пробки для ушей лежали наверху, в ванной, в зеркальном шкафчике, но я не хотел сейчас опять туда подниматься и нарушать уединение Юнис. Помедлив, я взял бумажный носовой платок и стал катать из него шарики, пока они не сделались настолько маленькими, чтобы заткнуть ими уши.
Ханс Пишке и удача
Ребенок орал. Я законопатил каждую щелочку в двери своей комнаты, замочную скважину вокруг ключа залепил жвачкой, а он орал; повесил перед дверью одеяло, двухъярусную металлическую кровать отодвинул к другой стене, хоть это и противоречило правилам; а он орал; зажал уши, – он орал, накинул на голову одеяло – он орал, дышал сквозь крошечные отдушины из-под одеяла, дышал по горизонтали, едва дышал, потому что крик раздирал мне нервы и спозаранок, неподготовленным выталкивал меня в сутолоку дня.
Я слез с кровати, напевая песенку, пытаясь заглушить детский крик, и взял со стола бутылку из – под воды, чтобы в нее пописать.
– Заткнись, – проворчал кто-то с нижней койки. Я испуганно оглянулся. На нижней койке задвигалось одеяло, и я узнал шевелюру нового соседа по комнате.
– Простите. Про вас я забыл, – прошептал я, отставил бутылку и поднял штаны.
– Тебе, парень, просто пора заткнуться, ты всю ночь разговариваешь и все утро. – Он еще выше натянул на голову одеяло, так что даже его волос больше не было видно. Следы крови украшали это одеяло, пол и, наконец, носовой платок, который лежал на полу перед кроватью. В последние два дня я часто видел, как он сидит на стуле, откинув голову назад, чтобы унять носовое кровотечение. Но, видимо, унять его было невозможно, ни сидя, ни лежа, ни бодрствуя, ни во сне.
– Вам, наверно, очень больно.
– Да заткнись ты, парень, – проворчал он из – под одеяла.
Чтобы не выходить по утрам из комнаты, я купил маленький кипятильник. Его надо было только чуть-чуть подержать в чашке, пока вода не окажется достаточно горячей, чтобы можно было всыпать в нее и размешать коричневый порошок растворимого кофе. Ребенок за стеной орал, и я оглядел голые стены, – не дрожат ли они, не корчатся ли от боли, причиняемой этим криком. Но ничего не дрожало и не корчилось, кроме как во мне самом, пока мне не сделалось плохо. Но я не допущу, чтобы меня вытурил отсюда грудной ребенок, уж этого я точно не допущу, я и в туалет не ходил, по возможности, не ходил, разве что совсем редко, там бы я мог столкнуться с матерью этого младенца или с его отцом, а то и с кем-нибудь из русской банды – троих мужчин и одной женщины, братьев и сестры, как они уверяли; спали они в двух двухъярусных кроватях во второй большой комнате, а я – в маленькой, крайней, сворачиваясь клубком, пытаясь не высовываться, сдерживать позывы на рвоту, никоим образом не выдавать своего присутствия. Но вытурить себя отсюда я больше не позволю. Если подумать, то растворимый кофе – лучшее достижение западного мира.
– Ты сказал "бездельник"? – сосед по комнате вдруг сел внизу, на своей койке, и уставился на меня. – Скажи это еще раз.
– Простите, о чем это вы?
– Тебе придется сказать это еще раз. Бездельник?
– Мне придется? Но я ничего не говорил, правда, ничего решительно. – Я втянул голову под одеяло, повернулся к нему задом и понадеялся, что возня у меня за спиной означает одно – он улегся опять.
Я часто разговаривал сам с собой, что-то рассказывал, но этого даже не замечал. Я, должно быть, рассказывал о тех безделицах, какие привезли Биргит и Чезаре, когда навестили меня здесь, в лагере, в день моего рождения. Раньше они не ступали сюда ногой, конечно, остерегались привратника, контроля. Так было до моего дня рождения, – можно подумать, я сам придавал ему какое-то значение. Чезаре извлек из кармана куртки банку "нескафе", высыпал ее содержимое на мой столик, а Биргит, словно добрая фея, достала из сумки синюю фигурку мальчика величиною в дюйм, в широкополой шляпе и с трубой в руках, на шее у этого пластмассового крошки был повязан лоскут красной материи – платочек, который Биргит явно изготовила ему собственноручно. Верхняя часть туловища синей фигурки была покрыта красным лаком, таким же, как ногти у Биргит. Биргит называла его "Красногвардейским бездельником", она посадила его на вершину кофейной горы и смотрела на меня сверкающими глазами. Наверно, скорее бессознательно она стиснула свои груди и сказала нараспев, словно произносила магическое заклинание: "Хансик-Крошка понемножку обойти решил весь свет, обзавелся шляпой, палкой, вид имел совсем не жалкий". Вместо того чтобы прочитать еще строчку про маму, которая горько плачет, Биргит закусила губу.
Младенец за стеной не умел говорить нараспев. Он не произнес ни слова. Он знал только один способ самовыражения: он орал.
Биргит была моей кузиной. Ее тетя познакомилась с моим дядей, когда мне было шестнадцать. Они тогда мгновенно решили забрать меня из приюта, в котором я до тех пор жил, и на целых два года окружить меня истинно родительской заботой. С тех пор я встречал Биргит редко, через большие промежутки времени, когда собиралась ее родня и меня всякий раз представляли как новоиспеченного родственника, причем я до последнего времени чувствовал себя среди них чужим. И это еще не все. Биргит была художница и старалась, чтобы об этом ни при каких обстоятельствах не забывали. В лице Чезаре она явно обрела друга, который не только показывал, какое сильное впечатление производит на него ее художественная деятельность, но и с гордостью предоставлял ей помощь при том или ином хеппенинге. Он называл себя коммунистом, и нетрудно было догадаться: ему нравится, что его немецкая подруга приехала с Востока. Когда я встретил его с Биргит в "Светоче мира", – это было вскоре после моего приезда, – он воспользовался моментом, когда она вышла в туалет, чтобы открыть мне, как он с ней счастлив. Она по-настоящему оттуда бежала, бежала отважно, сказал он с сияющими глазами, в то время как я думал о своем неудавшемся бегстве, и сияние Чезаре воспринимал как унижение. В конце концов, ее бегство оказалось успешным, хотя и не таким, каким я до сих пор его считал. Однако Чезаре мне объяснил, что идеи Биргит более коммунистические, по крайней мере, более революционные, нежели социалистические. Памятник Ленину она выкрасила в красный цвет, сверху донизу, – говоря это, он сопел, – но ее не застукали. Я кивнул и подумал о той ночи, когда я там, один как перст, взбирался на трехметровую высоту, к голове Ленина, и в то же время пытался не дать опрокинуться ведру с краской, которое висело на веревке у моего бедра, пока я не поскользнулся и ровно в тот момент, когда вспыхнули прожектора, не потерял опору, не заскользил вниз по ленинской бронзовой броне, поджав под себя ноги от страха перед ударом о землю, что наверняка было ошибкой, ибо так я сломал обе, – и словно дилетант, рухнул вниз. Словно дилетант. Конечно, дилетантом я не был. Даже если одна лишь голова Ленина стала красной, ибо я, само собой разумеется, хотел начать сверху, а донизу не добрался, – слова "сверху донизу" были чистейшим преувеличением, и то, что Биргит в своей героической легенде с такой легкостью приписала себе, на самом деле стоило мне нескольких месяцев тюрьмы. Наверно, ей показалось слишком трудоемким выдумывать тюрьму. Я не мог злиться на нее за то, что она превратила мои злоключения в собственную историю, в конце концов, эта история явно произвела желанный эффект. Чезаре лежал у ее ног. Я отхлебнул пива и кивнул. "Сильна наша Биргит, сильна". Биргит вернулась из туалета, губы у нее были накрашены черной помадой, и она вызывающе взглянула на Чезаре: "Мамма миа, я вам мешаю?" После чего села к нему на колени и укусила его за щеку. В этом плане они замечательно друг друга дополняли, она, видимо, находила шикарным, что ее друг – итальянец, – я, по крайней мере, именно так истолковывал ее нынешнее любимое выражение "Мамма миа".








