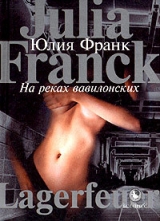
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Annotation
Картины, события, факты, описанные в романе "На реках вавилонских" большинству русских читателей покажутся невероятными: полузакрытый лагерь для беженцев, обитатели которого проходят своего рода "чистилище". Однако Юлия Франк, семья которой эмигрировала в 1978 году из ГДР в ФРГ, видела все это воочию…
Юлия Франк
Нелли Зенф переезжает через мост
Кристина Яблоновска держит брата за руку
Джон Бёрд подслушивает собственную жену и выслушивает другую женщину
Ханс Пишке и удача
Джон Бёрд становится свидетелем
Брат Кристины Яблоновской строит планы
Нелли Зенф приглашают танцевать
Хансу Пишке неожиданно предлагают работу
Кристина Яблоновска совершает оплошность
Нелли Зенф слышит то, чего ей слышать не хочется
Ханс Пишке встречается в прачечной с Нелли Зенф
У Кристины Яблоновской появляются новые мысли
Когда двое встречаются на улице
Нелли Зенф убегает от доктора Роте
Ханс Пишке действует одной левой
Нелли Зенф хочет сказать "да"
notes
1
2
3
Юлия Франк
На реках вавилонских
Нелли Зенф переезжает через мост
Дети устало опустили руки, – они беспрерывно махали, сперва в полном восторге, не обращая внимания на то, что им не отвечали, потом, быть может, втянувшись, из детского упрямства, махали целый час, прижавшись ртами к запотевшему стеклу, на котором они оставляли влажные следы своих поцелуев и о которое расплющивали носы, – махали до тех пор, пока Катя не сказала брату:
– Я больше не могу, хватит, – и Алексей кивнул, как если бы это было правильно – наконец – то перестать, положить конец прощанию. Машина провезла нас еще немного вперед, стоп-сигналы небольшого доставочного фургона, что ехал перед нами, погасли. У невысокого строения в сумерках стоял человек в военной форме, который знаком велел нам подъехать ближе и вскинуть вверх обе руки. Мы резко затормозили, мотор позаикался да и смолк. Так мы продвигались вперед уже добрых четыре часа, возможно, за эти четыре часа мы проехали три метра, возможно, десять. Где-то в нескольких метрах впереди должен был находиться Борнхольмский мост, это я знала, только видеть его мы не могли, широкое массивное строение, сквозь которое пролегала проезжая часть, заслоняло от нас все, что двигалось навстречу. Маленький доставочный фургон отогнали – в сторону и направили по соседней дороге. Фонари стали мигать и зажигаться, один за другим. В правом ряду один так и не загорелся. Я задумалась над тем, какие часы в этом месте отводятся на ремонт. Возможно, ночь, с двенадцати до двух. Впереди двигалась тень, вот она приблизилась, потом скрылась под капотом, а вскоре забралась на этот капот, проползла по ветровому стеклу, по нашим лицам и под конец проглотила машину, проглотила бесповоротно, как глотала все, что бы перед ней ни возникало: это была тень широкой крыши того строения, что нависало над дорогой и заслоняло нам вид. Строения, сплошь состоявшего из толя и гофрированной листовой стали. До тех пор, пока сиявшее перед нами солнце не село между домами и еще раз не вспыхнуло высоко над головой в окне сторожевой башни. Словно хотело нас заманить, пообещав, что уже завтра мы увидим его снова на Западе, если только пойдем за ним следом. И вот его уже нет, а мы остались стоять здесь, в сумерках, при нескольких огненных полосах на небе, и тени поглотили не только нас, но и весь город у нас за спиной. Герд погасил сигарету, сделал глубокий вдох, задержал воздух в легких и сказал мне, что он еще десять лет тому назад задавался вопросом, когда же я, наконец, к нему приду. Говоря это, он, как бы между прочим, насвистывал сквозь зубы; однако, подолжал он, в то время я как раз повстречала другого человека, а сегодня он может мне сказать, сказать сейчас, когда я сижу в его машине и могу ехать только в одном направлении, да и вылезти из машины уже не могу, – тут он засмеялся: он всегда представлял себе, как держит меня, обнаженную, в своих объятиях.
Герд взял новую сигарету, поглубже вдвинул фильтр языком, включил мотор, потом выключил и включил опять, из переполненной пепельницы посыпались окурки, я собрала их в ладонь и сунула в пластиковый мешочек, который предусмотрительно захватила с собой на случай, если детям станет плохо. Плохо было теперь мне. Я не хотела бы оказаться обнаженной в объятиях Герда. Эту картину я успешно отгоняла от себя до той минуты, пока он своим легким свистом сквозь зубы не свел на нет все мои усилия. Даже то обстоятельство, что я находилась в его машине, и мои дети сидели на заднем сиденье, целовали оконные стекла, а все мы намеревались проехать по этому мосту, еще не делало ситуацию критической.
Катя зажала нос и спросила, можно ли открыть окно. Я кивнула, а стон Герда пропустила мимо ушей. Долгое время я думала, что Герд не заставляет меня выслушивать его пожелания из чувства такта и зная, что я хотела бы избежать его прикосновений. Потом я опять начинала надеяться, что он забыл мое тело, насколько это было возможно. Пусть и не очень возможно, но все-таки стоило сделать попытку. Попытку, за которую я бы его стала уважать, но которую он либо не предпринимал вообще, либо в тот момент она у него сорвалась. Человек, чье имя он наверняка не забыл, но не произносил вслух, стал отцом моих детей. Однако не это было причиной тому, что Герд вдруг начал вызывать у меня отвращение. Мне было противно, что он не желал думать о том, почему мы сидим в его машине. Мы сидели в его машине только ради того, чтобы переехать этот мост, возможно, была и еще какая-то причина, но уж никак не желание разок без помех посидеть с ним в тесном уголке. Снаружи в машину проникал холодный воздух, пахло бензином и немного – летом, но скорее, ночью и накатывающим холодом. Смеркалось. К машине подошел человек в полицейской форме и наклонился к месту водителя, чтобы получше разглядеть, что происходит в салоне. Его карманный фонарик слабо осветил наши лица, он едва горел, да еще и мигал, словно с минуты на минуту собирался погаснуть. Полицейский сверил все имена и лица, одно за другим. Я в свою очередь уставилась на его бледное лицо с низким широким лбом; глаза у него были глубоко посажены, выступающие скулы словно втягивали их в глазницы, – лицо уроженца Померании, выглядевшего уже немолодым, хотя он и был еще не стар. Он постучал своим фонариком по задней дверце и сказал, что здесь нам нельзя стоять с открытыми окнами. Окна из соображений безопасности должны быть закрыты. Проверив документы даже у Кати и Алексея, он сказал:
– Выходите.
Мою дверцу заклинило, я стала ее трясти, пока она не открылась, и я вышла.
– Нет! – крикнул мне человек в полицейской форме, стоявший по другую сторону машины. – Не вы, только дети.
Я села обратно и обернулась.
– Вы должны выйти, – повторила я. При этом я взяла Алексея за руку и крепко ее сжала. Он высвободился. Моя рука скользнула в пустоту. Только теперь я заметила, что дрожу. Хлопнула дверца. Полицейский что-то сказал моим детям, чего я не расслышала, он указал на нашу машину, покачал головой и похлопал Алексея по худенькому плечу. Потом я увидела, как дети последовали за ним и скрылись в одноэтажном строении. Над темным окном горела неоновая лампа. Я ждала, когда в окне загорится свет, однако оно так и оставалось черным. Возможно, внутри были спущены жалюзи. Или заглянуть туда мешало особое затемнение. Только изнутри можно было посмотреть наружу – так же, как через покрытые медной краской стекла во Дворце Республики. Король глядел наружу и мог наблюдать свой народ, в то время как люди на улице смотрели на слепые окна, щурясь от их блеска, и не могли ничего сквозь них увидеть. Если бы они находились на одном уровне с королем и его окнами, на уровне зеркального отражения, то могли бы, по крайней мере, увидеть самих себя, были бы вправе встретить свой собственный, откровенно любопытный взгляд. Однако эти маленькие люди стояли внизу, на площади. А наверху, в окнах, не отражалось ничего, кроме неба. На взгляд никто не отвечал. Но стекла этого окна, здесь, были непроглядно черными, бездонно черными, угольно – черными, черными, как вороново крыло, и чем дольше я на них смотрела, тем неестественнее мне это казалось. Никакого блеска, ничего оранжевого. Весь свет давно поглощен, нет ни ворона, ни угля, ни бездны, одна сплошная чернота. Окно окажется не чем иным, как ловушкой. Герд погасил сигарету и закурил новую.
– Как это прекрасно – такая тишина.
Он упивался этими минутами со мной наедине. Эти люди будут спрашивать Катю и Алексея, почему мы хотим переехать на Запад, каждого ребенка в отдельности заведут в комнату без окон, посадят на стул и скажут: "Мы хотим кое-что узнать, и ты должен сказать нам правду, понятно?" И Катя кивнет головой, Алексей же уставится на свои ботинки. "Смотри на меня", – скажет Алексею чиновник. При этом он похлопает мальчика по спине, как товарища по работе, коллегу, своего человека. И не будет знать, что Алексей, даже если поднимет голову, увидит его лишь смутно, ибо от его очков уже мало толку. Он охотно смотрит на свои ботинки, это вещи, находящиеся дальше всех от его глаз, и, тем не менее, принадлежащие ему, притом он точно знает, как выглядят эти ботинки. Может, чиновник станет ему угрожать, может, дернет его за руку, чтобы Алексей не забывал, насколько такие люди сильнее его. Может, они обступят его втроем, впятером, вдруг вся эта комната заполнится чиновниками в мундирах, сотрудниками народной полиции, госбезопасности, солдатами-пограничниками, начальниками, практикантами, помощниками – но в этом случае каждый из них окажется менее значимым. Что нужно вашей матери по ту сторону границы? Давно ли она знакома с этим мужчиной? Любит ли она его? Видели вы, как он ее целует? А она его? Как они целуются? Хочется вам иметь такого отца с Запада? Привез он вам подарки? Какие? Значит, он капиталист. Верно? Молчание. Что мог на это ответить Алексей? Ответы могли быть только лживыми. По спине у меня пробежали мурашки, я бы могла назвать это испугом, но то были всего лишь мурашки. Лживые ответы. Алексей их не знал, но, возможно, догадывался. Задержат они нас или нет? Чего будет стоить эта бумага, это разрешение, если они сделают так, чтобы я просто исчезла, окончательно и бесповоротно, а детей засунут в приют? Принудительное усыновление. Слухи об этом ходили. Прежде всего, речь шла о врагах нашей страны, но также и о врагах социалистической демократии, и уж особенно о тех, кто удирал, бежал, – это были люди, чьих детей государство брало под свою защиту. Необратимо и неисследимо. Позднее они ведь всегда смогли бы сказать, будто я умерла от легочной эмболии. Они могли сказать это о ком угодно. Эти истории почти не отличались одна от другой – только их герои носили разные имена. Ради кого тут стоило расходовать фантазию и что – то изобретать? Никто не сможет их уличить, ибо правдивые истории – тоже только достойные доверия изобретения. То, что я не скандалила и не была больна, мог подтвердить лишь Герд. Пока он с ними не стакнулся, а значит, было хорошо, что он сидел тут с нами в машине, что это была его машина. Только бы унять дрожь, не сорваться. Он – то ведь не мог просто взять и исчезнуть, тут у Короля могли бы возникнуть трудности, большие трудности, уж настолько важными для них мы не были, и Алексей не был, и Катя не была. Мелкая рыбешка. Крохотные рыбки. Правда, они отбились от стаи, отклонились от течения, но они были такие крошечные, что их можно было не заметить. Как вы думаете, что вас ждет при капитализме? Этот вопрос еще несколько недель назад задала Кате ее учительница, когда задержала Катю после уроков в классной комнате для разговора с глазу на глаз. Вы что, не верите в успех борьбы за мир? Катя, ты ведь еще помнишь? Разве ты не хотела, вместе со всеми, помочь бедным вьетнамским детям? Не приносила рис, не собирала вторичное сырье? Кто виноват в том, что во Вьетнаме царит нужда? Ну, так кто же виноват? Кто заставляет голодать детей на Земле? Неужели ты в школе так ничему и не научилась? И в детском саду тоже? И в яслях? Разве вы не знаете, что капиталист – ваш враг? Катя пришла домой с распухшими от слез глазами. Она не хотела, чтобы другие дети из-за нас голодали, не хотела ехать к тем, кто заставлял других детей голодать. Полночи она проплакала. Теперь их наверняка будут допрашивать в том же духе. А ваш будущий отец – он вообще-то кто? Нет, столяр – это не совсем точно. Он капиталист. Да, враг. А что случилось с вашим родным отцом? Что с ним произошло?
Я постучала по стеклу.
– Зачем ты стучишь по стеклу? Перестань.
Герд откинулся назад, стараясь не встречаться со мной глазами, – так он боялся, что у него сдадут нервы. Я постучала по стеклу.
– Перестань.
Я постучала три раза – в ритме его ответа.
Он застонал, а я провела по стеклу ладонью.
– Сколько времени они уже там, внутри? – спросила я, не сводя глаз с черного окна барака.
– Не знаю, я на часы не смотрел, минут двадцать, наверно.
– Дольше.
Герд не ответил. Он курил. С тех пор, как человек в форме полицейского скрылся с моими детьми, дверь ни разу не открывалась. Никто туда не вошел, ни один человек не вышел. Дверь была закрыта наглухо – так, что я даже засомневалась: не скрылись ли мои дети совсем в другом бараке, на дверь которого я до сих пор не обращала внимания. Или же они хоть и вошли в этот, наблюдаемый мною барак, но давно вышли из него незамеченными где-то с другой стороны. Через заднюю дверь. Может быть, существует подземный ход, ведущий в отдаленный полицейский лагерь, прямо в Центральный Комитет, под темные сине – зеленые своды государственной безопасности. А оттуда только один путь – в подземелье медного дворца. Возможно, под дворцовой площадью находится разветвленный лабиринт со специальными темницами, в которых дети беглых и невозвращенцев сидят взаперти и подвергаются принудительному исправлению. До тех пор, пока они не созреют до того, чтобы преданные государству граждане могли принять их в свои социалистические семьи. В такие семьи, каких, вероятно, и не бывает. А я буду напрасно ждать здесь своих детей.
– Ты тоже видел, как они туда вошли? Вон туда. Видишь тот барак? Они там, внутри. – В голосе у меня слышалась неуверенность, но я все же указывала на барак с псевдо-окнами.
Герд проследил за моим пальцем. Резко выдохнув, он засмеялся и пожал плечами.
– Не знаю, – он огляделся. – Ведь все эти бараки с виду одинаковые.
Домики стояли ровно, в ряд. Слева у каждого была узкая дверь, справа – псевдо-окна, а над ними – неоновый свет. За исключением крайних. Насколько я могла разглядеть, у крайних домиков были не псевдо-окна, у них в окнах горел свет. Герд засопел, выдыхая дым.
– Неужели ты думаешь, будто они хотят оставить твоих детей у себя?
Оставить у себя. Не здесь. Герд мысленно был уже там, за мостом. Я – нет. Герд засмеялся.
– Какая ты смешная. Ты думаешь, им больше делать нечего, кроме как задерживать маленьких детей.
– Не только маленьких детей. – Я тоже пыталась смеяться, только мне это не вполне удавалось. – У нас ведь никогда не знаешь.
– У нас? – Герд опять засмеялся, а у меня на глазах вдруг выступили слезы, я отвернулась, чтобы он не заметил.
– У нас я первым делом приглашаю вас поесть, большую порцию "помм". Я зверски голоден.
Я как раз вытирала рукавом мокрое от слез лицо, отвернувшись к окну, чтобы Герд не смеялся еще и над моими слезами, когда прямо передо мной возникла вдруг какая-то рыхлая физиономия. Еще один человек в мундире, он стучал снаружи в ветровое стекло.
– Окно, – услышала я его голос, большим пальцем он настойчиво указывал вниз. Я принялась вертеть ручку. Стекло легонько скрипнуло.
– Откройте багажник.
Я взглянула на Герда, но он только осклабился и вынул ключи из зажигания.
– Вот, пожалуйста. – Он протянул руку мимо меня к этому полицейскому. Тот выхватил у Герда ключи и скрылся. Хотя воздух был приятный – мягкий и прохладный, я опять подняла стекло. Было слышно, как открывают багажник. Вещи в нем перекладывали с места на место, снизу в машине слышался стук. Чуть позже я увидела, как двое полицейских входят в барак с нашими чемоданами.
Какая-то муха жужжала в нижнем углу ветрового стекла, она снова и снова натыкалась на стекло, казалось, ее маленькое тельце глухо и тяжело бьется, но она не сдавалась, жужжала, на какой-то миг умолкала, снова атаковала стекло. И жужжала опять. Я провела ладонью по приборной доске и вскоре кожей ощутила измученное, жужжащее мушиное тельце. Я медленно накрыла рукой приборную доску, пока муха не стала щекотать меня между пальцами, не переставая жужжать и махать тонкими крылышками; она так меня щекотала, что я стиснула пальцы и прижала их изо всех сил к приборной доске. Муха отчаянно билась, но высвободиться не могла. Пространство между моими пальцами и пластиком доски казалось большим, время от времени я чувствовала, как она бьет крылышками. Я невольно представляла себе беловатую жидкость, которая выступит, если придавить муху. Вдруг раздался громкий стук в стекло, я могла видеть только кулак стучавшего, но ни лица, ни формы не видела. Дверца открылась. Я чуть не упала на этого человека. Он подхватил меня.
– Вас что, надо просить?
– О чем вы?
– Пройдемте со мной. – Полицейский грубо схватил меня за голую руку выше локтя и потащил за собой. Я споткнулась о низкую ступеньку. Внутри барака передо мной тянулся коридор, казавшийся слишком длинным для этого строения, наверное, он проходил не через один, а через два или три барака. Меня втолкнули в какую-то комнату, где нас как будто бы уже ждали. За узким столом сидели два почти одинаковых человека. Они тоже были в форме, однако, не в форме Народной полиции. Не стоило ломать голову над тем, к какому ведомству принадлежали эти люди. Игра в прятки и обман были непосредственно связаны с переодеванием в разную форму. Эти двое наверняка были близнецы, так велико было их сходство; по меньшей мере, братья.
– Садитесь. Вы уезжаете, чтобы выйти замуж за Герда Беккера?
– Да.
– Вы с ним живете в Западном Берлине? В одной квартире?
– Разумеется.
– И ваш будущий муж уже все устроил, так? Он уже давно живет в этой квартире, так?
Я уверенно кивнула:
– Да, разумеется.
Пока тот, что сидел справа, вел допрос, его брат рылся в бумагах, казалось, он что-то искал.
– Послушайте, ведь все это уже внесено в протокол. Только на прошлой неделе я была в госбезопасности, там речь шла исключительно о господине Беккере.
– Вот как? Что это был за допрос, фройляйн – или фрау Зенф? Нелли Зенф. Вы уже были замужем.
– Нет, вы же знаете.
– Даже за отцом ваших детей?
Я покачала головой.
– Так что же?
– Нет.
– Но именно теперь вы пытаетесь выйти замуж, так?
Именно теперь? Терпение, сказала я себе. Терпение, только не терять самообладания. И я ответила:
– Да, я этого хочу.
– А отец ваших детей?
Я неприязненно взглянула на брата, сидевшего справа.
– Вы же знаете.
– Что? Что мы знаем? Вы не желаете отвечать?
Они хотят тебя позлить, подумала я, ничего страшного, они просто хотят тебя позлить. Какое удовлетворение мог получить этот мелкий чиновник при власти от подобных вопросов и ответов?
– Западный муж подходит вам больше?
Я кивнула, дернула плечом. Что я знала о западных мужчинах и о западном муже как таковом, о том, подходит он или нет – для каких целей? Герд помог мне создать иллюзию, это ему очень хорошо удавалось.
– Ваша мать тоже не была замужем. Похоже, у вас в семье такая традиция, верно? Свободный брак. Внебрачные дети. А мы, выходит, должны вам поверить, будто вы там выйдете замуж?
– Это было не так-то просто.
– Простите, что?
– Для моей матери. Не так-то это было просто. Другие законы, другие нравы. Сначала им не разрешали, потом они и сами не хотели.
Близнецы смотрели на меня в недоумении. Пока тот, что справа, не сказал левому, не поворачивая головы:
– Евреи.
Левый рылся в бумагах, постукивал указательным пальцем по какой-то странице и бормотал что – то вроде: "Да их ведь уже нету… Их вообще больше нету".
– Ваша мать была еврейка? – Правый таращился на меня, разинув рот.
– Она и по сей день еврейка. Да. Нет, она неверующая. Теперь уже неверующая. Во всяком случае, в Бога она не верует. Она верует в коммунизм, но это вам известно.
– Ты это знал? Она была знаменитой?
Едва лишь немец прослышит про выжившего еврея, он сразу думает, что это, наверно, знаменитость. Громкая слава представлялась единственной возможностью избежать какого-либо из верных способов умерщвления. Если кто-то спасся, значит, он был знаменит, не в последнюю очередь потому, что спасся. Левый листал бумаги в папке и пальцем указывал то на одну, то на другую страницу.
– Ваша мать родилась в двадцать четвертом, отец – в двадцать втором году, но в тысяча девятьсот пятидесятом он умер, еще будучи во Франции. Что здесь написано? Возвращаясь из изгнания?
Левый перевернул страницу, Правый неприязненно посмотрел на меня:
– Ваша бабушка вернулась тогда в Берлин вместе с вашей беременной матерью. И здесь родились вы.
Я не ответила, в конце концов все это должно было значиться в документах.
– Почему в Берлин?
– Я же вам сказала: теперь она верует в коммунизм.
– Коммунизм – это не вера, – изрек Правый.
– Не вера?
– Нет, это убеждение, верное мировоззрение. Вы не учились в социалистической школе? В какую же школу вы ходили?
В какую же школу должна была я ходить? Он что, думал, будто все еще существуют школы для евреев, или считал, что евреи в школу не ходят?
– "Маршала И.С.Конева", – сказал Левый, засмеялся и ткнул брата кулаком в бок.
Брат удостоверился, бросив один-единственный взгляд в бумаги, однако ему явно не хотелось в это верить.
– За пять лет до нас, – шепнул Правому Левый.
Грамота за хорошую учебу в социалистической школе. Возможно, в мое время таких грамот еще не было. А у Кати их было полно. "За отличную учебу и образцовую общественную работу в неучебное время", и она настояла на том, чтобы все их взять с собой на Запад. Даже если там они вовсе не обозначали вехи в возможной карьере их обладательницы. В конце концов, не зря же она собирала весь этот хлам, заявила она мне, но на мой вопрос, для чего же тогда, ответить не смогла. Даже школьные аттестаты в оригинале дети не имели права увозить с собой. Им выдавались копии, дабы у государства оставалось то, что ему принадлежало.
Я положила ногу на ногу и промолчала.
– Однако на еврейку вы не похожи.
– Что, простите?
– Вы не похожи на еврейку. Или, скажем так: на типичную еврейку. Но раз у вас мать еврейка, значит, и вы – тоже.
– И как выглядит типичная еврейка?
– Это вам лучше знать, фройляйн Зенф. Зенф – это еврейская фамилия, да?
Я не смогла подавить стон.
– Это фамилия моей матери.
– Звучит вроде бы по-немецки, – пробурчал Левый и опять углубился в чтение лежавшего перед ним красного листа бумаги.
Я закусила губу и, насколько могла, продлила выдох. Если не вдыхать воздух, – пыталась я себя убедить, – то можно как бы съежиться, и взрыв будет исключен, или, по крайней мере, сильно затруднен. Левый с папкой в руках встал и вышел из комнаты. Остался Правый, но был он теперь уже не Правый, а Единственный, мой единственный визави за столом, в то время как еще три человека, вероятно, по рангу и функциям люди малозначительные, стояли сбоку на страже. Не поворачивая головы и оставаясь совершенно неподвижными, они уголками глаз улавливали малейшее движение. По крайней мере, мое. Единственный сложил документы, сделал значительную паузу, насладился навязанным им молчанием, в конце концов, улыбнулся своими воспаленными глазами, которые от этой улыбки совершенно исчезли, и посмотрел на меня.
– Фрау Зенф, вот чего я никак не пойму: зачем вы уложили зубную пасту и мыло – вы же сегодня будете ночевать в квартире вашего будущего мужа, в вашей с ним квартире. Мы только попусту потратим время, если вы дальше будете морочить нас сказками. Что, у него мыла нет? У вашего жениха Беккера?
Я посмотрела на этого человека в мундире службы, определить которую не смогла, почувствовала, как кровь ударила мне в голову, и закрыла рот. Я зык у меня прилип к гортани.
– Вы что, Зенф, потеряли дар речи? Пройдемте – ка со мной.
Я встала и по узкому коридору последовала за Единственным в другую комнату. Комнаты здесь были без окон. Пол, покрытый пластиком, пах чем – то острым и сладковатым, подошвы на нем скрипели. Запах этот напомнил мне школьные ранцы Алексея и Кати. Кожзаменитель. Штампованная синтетика. Уже много лет все те же три модели; чаще всего бывали только две – коричневая и ярко – зеленая, сочетание желтого с оранжевым встречалось редко. Несколько лет тому назад, кажется, попадался еще красный цвет.
Я слышала, как мои каблуки стучат по пластику, чувствовала, что неожиданно для себя и вопреки ситуации зашагала с некоторым воодушевлением – воодушевлением, какое можно было бы объяснить радостной взволнованностью; юбка обтягивала мне бедра, я почти пританцовывала, в точности так, будто направлялась на бал и радовалась предстоящему развлечению. Человек в мундире открыл мне дверь, я вежливо и весело ему кивнула, а кто-то другой затворил дверь за мной.
Я опять оказалась в обществе чиновников, их было человек десять, в комнате стоял густой табачный дым. Один из этих людей окинул меня взглядом сверху донизу, юбка успокоилась. Я скрестила на груди руки.
– Садитесь.
– Спасибо, у вас здесь не слишком-то уютно.
– Сядьте, – подтвердил, видимо, старший по чину. Я доверительно ему улыбнулась. Кроме меня, женщин в комнате не было. Я думала о том, что навещу в Париже дядю Леонарда. Он жил со своей третьей женой на краю Марэ. Со второй он жил в Америке, к северу от Сан-Франциско, на невысоком холме посреди леса. По утрам к его большому окну на террасе слетались колибри и пили подслащенную воду, налитую в небольшие сосуды, подвешенные под крышей. Они так часто хлопали крыльями, что человек убеждался в быстротечности времени. Дядя воспринимал это как утешение. Когда он смотрел в окно, то видел только лес, а немного дальше внизу они могли зимой разглядеть за кедрами восточный берег маленького озера; летом в долине часто стоял туман. Три года тому назад, когда я в последний раз видела дядю, он рассказал мне, что, вернувшись с третьей женой в Париж, он может еще надежнее забыть всё, в особо благоприятные моменты – даже свое прошлое, а иногда – и самого себя. Возможно, дядя Леонард обрадуется встрече со мной. Он покажет мне в Париже то, что не найдешь на видовых открытках: мясную лавку Панцера и леса, которые не стоят перед домами, как у нас, а сетью свисают с крыши. Он собирался поесть со мной свежих устриц. Я познакомилась бы с обоими его американскими сыновьями, у которых было много профессий и которые разбирались понемногу во всем, а толком – ни в чем, как он утверждал. Вот что делает с человеком свобода, без конца повторял он, поглядывая на меня наполовину сочувственно, наполовину завистливо, хотя у меня вроде бы никакой свободы не было, и мне не оставалось ничего другого, как начать научную карьеру. И будучи уже так близко к цели, я не испытывала ни малейшего желания еще исполнять чьи-то приказы. Но вести себя глупо не хотела тоже. Я села.
– Вы химик?
– Как вам известно.
– Вы четыре года работали в Академии наук?
– Да, по окончании университета я начала там работать. Но уже два года там не работаю. Я работаю на кладбище.
– На кладбище?
– В последнее время – да. Из-за предстоящего отъезда. – Я удивлялась тому, как мало, казалось, знают эти пограничники. Эти вопросы в последние месяцы мне задавали неоднократно – и других людей в моем окружении тоже об этом спрашивали, про некоторых я это знала, про других могла лишь догадываться.
Человек в мундире листал бумаги.
– Встаньте.
– Я должна встать?
– Да, мы же вам только что сказали. И не задавайте вопросов. Вопросы задаем мы.
Я встала. Юбка у меня прилипла к заду.
– Заявление на отъезд было подано в апреле позапрошлого года. Начиная с мая по отношению к вам действует ограничение контактов. Вы были засекречены?
– Нет. Я хочу сказать, что запрет на контакты должен был действовать и дальше, но засекречена я еще не была.
– У нас другая информация. Вы хотите нас обмануть?
– Нет.
– Над чем вы работали в Академии наук?
Мне жали туфли, я переминалась с ноги на ногу и оглядывала присутствующих.
– Мы дождемся ответа?
– Что я могу вам об этом сказать? Я уже забыла. О том, чего я не забыла, я должна молчать, а о чем не должна молчать, того вы все равно не поймете. Вы не специалисты, господа.
– Ого, какая хитрюга, – чиновник захлопнул лежавшую перед ним папку и стал шепотом переговариваться с начальником, сидевшим в сторонке позади него.
– Увести. – Начальник кивнул высоченному парню с непропорционально маленькой головой. Он был такого высокого роста, что его брюки явно пришлось выпустить – темнозеленый цвет нижнего края этих брюк выглядел, словно кайма. Высоченный схватил меня за руку выше локтя и отвел в соседнюю комнату. Тоже без окон.
– Где мои дети?
– Вы что, не слышали? Вопросы здесь задаем мы.
Тут бы я охотно присела, но в этой комнате не было ни стула, ни стола, а садиться в юбке прямо на пол в присутствии этого чиновника мне не хотелось. Я посмотрела на свои часы. Было начало седьмого. Алексей и Катя скоро проголодаются.
Когда я снова взглянула на часы, было десять минут седьмого, а на часы я смотрела примерно каждые три минуты, в последний раз – без пяти семь, когда вошел прежний чиновник с женщиной в форме.
– Какие-нибудь происшествия? – спросил он высоченного.
– Никаких происшествий, – прозвучало с высоты. В виде приветствия высоченный держал руку у виска.
– Раздевайтесь. – Старший чиновник благожелательно мне кивнул.
– Что, простите?
– Вашу одежду можете вручить вот этой коллеге. – "Эта коллега" тупо взглянула на меня. Имена не назывались. На секунду я задумалась над тем, как могут звать такого молодого служащего, пусть высокого, но с такой маленькой головой, в каком подразделении он служит и какое у него звание. Быть может, он капитан? Но "капитан" значит главарь, а у этого голова маленькая, да и звание, наверное, невысокое. Но такой игры слов следует избегать, следует считать ее уязвимой с точки зрения закона, поскольку служащий с маленькой головой оказывается по ее причине ущемленным, профессионально и недвусмысленно, это ущемление делает его смешным, и в мире, где царит порядок, оно просто недопустимо. Старший из чиновников рявкнул на меня:
– А побыстрее нельзя?
– Почему это я должна раздеться?
– Вопросы здесь задаем мы, а не вы, – повторил высоченный и осклабился, подбадривая меня.








