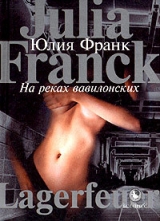
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
– Раздеться, перед вами? – Возможно, здешние пограничники вызубрили всего четыре-пять фраз, которыми они пользовались в зависимости от ситуации. Эти фразы их личностей не раскрывали, но для необходимых указаний их было достаточно. Меня разбирал смех.
– Может, вы здесь видите еще кого-то? – Высоченный с маленькой головой погладил изящный черный пистолет, который, казалось, приклеился к его туловищу. Смех, что так и рвался из меня, сдержать было невозможно.
– Вы хотите, чтобы я…
– Давайте, давайте, мы ведь тоже всего только люди. – Старший чиновник делал вид, будто ему скучно.
– Люди? – Я нервно рассмеялась.
Открылась дверь, вошел еще один в мундире.
– Что происходит? Где вещи? – Голос его звучал хрипло.
– Она ломается.
– Может, позвать подкрепление?
– Нет. – Сначала я сняла туфли, потом платье. Служащая протянула руку, и мне пришлось передать вещи ей.
– Всё снимайте.
Услышать еще раз: "А побыстрее нельзя?" мне не хотелось. Я решила на какие-то мгновения перестать думать, сняла чулки и белье, и все это тоже отдала служащей. Чулки я аккуратно сложила, прежде чем сунуть ей в руки.
– Украшения – тоже.
Я сняла с шеи цепочку и отдала ее женщине, та осталась совершенно безучастной. А к чему могла бы она проявить участие?
– Часы. – Тем временем высоченный с маленькой головой поглаживал свой пистолет.
– И очки.
Я еще раз взглянула на часы – было десять минут восьмого. Времени у них оставалось немного. Вдруг я с полной ясностью поняла, что они обязаны до полуночи переправить нас через границу. Иначе они нарушат свои собственные правила. Ведь между двумя государствами наверняка существовало соглашение, определявшее эти процедуры.
– Кольцо.
Я воззрилась на человека в мундире так, словно я его не поняла, – он указал на мою руку. Я оглядела свою руку и покачала головой.
– Кольцо.
– Не получится. Оно не снимается.
– Любое кольцо снимается. Мыло!
Я еще энергичнее замотала головой. Один из служащих вышел, возможно, затем, чтобы принести мыло.
– Если мыло не поможет, то на этот случай имеются и другие средства, – шепнул мне человек в мундире. Я сделала вид, что не слышала этого. Кольцо я не снимала со дня смерти Василия, не снимала ни на ночь, ни когда плавала, ни когда что-то отмывала, ни когда копалась в земле на кладбище и выдергивала сорную траву, ни потом, когда мыла руки. Никогда.
Второй служащий вернулся с куском ядрового мыла.
– А побыстрее нельзя?
– Не надо, пожалуйста.
Служащий схватил меня за руку и стал стягивать кольцо.
– Пожалуйста, не надо. – Голос у меня оставался странно спокойным, словно принадлежал не мне. Я сжала руку в кулак. Служащий пытался кулак разжать, отгибая палец за пальцем.
– Пожалуйста, не надо.
Словно при замедленном кинопоказе, наблюдала я за тем, как кольцо сдвигалось все дальше по пальцу, сдвигалось с нажимом, с усилием, пока не исчезло в руке служащего. Обошлось без мыла. Я не чувствовала ни кольца, ни своей руки. Где-то чуть дальше мне слышался голос: "Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо". Возможно, это меня передразнивал старший из служащих, тот, что сейчас стоял у двери, а вообще отдавал приказания.
– Вы останетесь здесь. – Он распорядился, чтобы младший не спускал с меня глаз, потом сделал знак "коллеге", которая пошла за ним с моими вещами. На среднем пальце от кольца даже не осталось отпечатка. Младший стоял у притолоки и, казалось, радовался. Я невольно вспомнила своего брата, который в годы возмужания ни о чем не мечтал так страстно, как о мундире, и больше всего ему нравились формы полицейских и солдат, но пожарные, летчики и матросы восхищали его тоже. Золотые звезды нравились ему больше, чем серебряные и красные. Его мечты о будущей профессии развивались исключительно в этом направлении. Я уверена: из него вышел бы плохой полицейский. Не потому, что он был бы не способен отдавать приказы или сходу вникнуть в ситуацию, такие вещи давались ему легко, а вот подчиняться кому – то ему было тяжело, приказов он ни от кого, кроме нашей матери, не терпел. Так что пришлось ему стать не особенно преуспевающим фрезеровщиком. Этот парень здесь уж слишком охотно исполнял приказы, даже если это был приказ следить за раздетой женщиной. Его глаза беспокойно бегали по моему телу и тому, что его окружало, они были такими напряженно зоркими, что мне со стыда хотелось незаметно провалиться сквозь землю. Я тоже исподволь к нему присматривалась. Голова маленькая, молодой. Высокого роста. Больше мне ничего в глаза не бросилось, ничего особенного, индивидуального. Возможно, у него была бледная кожа, по при таком свете кожа любого человека показалась бы бледной. Я не имела права даже знать его имя, так как могла бы его предать. Его воинское звание оставалось неизвестным, зная его, я могла бы сориентироваться. Только его внешность, воздействию которой я уже изрядное время подвергалась, создавала, конечно, непреднамеренную близость. Ему моя нагота казалась более неприятной, чем мне. Вдруг стало совершенно темно, потом опять зажегся свет.
– Извините, – высоченный юноша с трудом скрывал, как ему смешно, – он явно спиной нажал на выключатель. Я снова скрестила на груди руки.
Через некоторое время открылась дверь, старший из чиновников скомандовал: "Пройдемте!" В дверном проеме показалась женщина-служащая, вероятно, она сопровождала нас приличия ради, дабы соблюсти благонравие и порядок. Она принесла для меня полотенце, но они было слишком маленькое, чтобы прикрыть все, – грудь и срам, а прежде всего – большое родимое пятно, расползшееся возле моей коленной чашечки, пятно, которое я ненавидела, которое было мне противно и которое мне хотелось показывать этим людям даже еще меньше, чем грудь и срам. По коридору мы прошли в другую комнату, где нас встретил человек в голубом фартуке и в очках. Он положил на полку колено какой-то трубы, наверно, это был мастер, отвечавший за исправность инвентаря и производивший его ремонт. Старший сказал ему про меня:
– Это она.
Человек в голубом фартуке на меня не взглянул, только устало кивнул головой в сторону кресла и велел мне туда сесть.
– Зачем это?
– Таков порядок.
Кресло напоминало трон, у него были широкие подлокотники, устойчивый и высокий цоколь.
– Залезайте.
– Мне нужно пописать.
– Сейчас?
– Да.
– Туалеты в другом конце, туда вы сейчас не пройдете. – Служащий задумчиво смотрел на мою грудь, которую не могло закрыть полотенце.
– В углу стоит ведро, – сказал человек в голубом фартуке и указал на белое эмалированное ведро.
Я пристроилась над ведром, полотенце соскользнуло на пол, одной рукой я поймала его за уголок, словно этим движением могла прикрыть свою наготу.
Мой взгляд остановился на Единственном, который вошел в комнату, незамеченный мной. Я не могла решить, которым он был вначале, Правым или Левым. Так было легче не воспринимать его присутствие, как нечто касающееся меня. Служащая протянула мне лигнин.
– А теперь залезайте.
Мягкая обивка этого трона во многих местах была порвана. Из прорех лез наружу пенопласт, наверху он расслаивался, вбирая в себя воздух и влагу, крошился от трения. Мысли мои не желали останавливаться. Ну, думала я, есть женщины, пережившие и не такое. Во время войны. Я огляделась: напротив меня находилось одно из черных стекол, рама которого была так плотно вделана в стену, что здесь едва ли могла идти речь об окне наружу. К тому же помещалось оно в правом углу по отношению к двери и коридору, по которому мы прошли, так что скорее должно было выходить в соседнюю комнату.
Насколько же черной стала теперь ночь? Других окон в комнате не было. Я нигде не обнаружила часов, и вообще никакого, хотя бы маленького и примитивного инструмента для измерения времени, не говоря уже об ориентации в пространстве. В лотке возле меня, на расстоянии полуметра, лежали всевозможные инструменты, они походили на шприцы, пустые шприцы разной величины, шприцы, наполненные прозрачной жидкостью, шприцы с голубоватой мерцающей жидкостью, небольшие щипцы; что-то вроде ножа, или скорее, бритвы, две пары ножниц, из коих у одной были тупые концы, а еще – что-то похожее на ложку для мороженого, правда, поменьше; и, наконец, иголки. Да, только вот теперь нет войны. Я, во всяком случае, до сих пор определению "война" не вполне верила, даже с эпитетом "холодная". Что это, собственно, означало – "холодная война"? Гусиная кожа у меня была. Но при чем тут холод? Мне не было холодно. Я ничего не чувствовала. Даже мои поднятые вверх ноги онемели. При слове "война" мне представлялось нечто другое, чего я не испытала, и что определялось словами, порождавшими в воображении лишь безобразно искромсанные картины. Взгляд мой упирался в черное стекло. За ним могло ничего не быть. Так же, как медный дворец мог быть кулисой, фоном сна, скрывавшего великое ничто, огромное пустое пространство, наполненное только воздухом и несколькими железными распорками, служившими для поддержания этой кулисы. На полу песок. Если внутрь вели красные ковровые дорожки, и по ним шествовали министры, исчезая из видимого мира, значит, они подземными ходами попадали не куда – то там, а в наипрекраснейшее место – под сине – зеленые своды Государственной безопасности. Там их лица оставались бледными, а страх сидел в них так глубоко, что даже по возвращении в собственную далекую страну они не хотели рассказывать о внутреннем убранстве дворца. Память им отказывала. У них на глазах все еще была символическая повязка, а вот пенопласт, прилепившийся к моему бедру, был, напротив, вполне реальным.
Того, что мы жили в состоянии войны, я до сих пор по-настоящему не замечала. За это мне было стыдно. Но наверняка это был не тот стыд, какой во мне искали. Инструменты вдвигались в меня и вытаскивались обратно. А могла ли быть горячая война? Я невольно вспомнила бабушку: в возрасте восьмидесяти лет и после неоднократного пересечения границы без всяких происшествий. Три года назад, за день до Хануки, на границе в маленькой комнатке ее заставили раздеться и открыть рот для того, чтобы под тем же предлогом, что придумали для меня, снять все зубные коронки и мосты. Только у нее они, пожалуй, надеялись обнаружить материалы какой-нибудь западной секретной службы, который она предположительно собиралась нелегально ввезти, в то время как в моем случае они, конечно, боялись, что я могу выведать смехотворные результаты их исследований – для западной науки. Произведение искусства, созданное профессором, доктором стоматологии Шуманом, менее чем за два часа было методично разрушено, а в довершение всего бабушку заставили долгие часы дожидаться, чтобы в конце концов отправить домой без протезов, с коробочкой, полной обломков зубных коронок. О другом бабушка в своем рассказе, возможно, умолчала. То была, наверно, обжигающая боль, во всяком случае, мой мозг подавал сигналы о чем-то в этом роде. Обжигающая – хотя ожога я не почувствовала. Зачем было этому человеку в голубом фартуке соблюдать осторожность? Он был ремесленник, а не любитель. И поскольку он явно хорошо знал, что ищет, но не находил этого, то ему требовалось изрядное время для обследования. Жжение прекратилось, однако из-за того, что мою голову держали словно металлическими щипцами, я не могла посмотреть, что делается у меня ниже пупка. То, чем занимался сейчас этот ремесленник, не было поиском. Он что – то во мне мастерил, что-то в меня встраивал, превращая меня в оболочку своей поделки. Нет, они меня не отпустят. Они собирались заслать меня, как Троянского коня.
Дядя Леонард после того происшествия написал матери короткое письмо. Там он выразил свой ужас перед случившимся. Далее в немногих фразах он выражал недоумение: зачем она вернулась в Германию, притом именно в русский сектор? Выросла она в Баварии, так что даже не могла объяснить свой поступок влечением к родным местам, хоть и пыталась это сделать. Нет, ее поведение ему непонятно. Нельзя позволять так с собой обращаться. И он снова предлагал ей приехать к нему в Париж, он купит ей маленькую квартиру. Он будет рад, если она ему позвонит и сообщит время своего прибытия, чтобы он мог встретить ее в аэропорту.
Но бабушка ему не позвонила. Она показала нам его письмо и устало улыбнулась. Он разучивается писать, утомленно сказала она. Смотрите, он уже даже не помнит, что "ты" пишется с большой буквы. Родного языка у него как не бывало. Хм… Что мне делать в Париже? – спрашивала она. Ответа на этот вопрос мы не знали, да и не искали, поскольку ей было удобно любой разговор о ее жизни здесь и там заканчивать этой фразой. После того письма я дядю Леонарда больше не видела. И, положа руку на сердце, не верила, что он еще раз приедет в Берлин. Промежуток времени, прошедший с его последнего визита, оказался очень большим, больше всех предыдущих. Может быть, он боялся, что к нему тоже могут применить физические меры воздействия. Хотя моя бабушка еще жива, она больше никогда не совершит путешествие к сыну. В первые месяцы после той истории она пользовалась любой возможностью, чтобы съездить на запад, в Вильмерсдорф, где доктор Шуман-младший пытался под руководством своего престарелого отца восстановить то, что старик десятилетиями считал своим шедевром, пока он не сдался и не заказал для бабушки вставную челюсть. Я все вспоминала фразу из письма дяди Леонарда к бабушке: нельзя позволять так с собой обращаться.
– Расслабьтесь, – рявкнул на меня человек в фартуке, чья голова показалась у меня между ногами, – вам надо расслабиться, иначе у нас с вами ничего не получится.
Я не хотела выяснять, что здесь должно получиться. Возможно, этот господин, пытавшийся что – то во мне найти, искал лишь нечто извивающееся, нашел и вырвал, отсюда и жжение, которое я уже не могла почувствовать. Я слышала скобление и трение, глухо доносившиеся ко мне наверх. У себя между ногами я видела проплешину на затылке этого человека, пока он не выпрямился. На лице его играла улыбка, не вороватая, нет, он ничего не украл, вид у него был такой, будто он что-то совершил; он сдвинул вместе мои ноги и отвернулся, чтобы убрать инструменты; казалось, он погружен в свои мысли, возможно, то выражение, что я заметила у него на лице, было удовлетворением, а возможно, разочарованием. Молча, неторопливыми движениями уложил он инструменты в футляры, приготовил новые, совершенно так, как если бы ждал следующую пациентку, на которой мог бы испробовать привычный для него порядок, извлек из пакета в светлой оберточной бумаге, лежавшего внизу на полке, три ватных тампона, выложил их прямой линией под щипцами. Немного дальше поставил два маленьких сосуда с какими – то жидкостями и две закрытые коробочки, которые без конца двигал, чтобы они стали на свои места, пока не обратил внимание на меня, заметив мои коленки, – я ведь все еще сидела в кресле, голая, со сдвинутыми ногами, и явно ждала приказания, которое он мне тут же отдал: "Свободны". Возможно, он имел в виду служащих, которые должны были удалиться вместе со мной. Руки и ноги, даже отчасти ягодицы и срамные губы у меня онемели. Один из служащих помог мне вытащить голову из похожего на клещи лотка, оттягивавшего ее назад.
Попав опять в комнату, где не было ни окон, ни стола со стульями, я очутилась в обществе ухмыляющегося юноши. Еще немного, и он бы мне представился: капитан, фамилия такая-то, при этом он бы слегка поклонился, от чего голова у него показалась бы еще меньше, а я вознаградила бы такую его попытку к сближению молчанием. Скорее, даже глухотой. Но для него это было бы молчанием. Меня больше не интересовал порядок, о котором он должен был заботиться, и недостатки, с которыми он должен был бороться. Этот молодой служащий получал удовольствие от своего занятия. К этому удовольствию был не совсем непричастен пистолет, рукоятку коего он поглаживал – несомненно, потными руками. Через некоторое время мне принесли мои вещи. Платье в крупных цветах, светлые босоножки, – их небольшие каблуки уже сбились, бюстгальтер с кружевами, который бабушка несколько лет назад привезла мне с Запада, простенькие трусики, нейлоновые колготки, присланные мне дядей Леонардом из Парижа, – опасаясь, что они могут порваться, я до окончательной упаковки держала их в ящике с чулками, чтобы, наконец, сегодня утром в первый раз их натянуть, натянуть осторожно, при всей торопливости, с какой я одевалась. Служащий протянул мне беловатую пластмассовую миску, в которой лежали часы, цепочка, серьги и кольцо. Я все это надела. Кольца я не почувствовала. И часов тоже. И колготок. И себя самое. Я посмотрела на часы. Было двадцать минут девятого.
– Мои дети проголодались.
Мне никто не ответил.
– Следуйте за мной.
Я последовала.
Оба служащих привели меня в маленькую комнатку. Там нас ждал человек в белом халате. Приказы его были краткими. Платье, чулки, нижнее белье. Я опять должна была раздеться. Как будто бы органические волокна могли помешать рентгеновским лучам. Туфли, часы, украшения. Мне было велено встать в крошечный закуток, пятками на красную черту. Двери заперли. Увидеть я ничего не могла, ни лучей, ни изображения. Возможно, они хотели проверить, насколько исправно тот ремесленник выполнил свою работу. Я вспомнила секретные сообщения о больших дозах облучения, какие использовались в таких кабинетах. Но я не чувствовала ничего, кроме пластикового пола под босыми ногами. Дверь открылась. У служащей на руке висела моя одежда. Я больше не задавала вопросов. Я исполняла указания, пока мне в очередной раз не сказали, чтобы я шла следом. Мы вышли на воздух.
Стало заметно холоднее. Стемнело. Я искала взглядом машину Герда. Влага у меня под глазами была прохладной. Я ее вытерла. Мне жали туфли. Часы я тоже опять чувствовала, и кольцо. Казалось, все на своих местах. Герд сидел в машине, Стекло он опустил и пускал на меня дым. На заднем сиденье я увидела Катю и Алексея, они ссорились.
Оба демонстративно вздохнули, когда я села в машину.
– Ну, вот и ты, наконец, мама, вечно тебя приходится ждать.
– Ну, а теперь – "помм"! – заявил Герд.
Я повернулась к моим детям, и больше всего мне хотелось их обнять, но расстояние было слишком велико.
– С вами все в порядке?
– Да, но теперь – "помм"! – сказала Катя, она очень точно воспроизводила интонацию Герда, только в ее голосе слышалась еще некоторая гордость, какую я стала замечать у нее в последние дни. Возможно, она даже не знала, что такое "pommes", но с удовольствием повторяла это слово.
– Мам, они задавали нам ужасно смешные вопросы, хотели знать, возьмем ли мы тоже фамилию Герда. – Катя покрутила пальцем у виска.
– И что же?
– Я ничего не сказала, а ты?
Алексей покачал головой.
– Не-а.
Указательным пальцем он поправил сползавшие с носа очки. "Тут мало что можно сделать, – с сожалением сказал оптик, – такие уж у нас в пос леднее время модели, а из тех, что есть, его модель еще самая удобная, когда-то раньше была такая модель – "Голубь мира", но ее давным-давно уже нет, очень жаль, да еще у него носик такой маленький. Нет, в оправе для девочек расстояние не меньше, просто те оправы розовые, а в остальном они совершенно такие же".
– Мы просто ничего не сказали, а сказали, что ничего не знаем. Это секрет, верно?
– Да, секрет. – Я улыбнулась.
– Но вы и правда поженитесь?
– Кто его знает, – попытался вмешаться в разговор Герд.
– Нет, я же вам уже сказала. – Не зря ведь я говорила с Катей и Алексеем о лживых и о достойных ответах.
– Они хотели, чтобы я разделся.
Я резко обернулась и схватила Алексея за руку:
– Что?
– Да, – сказал он скучным голосом, – они сказали, что мы не имеем права увозить с собой совершенно новое нижнее белье. Хотели знать, много ли хорошего мы еще накупили на Штраусбергерплац.
– Ах да, верно. Мое нижнее белье они тоже хотели отобрать. Уверяли, что на Западе у нас, конечно, будет всего достаточно. – Катя икнула.
– Они вас обследовали?
– Обследовали? Но мы же не больные. – Оба замотали головой. – Нет, им просто показалось странным, что мы надели по две пары белья. Это и правда странно. Одну пару они у меня отобрали.
– А у меня – обе. – Алексей приподнял пуловер, чтобы мы могли увидеть его голый живот.
Герд медленно ехал мимо пограничников, а те своими автоматами делали знак, что нам можно ехать дальше. Мы проехали через здание пограничного пункта и, как и следовало ожидать, перед нами показался мост. Конструкция его была простая. Он выглядел намного меньше и короче, чем я себе представляла.
– А наши чемоданы опять в машине?
– Ясное дело. Думаешь, они собираются их отобрать? – Герда я насмешила.
Шлагбаум был поднят, стоявший возле него солдат сделал нам знак проезжать. Трапп-трапп – такой звук издавали колеса, когда машина катила по гудронной полосе, – такое вот невыразительное "трапп-трапп". Я чувствовала, что под нами – бездонная глубина. Выглянув из окна направо, я обнаружила световые конусы прожекторов, мерцавшие на черной воде.
– А вода здесь глубокая?
– Там, внизу, не вода. Это рельсы. – Герд включил радио.…when the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing a lord's song in a strange land.[1]
Я оглянулась: позади нас солдат снова закрывал шлагбаум.
По другую сторону моста стояли ярко освещенные домики, из дверей одного вышел офицер, одетый, очевидно, в западную форму, и велел нам остановиться. Герд приглушил радио. Этот офицер тоже пожелал видеть наши документы.
– Добрый вечер. Да, спасибо. Это документы детей? – Офицер листал бумаги. – Где вы намерены зарегистрироваться?
– Зарегистрироваться? – Я в недоумении посмотрела на Герда.
– В Мариенфельде. Сначала мы заедем в лагерь для вновь прибывших. – Герд поднял вверх большой палец, словно он должен был подать этому офицеру тайный условный знак.
– Несмотря на программу "воссоединения семей"? – Офицер не мог сдержать улыбку. Она выглядела заговорщической. – Значит, сначала вы остановитесь в Берлине?
Мысль о том, что Герд может быть заодно со здешними людьми и с теми, что по другую сторону моста, вдруг показалась мне вполне правдоподобной. Этой мысли не противоречило, что Герд так убедительно рассказывал, будто мы едем в лагерь. Как законной семье Герда, нам это вовсе не требовалось. Дом Герда был для нас открыт, вместе с мылом, – все там было в нашем распоряжении. Но Герд жил в маленькой квартирке в Шёнеберге, в полторы комнаты, как он подчеркивал, чтобы дать понять: проходную комнату нельзя считать полноценной. Так что меня-то он с удовольствием примет, а вот детей моих – нет. Офицер отступил на шаг назад.
– Погодите, нельзя ли мне тут у вас воспользоваться туалетом?
– Ну, разумеется. – Офицер открыл Герду дверцу машины и захлопнул ее за ним. Я увидела, как уходя, он положил руку Герду на плечо. Оба скрылись в одном из домиков. Я поглубже уселась на сиденье. Стрелка часов в машине у Герда дергалась на одном месте, она явно получала какой-то импульс, но что-то мешало ей двигаться вперед. Офицер с Гердом вышли обратно, они беседовали и смеялись, потом оба остановились, нагнули головы, и легкая вспышка пламени осветила их лица. Когда они опять выпрямились, то уже крепко затягивались сигаретами и шагали к машине. Офицер заглянул внутрь с моей стороны, приветливо мне кивнул и протянул документы:
– Ну что же, счастливого пути и благополучного прибытия. – На прощание он поднял руку, и только я было подумала, – еще немного, и он начнет махать, как он зашевелил рукой, постучал по капоту машины и еще раз приветствовал Герда, вскинув руку с открытой ладонью.
Герд включил зажигание.
– С ума сойти – ведь мы с этим парнем ходили в Висбадене в одну школу, а теперь вот встретились на пограничном переходе. – Он включил радио на полную громкость, поискал другую станцию и, найдя, стал подпевать:«…Where we sat down, ye-eah we wept, when we remember Zion».Меня охватила глубокая усталость, начала кружиться голова, я пыталась держать глаза открытыми и раз за разом подавляла зевоту.By the rivers of Babylon, where we sat down,казалось, все станции передают одну и ту же песню.
– Мама, я есть хочу.
Кристина Яблоновска держит брата за руку
С койки верхнего яруса до меня донеслось знакомое сопение – мой отец дышал ровно, лишь иногда он, казалось, захлебывался воздухом. Изредка дыхание его ненадолго пресекалось, наводя на мысль, что он может перестать дышать. В семьдесят восемь лет человек уже не обязан ровно дышать, он больше вообще ничего не обязан делать. Снаружи было еще темно. Но света фонарей, поставленных между блоками на небольшом расстоянии друг от друга, было достаточно для того, чтобы лагерь оставался обозримым и ночью, в темноте, для того, чтобы я могла одеться и уложить в мешок выстиранные кальсоны Ежи. Для Ежи я могла сделать не так уж много. Приносить ему в больницу еду мне не разрешали, какие-нибудь напитки – тоже. Однажды я потихоньку выделила ему толику из нашего колбасного пайка, но он колбасу есть не захотел, сестры разозлились, когда нашли ее у него в тумбочке. Кальсоны он не носил, но я тем не менее неделю за неделей ему их стирала. Я тихо открыла дверь, чтобы не проснулся отец и не заорал на меня сверху: "Кристина, корова ты эдакая!" Большая часть людей в квартире, казалось, еще спала. И подходя к привратнику, я тоже никого не встретила. Для детей, ходивших в школу, было еще рано, в такое время мало кто выходил из лагеря.
Когда я добралась до больницы, брезжил рассвет.
– Неужели ты не можешь надеть хотя бы приличную пижаму? Для чего я притащила тебе выстиранные вещи? – В платяном шкафу у Ежи царил сплошной хаос. Я уложила в ящик выглаженные кальсоны. Среди рубашек и пижам, которых он до сих пор ни разу не надел, я нашла пачку сигарет и немецкий женский журнал.
– Ты читаешь такие вещи?
– Ха, как я мог это читать? Этот журнал лежал в комнате для посетителей, вот я его и взял.
– А зачем? – Я обернулась к нему, вскинув вверх руку с женским журналом.
– Затем, что там красивые женщины.
– Красивые женщины, – повторила я и положила журнал в пустой ящик, под пижамы. Мне казалось, что тут скорее кроется какой-то секрет, но у Ежи не было от меня секретов. Возможно, они были у него тогда, в течение четырех лет его брака, но с тех пор, как он переехал обратно к нам с отцом, он вряд ли мог что-то скрывать.
Я не хотела смотреть, как он чистит ногти, проводя одним ногтем под другими.
– Дай-ка сюда. – Маникюрный набор лежал в ящике тумбочки. Я снова села на стул возле его кровати и взяла его за руку.
– Нет. – Ежи попытался высвободить руку, но я крепко ухватила его запястье. Канюля была закреплена пластырем, если его натянуть, то Ежи будет так больно, что он и слова вымолвить не сможет. Кожа у него была белая, растрескавшаяся, и напоминала кору старого дерева. Там, где пролегали сосуды, виделись следы уколов.
– Так что же с пижамой?
– Никто здесь в пижаме не ходит. Оглядись, Кристина. Видишь ты тут кого-нибудь в пижаме?
Я повернулась и окинула взглядом мужчин, сидевших на кроватях, – все, как один, были в белых ночных рубашках.
– Ну и что? – Я обстригала ножницами ногти у Ежи до самого мяса. – Ты не должен так опускаться только потому, что это позволяют себе другие.
Ежи молчал, он жевал зубочистку и разглядывал ногти своей другой руки. Краем глаза я видела, как одна из сестер меняла соседу Ежи ночную рубашку. Она растирала ему спину "французской водкой" и массировала этого человека, который был немного моложе Ежи; синеватые вены проступали у него по всему телу. Под руками сестры он тихо постанывал.
– Поэтому, да? – прошептала я, обращаясь к Ежи, но он, казалось, был всецело поглощен созерцанием своих ногтей. – Так ты поэтому не хочешь надевать пижаму, да? Ежи, ответь мне.
Ежи посмотрел на меня пустым взглядом.
– Что ты сказала?
– Только не прикидывайся опять, будто ты плохо слышишь. Ты хорошо слышишь, Ежи, очень хорошо. Ты бы хотел, чтобы она тебя переодела, ради этого ты готов носить эту дурацкую больничную ночную рубашку. Только чтобы она тебя переодела, – других причин нет.
– Что поделывает отец?
– Что он может поделывать? День-деньской отдыхает. С утра до вечера.
– Ты бы сходила с ним погулять.
– Ты так считаешь? Лучше я приду навестить тебя, Ежи. Если отец перестанет самостоятельно передвигаться, я не буду ему помогать.
– Ай! Будь поосторожнее.
– Я осторожна, Ежи, этот ноготь у тебя врос.
– Я же сказал, чтобы ты была поосторожнее. – Ежи пытался вырвать у меня руку, но я держала ее крепко.
– Вот еще этот ноготь, – сказала я и обстригла ему ноготь на мизинце. Потом я попыталась немного смягчить тон. – Я тоже могу тебя переодеть, Ежи, если тебе нужна помощь. – Под глазами у него были тяжелые синеватые мешки; с тех пор, как он оказался здесь, лицо у него как будто бы осунулось. Словно они морили его голодом. – Я это сделаю. Ты только скажи, и я тебя переодену. Тебе не нужны эти сестрьр, Ежи, у тебя ведь есть я. – За спиной я услышала стук деревянных башмаков, по палате шла сестра, звонким голосом она крикнула какому-то старику:
– Ну, как у нас дела сегодня?
Я слышала, как она встряхивает чье-то одеяло, и видела, как Ежи провожает ее взглядом через всю палату, не обращая внимания на меня и на мое предложение.
– Ты прячешься в угол, – сказал Ежи, не удостаивая меня взглядом.
Я остригла ему ноготь, хватив ножницами так близко к кончику пальца, что Ежи наверняка было больно.
– От чего?
– Это ты знаешь совершенно точно. – Он внимательно прислушивался к стуку деревянных башмаков позади меня.
Больше я не спрашивала, в конце концов, я знала, что он имел в виду не заботу об отце. Он имел в виду, что его сестра попусту расточает себя и свою жизнь. Он осуждал любую форму расточительства. Ему не давало покоя, что я продала свою виолончель и не добилась того, на что, по его мнению, была способна. И не только способна, как он без конца твердил, а скорее, благодаря этой моей способности прямо-таки обязана добиться. Однако он настолько же не терпел моей заботы о нем, насколько я не переносила его беспокойства обо мне. "Не для того мы покинули Щецин, чтобы…"
– Почему ты не уходишь, Кристина? Оставь меня одного. Смотри, сестры готовят ужин.
– Я еще немного посижу. Минутку. – Я крепко держала тонкую и холодную руку Ежи, даже когда он хотел ее у меня вырвать. Первый раз в нашей жизни я оказалась сильнее его.
– Ежи, они тебя здесь толком не кормят, я же вижу. Морят голодом. Как ты выглядишь!
– Уйди, пожалуйста. Уйди. Лучше сходи к отцу в лагерь, он боится темноты.
– Я знаю, но ведь осенью всегда темно. Если бы я не оставляла его одного, то зимой вообще не могла бы навещать тебя, – сказала я, стараясь, чтобы голос у меня звучал не угрожающе и не умоляюще, и ощутила глубокий страх оттого, что оставляю Ежи здесь, в больнице, на произвол сестер, дня и ночи, и капельницы, которую ему поставили в начале недели; страх перед дорогой домой в темноте, перед двухэтажным автобусом с неоновым освещением, дорогой домой, в лагерь, ибо никакого другого пристанища у нас больше не было. Даже если наш дом, скорее всего целый и невредимый, стоял на своем месте, совершенно равнодушный к нашему отсутствию. Теперь его отделяли от нас бесчисленные километры и две границы на Востоке, на другом берегу Одера. Дом был недосягаем. Я обязана была ему это сказать, чтобы он вспомнил, и при этом немножко поплакать.








