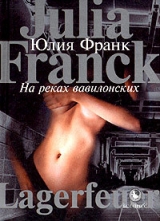
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– У меня есть чек для вас, на хорошую сумму. – Он шевелил руками, и я пыталась понять, держит ли он еще тот острый предмет. Возможно, он положил его где-то в туалете или держал наготове в кармане пиджака. – И подумайте о том, что мы хотим помочь вам найти квартиру и обставить ее. Да, мы хотим вам помочь вновь встать на ноги. Позвольте вас спросить: кто вы по профессии?
– Никто. Слышите, я не работаю.
– Вот видите. – Его маленькие светлые глазки вспыхнули торжеством. "Химик, значилось у его в документах, – до апреля 1976-го работала в Академии наук, заявление на выезд, после этого, как человек без квалификации, работала на кладбище". – Наверно, и в этом мы можем вам помочь. Ну садитесь же, наконец.
– Я не хочу вашей помощи, разве я неясно выразилась?
– Только не волнуйтесь, фройляйн Зенф, подумайте о ваших детях и о том, какие платья вы носите, что вы едите, какой адрес называете, когда вас спрашивают, где вы живете. Я охотно верю, что вы с любовью и с чистой совестью выполняете ваш материнский долг. – Он сделал еще шаг ко мне, а я скользнула в сторону, чувствуя за спиной подоконник. – А вы не думаете, что ваши дети испытывают унижение оттого, что им приходится возвращаться домой через шлагбаум и так же выходить на улицу?
– Хватит говорить о моих детях. Мои дети вас не касаются! – Мой собственный крик отдавался у меня ушах. Однако этот человек никак не реагировал. Я тихо сказала: – Что вы можете знать об унижении? – И сделала шаг вперед, чтобы в изнеможении опуститься на стул.
– Фройляйн Зенф, Рождество уже на пороге. Способны вы себе представить, что, возможно, уже ближайший семейный праздник будете справлять под своей крышей?
– Спасибо, нет. Вы не хотели бы сейчас уйти? У меня много дел. – На столе передо мной лежала книга. Мне казалось, будто я положила ее там вечность назад. Я открыла ее и сделала вид, что, как только он уйдет, продолжу чтение.
– Не всем людям это легко дается – принимать помощь. Ваше противодействие этому, фройляйн Зенф, и ваша проявляемая таким образом гордость, – все это может иметь свои причины, и все же я опасаюсь, фройляйн Зенф, что таким образом вы ваше положение не улучшите. – Он медленно расхаживал позади меня. – Мы вам желаем добра. – Вдруг он выкинул вперед руку, и я в испуге отшатнулась. Однако он еще ближе подвинул ко мне коробку с конфетами: – Не хотите попробовать?
Я покачала головой. Своими длинными пальцами он ловко выхватил одну конфету и положил ее на язык, где она какую-то долю секунды лежала, а потом с чавкающим звуком скрылась у него во рту. Не выпуская меня из виду, он медленно и смачно жевал. Нам говорили, что стена и привратник нужны для нашей безопасности, тем не менее ходили слухи о похищениях. Но как бы он мог вытащить меня, оглушенную, из квартиры, пронести вниз по лестнице и мимо привратника? Как бы невзначай он присел на край стола и сунул мне под нос коробку с конфетами. Золото оберток слепило глаза. Горьковато-сладкий запах душил меня.
– Подумайте, может, вы пожелаете на нас работать. Мы сможем достичь взаимопонимания, вы и я, – сказал он и улыбнулся. Возможно, это ирония заставляла его так улыбаться. Он взял из коробки вторую конфету, положил ее на язык и не спускал с меня глаз.
– Я не жертва, господин доктор Роте. Сколько бы вам ни хотелось поскорее сбыть вашу доброту, помощь и чек.
– Вы ошибаетесь, дело здесь не во мне. Не стройте из себя дурочку. Мы хотим вам помочь, фройляйн Зенф. Возможно, после всего, что вы пережили, трудно понять, насколько хорошо к вам относится тот или иной человек.
– Что вы сказали?
– Вы не верите своим ушам, но мы вам желаем добра. Вы очень тяжелый и, если мне будет позволено сказать, даже вызывающий сострадание случай. Одинокая женщина с двумя детьми, без квартиры и без работы. Вы молоды, так что перспективы еще есть, Зенф. – Он слегка повысил голос, словно по опыту знал, что, повышая голос, можно придать сказанному убедительность и драматизм. – Вы интересный случай для нас. Ваш статус беженца…
– И это тоже вас не касается.
Я пыталась расшифровать знаки в моей книжке:раскалить добела,читала я, довести до белого каления, подумала я и расставила по порядку буквы, не для автора, для себя,ни один волос не упадет с вашей головы, я вышла из пекла,не для того, чтобы попасть к нему в лапы, но на самом деле я еще не вышла, подумала я, и если бы не открытая улыбка у него на лице, стоическая, словно у идиота, я бы давно вцепилась ему в горло и выдрала бы его короткие седые волосы, мне захотелось ему сказать: лучше вам поискать себе другой «случай», я вам не подхожу. Тут он опять заговорил:
– Мы вас выбрали, мы вас нашли, Зенф, пусть вы даже не очень приветливо меня встретили. Все равно вы наш человек. – Он положил руку мне на плечо и сжал его, словно решил меня больше не выпускать.
Нет, хотела я сказать, но сколько ни старалась, лишь губы мои складывали слова, а голос отказывал.
– Я знаю о вас больше, чем вы думаете. – Кончиками пальцев он давил на мою лопатку и ключицу. Я слышала, как он сглатывает слюну, видела полуоткрытый рот и ощущала, как его большой палец трет мою ключицу. Брюки у него были отглажены. Я только сейчас заметила, что молния у него на штанах открыта. По-видимому, в туалете он забыл ее застегнуть.
Пока я таращилась на его брюки, я думала о слове "фройляйн", о шприце и о его желании мне помочь.
– Пойдемте со мной. – Кончики его пальцев давили мне на лопатку и ключицу. – Пойдемте.
Раздался звонок. Я вскочила и бросилась к двери. Там стояла фрау Яблоновска с каким-то незнакомым мужчиной.
Может, они пришли к нему на помошь? Ни секунды не медля, я протиснулась мимо них и побежала вниз по лестнице. Я слышала, как она что-то сказала, и будто для того, чтобы не забыть ее слова, я снова и снова повторяла их про себя. Когда я внизу бежала по открытой площадке между домами, то шептала "я хотела…", а продолжение фразы я забыла.
Я бесцельно бродила между домами и натыкалась на стену, которая окружала лагерь. Возвращалась, шла между двумя другими блоками по направлению к стене и снова поворачивала обратно. К будке привратника я ни за что подходить не хотела. Там было бы слишком легко меня поймать. Куда бы меня не приводили мои ноги, я снова и снова оказывалась в тупике, где не было жилого дома, была стена. Над домами нависла плотная пелена туч. Уже упало несколько капель, тяжелых и крупных. Все двери в доме "П" были заперты. Я задумалась: вдруг сегодня выходной, возможно, праздник, о котором я еще не знаю. Но тогда бы мои дети не были в школе. Мои дети. Дождь припустил, и я побежала обратно к нашему блоку.
– Я возьму ее к себе в кровать, – услышала я еще от входной двери Алексея.
– Нет, она пойдет ко мне, – возразила Катя.
Доктора Роте и фрау Яблоновской не было видно.
– Нам нужно взять сюда ворону, мама. На улице она замерзнет.
– Она выглядит уже не так красиво, перья у нее грязные и взъерошенные. Я думаю, что ей там, внизу, плохо, – Алексей снял со спины школьный ранец, – очень плохо.
– Здесь кто-нибудь был? – спросила я.
– Кто здесь должен был быть? – спросил Алексей.
– Может, ее поклонник. – Катя закатила глаза и захихикала.
– Ворона умрет с голоду еще раньше, чем замерзнет. Мы должны о ней позаботиться. – Алексей серьезно смотрел на меня. В лагере было запрещено держать каких-либо животных. Не то бы мы сразу взяли кошку.Мы хотим вам помочь.В конце концов, ворона – не домашнее животное, и она еще, чего доброго, умрет в нашей комнате, если я ее впущу. Но Катя и Алексей были заодно. Вороне надо помочь. Он может у себя в кровати устроить ей гнездо, предложил Алексей. Он не хотел мне верить, что у него в постели птице будет слишком жарко. Там бы она была надежно спрятана, на случай, если бы кто-нибудь пришел с проверкой, возразил Алексей. Тут он ошибался: ведь даже постельное белье выдало бы эту странную жиличку.Фройляйн.
– Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, – сказала Катя и сама пообещала, что тогда они больше ничего не будут просить себе к Рождеству, совсем ничего. Даже цветных наклеек, которые стояли первыми в списке их пожеланий. Кстати, именно эти наклейки казались мне подходящим подарком, потому что все другие пожелания, вплоть до мини-юбки, по стоимости значительно превышали ту сумму, какую предоставляло нам руководство лагеря. Чего, однако, никто запретить не может, объяснил Алексей, так это держать и кормить ворону на подоконнике. Там ворона и еда, которую он собирается ей давать, будут защищены от прожорливых и более проворных галок.
Таким образом вы ваше положение не улучшите.
Поскольку я видела, как трудно было Кате и Алексею поймать ворону, я предложила следущее: они могут предпринять все, что в их силах, чтобы заманить ворону на подоконник, но в дом она не должна попасть ни при каких обстоятельствах. Оба кивали и хлопали в ладоши, будто они что-то выиграли, только я не была уверена в том, что это получится, потому что у вороны явно было сломано крыло, и она не смогла бы взлететь на пять метров к нашему подоконнику.
Дети в напряжении сидели у окна и разглядывали рассыпанные ими зерна. Время от времени они сталкивали какое-нибудь зернышко вниз, видимо, надеясь, что черная птица заметит, что здесь, наверху, хотят обеспечить ее существование. Прилетел воробей, потом второй. Дети вовсю махали руками, но маленькие крылатые обжоры не унимались и не давали себя прогнать. Когда ворона прыгала внизу по земле, исчезая из их поля зрения, дети бежали вниз по лестнице, чтобы посмотреть, все ли с ней в порядке, и приносили ей зерна, которыми она пренебрегала, а галки их склевывали.
Через некоторое время Алексей решил, что надо действовать по-другому. Он хотел взять книжку из передвижной библиотеки.Подумайте о своих детях.В окно его было хорошо видно. Он терпеливо стоял перед запертой дверью и ждал, пока вернется библиотекарша, которая явно вышла в туалет. Я открыла окно и поманила его, там было холодно, я крикнула ему: ты не замерз?Я охотно верю, что вы с любовью и с чистой совестью выполняете ваш материнский долг.Под предлогом, что мне надо кое-что купить, я надела куртку.Вызывающий сострадание случай.Катя сидела над своими домашними заданиями, не поднимая головы, и как бы случайно подтолкнула по столу листок с ее пожеланиями, ничего не сказала, а просто ждала, когда я его возьму.
– Где Сюзанна? – спросила она, когда я открыла дверь.
– Не знаю. Я тоже хотела бы знать.
– Вообще она в это время спит. Так долго она еще ни разу не отсутствовала.
– Наверно, у нее есть на это свои причины.
– А ей это позволяют?
– Если у нее есть причины. Я скоро вернусь.
На улице земля скрипела у меня под ногами, я пересекла площадку, лишь кое-где еще покрытую почерневшей травой. Смеркалось. Меня трясло, но не от холода. Дверь в передвижную библиотеку была открыта, внутри горел свет. Алексей, видимо, хотел попросить у библиотекарши книжку о воронах. А почему, собственно, – "вызывающий сострадание случай"?Мы желаем вам добра.Словно кто-то был обязан желать мне добра. Человек, желающий мне добра, избавил бы меня от таких слов, они бы ему и в голову не пришли. Я свернула направо и пошла к блоку "Д". У второго подъезда я открыла дверь и поднялась на несколько ступенек, полагая, что они ведут к Хансу.
Дверь мне открыл довольно-таки пожилой мужчина в подштанниках и нижней рубашке. Дома ли Ханс, спросила я.
– Понятия не имею, хотите посмотреть? – Пиво из его бутылки, казалось, вот-вот выльется. Он держал передо мной дверь, но я как-то замешкалась.
– В какой комнате он живет?
– Прямо тут, напротив. – Он наблюдал за мной, будто хотел дождаться, когда я открою дверь. Где – то плакал маленький ребенок. Мужчина отхлебнул изрядный глоток. – Мало радости, – сказал он, – ревет и ревет, паршивец. – Кроме плача ребенка, я услышала еще и женский плач, однако этого мужчина как будто не слышал. Я нажала на ручку двери, но дверь осталась закрытой.Таким образом вы ваше положение не улучшите. Яеще раз нажала на ручку, но она не поддалась.
– Ну вот. – Он сделал шаг ко мне, еще несколько сантиметров – и он уперся бы животом в мою куртку. Пивной дух ударил мне в лицо. – Еще что – нибудь?
– Нет. – Я невольно сделала шаг назад, а он – шаг ко мне.
– Вы можете зайти. – Он едва ворочал языком и почти коснулся бутылкой моей руки.
– Спасибо, просто передайте ему привет от Нелли.
– Будет сделано. – Его голос прозвучал вдруг громко и послушно, он щелкнул голыми пятками, как бы давая клятву, поднял бутылку.Таким людям, как вы, жертвам человеконенавистнических и недостойных режимов.Чувство облегчения пронизало меня, когда я вышла на лестничную площадку и побежала вниз. Этажом ниже на площадке стоял Ханс. Всякий раз, когда я его видела, Ханс казался мне еще меньше, чем был в моей памяти. Я отошла в сторону, чтобы ему не пришлось стоять на ступеньках, взгляд мой был направлен вверх, где в дверном проеме стоял мужчина в нижнем белье, подняв для приветствия пивную бутылку.
Ханс проследил за моим взглядом.
– Что ты тут делаешь? Ты его знаешь?
– Нет. Я хотела к тебе, но тебя не было.
– Тогда пошли. – Он шел передо мной и, казалось, нисколько не удивлялся моему приходу. Он прошел мимо соседа не поздоровавшись и открыл дверь в свою маленькую комнатку.
– Заходи, садись сюда, рядом со мной. – Ханс похлопал по матрацу. Так, словно само собой разумелось, что мы будем сидеть рядом на одной кровати, последовала я его приглашению, радуясь дружелюбию и теплоте его взгляда.
– Ты знаешь такого доктора Роте?
– А я должен знать?
– Из "Клуба Медведей".
– Нет, к сожалению.
Я посмотрела на Ханса. Хотя он уже так долго жил в лагере, он, казалось, еще никогда не слышал о таком "до некоторой степени знаменитом" человеке.
– Он сегодня в полдень нанес мне визит.
– Некий доктор Роте? – Ханс снимал ботинки.
– Возможно. По крайней мере, он и его "Клуб Медведей" хотели мне помочь.
– Тебе помочь?
– Да. – Я с облегчением рассмеялась. – При том что никакой помощи я не хочу.
– Так чего же ты хочешь?
Я пожала плечами.
– Просто больше об этом не думать.
В его взгляде появилась какая-то неуверенность, неуверенность, возможно, вызванная неожиданной близостью моего тела, до которого он мог дотронуться. Я протянула к нему руку и погладила его по щеке. Щека у него была шероховатая. Губы были мягкие. Я только раз их погладила. Он воспринял это прикосновение со странным спокойствием. Он не был взволнован.Мы вас выбрали, мы вас нашли,подумала я и сказала:
– Тебе это знакомо? Иногда на меня нападает страх. – Я погладила его узкое плечо, провела ладонью по его предплечью и взяла его за руку, которая свободно лежала на бедре. Рука была холодна, как лед. Он ничего не ответил. Я невольно вспомнила его рукопожатие, которое таковым не было. – Просто так, неизвестно почему.
Он высвободил свою руку из моей, как будто это было необходимо.
– Хочешь чего-нибудь, воды или "нескафе"?
– И того, и другого.
Ханс вышел и вернулся с двумя чашками, в одной была вода, в другой – кофейный порошок, и то, и другое он поставил передо мной на пол. Он вставил вилку кипятильника в розетку и сел опять рядом со мной на двухъярусную кровать.
– У тебя часто бывают гости?
– С той стороны, ты хочешь сказать? Никогда. А у тебя?
Ханс отрицательно мотнул головой.
– На прошлой неделе мой дядя на несколько дней приезжал в Берлин. У него здесь были дела, и он хотел, чтобы я навестила его в отеле. "Кемпински", на Курфюрстендамм. Однако мой сын был болен, и я не смогла уйти.
– Почему он не приехал сюда?
– Сюда? – Я пожала плечами и задумалась. – Я его не спрашивала. Честно говоря, я хотела избавить его от этого зрелища. Он приехал из Парижа.
– И что? Дядя из Парижа не может вынести вида лагеря?
– Да нет, возможно, он вынес бы. Но я не смогла. Он эмигрировал, и у него свое представление о немцах и их лагерях. Я не хотела, чтобы он меня здесь видел.
Ханс кивнул, будто понимал, что я имела в виду.
– Я бы не смогла по-настоящему его принять, понимаешь? Как я могу здесь разыгрывать из себя гостеприимную хозяйку. Я даже не смогла бы ничего приготовить.
– Приготовить?
– Звучит глупо, но когда я об этим думаю, то мне приходит в голову, как много я раньше готовила, и насколько это занятие было для меня связано с ощущением дома. Ясное дело, иногда мне это мешало, ведь когда у тебя дети, ты не всегда делаешь это по своей воле. Но здесь, где на кухне есть только одна действующая плита и одна сломанная, где в шкафу стоят большая кастрюля без подходящей крышки и кастрюлька для молока, мне этого не хватает. Я невольно думаю о фрау Яблоновской и о капустном запахе в ее квартире, когда я пришла к ней в первый раз. Она явно испытывала меньше затруднений, чем я, когда ей приходилось все варить в одном горшке. Возможно, что она оказалась и настолько предусмотрительной, что сумела купить на въездное пособие кастрюли, или даже привезла их из Польши.
– Вы питаетесь в столовой?
– Дети – иногда. Бывает, я подсаживаюсь к ним, чтобы составить им компанию, но есть я не могу. Я не могу там есть. У меня просто пропадает аппетит. Наверно, в такой столовой, при таком приготовлении и раздаче еды я чувствую себя, как в сиротском приюте. Тут у меня руки опускаются, мне прямо стыдно перед моими детьми. Возникает такое чувство, будто ты в тюрьме.
– В тюрьме?
– Когда ты ешь только то, что перед тобой поставят, и уже не можешь сам решить, что и как ты будешь готовить, и твои дети не едят больше за одним столом с тобой то, что ты добыл и приготовил для них. Тогда ты больше не создаешь для них домашнего уюта, – только формально, а по сути – нет.
– Разве многие дети не едят где-то еще? В школе, в детском саду?
– Верно, но большей частью родители заботятся о завтраке и об ужине, и почти всегда они бывают на работе в то время, когда их дети едят в других местах. Так что они заботятся об этом и, если не кормят детей сами, по крайней мере могут быть уверены, что те будут сыты.
Ханс нервно почесал лицо. Мысль о детях и о готовке явно была ему более чем чужда.
– Ты сказала, в тюрьме?
Я кивнула. Мне пришло в голову, что Ханс уже приблизительно шесть лет выдерживает опеку над собой, сначала в тюрьме, потом в лагере. Но он никак это не выказывал, кроме как тем, что почесывался, но это могло быть просто дурной привычкой. Он слушал меня почти равнодушно, словно не знал описанного мною чувства или уже давно его преодолел, как будто человек может в один прекрасный день смириться с тем, что сам он уже не отвечает даже за простейшие вещи и лишен возможности решать.
– А больше ты на Западе никого не знаешь?
– Нет. – Я покачала головой. Мне очень хотелось крепко взять его за руку, чтобы он больше не чесался. Я поймала себя на том, что размышляю, правдив ли мой ответ. – А ты?
– Кто, я? – Ханс чесал лицо, пока у него не покраснела щека. – Нет. Хотя постой. Есть у меня дальняя родственница, Биргит. Она меня как-то навестила. И мой сводный брат. Сразу после войны мой отец подался на Запад и завел там новую семью. Он давно уже умер. Сводный брат живет в Мюнхене. В первые дни я ему как-то позвонил. Он сказал, что очень много работает, и сразу спросил, чего я хочу. Я ему сказал, что ничего определенного, что я просто хотел объявиться. Может быть, мы как-нибудь познакомимся. Тогда он торопливо сказал: он не может ничего для меня сделать. – Ханс опять почесал щеку, из пупырышка показалась капля крови. – Как будто я его о чем-то просил. Не спрашивай меня, зачем я вообще ему позвонил.
– Может, по той же причине, по какой я скучаю без готовки. Ты кому-то звонишь и устанавливаешь связь. Если ты с кем-то знакомишься, и вы встречаетесь, такое чувство, что ты оказался ближе. На шаг ближе.
– Ближе к дому, ты полагаешь? – Ханс смотрел на меня с сомнением. – Не знаю, это здорово смахивает на…
– На что?
– Ах, когда я слышу женщин в прачечной, или, скажем, читаю газету, которая валяется поблизости, то у меня складывается впечатление, будто весь мир объясняет себе все, что только можно, и как можно более психологично, в надежде, что тогда оно окажется более глубоким или правдивым. Но оно не оказывается ни тем, ни другим. Для жизни такие объяснения не годятся. – Ханс смотрел на меня, и я не была уверена, рассуждает ли он реалистично, или в нем говорят горечь и сострадание к себе. – Что это за история с отцом твоих детей? Ты в самом деле думаешь, что он пропал?
– Я не хочу об этом говорить. – Я откинулась на спинку кровати. Он уже один раз меня выспрашивал. Мне казалось, что на его лице я вижу сочувствие. Возможно, он думал, что на самом деле произошел лишь тяжелый разрыв, и такая версия казалась более привычной. Обманутой женщине он способен был посочувствовать. Чесаться он перестал. Его глаза излучали теперь только сердечное тепло человека, словно вдруг забывшего, что он мужчина, и ставшего лишь слушателем и сопереживателем моего несчастья. Зачем было мне его пугать и делать смешной слезу, которая готова была сорваться с его ресниц, и которая была вызвана его сочувствием ко всему ужасному, что он мог вообразить, – выложив ему историю о смерти и загадочном исчезновении? Вся близость и доверие между нами сразу пропали бы. Что могла значить для него, человека, которого я встречала всего несколько раз, чей тоскливый взгляд уже не раз оставлял меня равнодушной, если не вызывал отвращения, моя жизнь и потеря мужчины, которого я любила? Его рука спокойно и свободно лежала на колене, ни одно его движение не выдавало желания меня обнять.
От него шел какой-то затхлый запах, как от вещей, слишком долго пролежавших в шкафу. Несмотря на это я хотела к нему прикоснуться и сократить расстояние между нами. Я не хотела разговаривать, хотела только забыть, прикоснуться к нему и с помощью этого прикосновения забыть. Забыть словофройляйн,тисненые золотом инициалы В.Б., и вопрос, откуда у мнимого доктора Роте футляр, напомнивший мне тот, что я несколько лет назад видела в квартире Василия, – этот футляр тоже был пуст, носил на себе его инициалы и случайно – или неслучайно – мог быть выложен передо мной на стол.
– Так ты не хочешь мне рассказать?
Наивность, какую я, как мне казалось, увидела на лице Ханса, меня растрогала. Мне захотелось плакать. Потом захотелось его поцеловать. Я не сделала ни того, ни другого. Безусловная тактичность могла занять много места между людьми, так много, что они не смогли бы подойти друг к другу.
– Почему ты просишь рассказать? Ведь вам это ничего не говорит.
– Вам? – Пальцы его почти незаметно сжались.
– Вам, здешним, кто его не знает, вам – людям на Западе.
– Мы здесь в лагере, а не на Западе. – Ханс скрестил на груди руки. – Ты, наверно, уехала с Востока, а я – из тамошней тюрьмы. Но где ты приземлилась? Ты не обратила внимания на то, что мы живем в лагере, окруженном стеной, в городе, окруженном стеной, посреди страны, окруженной стеной. Ты полагаешь, что здесь, внутри стены, и есть золотой Запад, великая свобода? – Слова Ханса звучали горько, без всякой иронии. Чувство иронии было присуще только некоему доктору Роте. Вода вокруг кипятильника давно уже кипела, но Ханс не трогался с места. Что значили утраченная любовь и даже смерть, если их можно было превратить в оружие, в повод оскорбить человека? Ханс отвел от меня взгляд. Я бы с удовольствием его обняла и перед ним извинилась, однако сколь мало нравились мне мои слова, столь же мало, казалось, желал он терпеть мои прикосновения.
– Они хотят прислать мне дочь.
– Дочь?
– Говорят, что это моя дочь.
Я вопрошающе смотрела на Ханса.
– Я ее не знаю. Они называют это "воссоединением семей".
– Силой?
– Девочка выросла у бабушки. У своей бабушки. Видимо, в прошлом году бабушка умерла, и теперь девочка живет в приюте.
– А ее мать?
Ханс пренебрежительно, может быть, даже печально махнул рукой.
– Эта женщина десять лет назад привезла ребенка к своей матери и больше не показывалась.
– Больше не показывалась. – Я покачала головой и попыталась себе представить, что это должно означать.
– Звучит странно, я знаю. Никому не удалось выяснить, что с ней случилось, или где она прячется. Разве у нас такое было возможно?
– Она залегла на дно?
– Официально нет. Конечно, нет. Но ведь сколько народу пропало. Бегство. Тюрьмы. Твой Василий ведь тоже пропал. Похороны – это еще ничего не значит. С той женщиной я был едва знаком. Ведь даже здесь каждый год пропадает несколько человек. Бесследно.
– А как они на тебя вышли?
– Как? Где-то существует договоренность о содержании ребенка. Теперь они называют это признанием отцовства. Здесь, во время процедуры принятия, они спрашивали, есть ли у меня дети. Я не знаю, кто их на это навел. У кого-то же возникла такая идея.
– Может, ее больше не хотели держать в приюте. Это ведь стоит денег.
– Я скорее могу себе представить, что правительства пришли к согласию насчет того, что у ребенка еще есть отец, возможно, она даже сказала: хочу на Запад.
– Так вот просто?
– Теперь ей должно быть четырнадцать. В четырнадцать лет дети имеют право решать, чего они хотят.
– И теперь она приезжает?
– Теперь она приезжает.
В сумраке комнаты мне показалось, что Ханс прищурился, как будто в глаза ему попал песок. Однако слеза, которую, как мне казалось, я видела раньше, и о которой думала, что она пролита из-за меня и его сочувствия ко мне, бесследно исчезла. Он откинулся на спинку кровати, и так мы с ним сидели на этой кровати, каждый со своими мыслями.
– А знаешь, что люди говорят? "Она – шлюха". – Казалось, Ханс смотрел на меня, не мигая.
– Четырнадцатилетняя девочка? Кто это говорит?
– Не про нее, не про девочку. Это говорят про тебя.
– Про меня? Почему?
– Кто знает? – Его это словно бы не интересовало. Он встал и спросил, хочу ли я "нескафе", но я отказалась. Он вытащил вилку из розетки.
– Я думала, ты моложе.
– Это плохо?
– Нет, только странно. – Новость о том, что какая-то мать оставляет своего четырехлетнего ребенка и исчезает, меня взволновало. Чтобы не молчать, я сказала: – Может, она полюбила мужчину на Западе, хотела бежать и была застрелена.
Ханс опять сел рядом со мной. Он молчал. Все возможные мысли об этом, вероятно, уже тысячу раз приходили ему в голову, пока в один прекрасный день он не решил больше об этом не думать, ибо нельзя думать о том, чего не знаешь. На меня навалилась невероятная усталость.
– Когда она приезжает?
– На Рождество. – У него вырвался смешок, больше похожий на фырканье. – Совершенно чужая четырнадцатилетняя девочка. Она, наверно, будет спать здесь, внизу, а я наверху. – Ханс засмеялся, он хохотал, как ненормальный, и вместо того, чтобы при смехе выдыхать воздух, вдыхал его.
– Давай приляжем на минутку, – сказала я, думая только о том, чтобы растянуться на постели.
В такой кровати не хватало места на двоих. Каким худым ни был Ханс, наши руки лежали одна на другой, а одна моя нога все время падала с кровати. Дождь колотил по стеклам. Ханс больше не смеялся. Он лежал со мной рядом и, должно быть, думал о своей дочери. Наверняка он еще никогда в жизни не готовил еду для кого-то другого, не обустраивал дом. Возможно, он и в самом деле ждал. Ждал приезда дочери. Ждал от меня какого-то слова и действия. Непредвиденного события. Я прислушивалась к дождю. Ханс набрал в грудь воздуха. Это прозвучало, как вздох. Его затхлый запах перестал быть запахом несостоявшегося любовника, а стал запахом доброго друга.
– Твои волосы щекочут.
Возможно, инициалы В.Б. не имели отношения к Василию, а обозначали организацию, в которой работал Роте. "Клуб Медведей", тихо сказала я и рассмеялась. Отделение "Веселая Братия". Хансу явно стало неуютно. Он повернулся набок, чтобы выиграть еще немного места.
– "Клуб Медведей" – это ведь такая организация богатых людей?
– Не знаю.
– Да, я вспоминаю, что кто-то мне уже о нем рассказывал. – Ханс оперся на руку и смотрел куда – то мимо меня, словно я была не женщина.
– Мне пора.
– Погоди. – Ханс попытался удержать мою руку, но я встала.
Носки у Ханса были дырявые. В сумерках просвечивали его белые пальцы. Он встал и проводил меня до двери комнаты.
– Еще только половина шестого, а уже кромешная тьма. – Ханс потянулся рукой к выключателю. В электрическом свете он выглядел бледным.
Слова "вызывающий сострадание случай" вдруг зазвучали у меня в ушах совсем по-другому. Я сделала крюк, пошла к прачечной, – хотела посмотреть, на месте ли еще мое белье, которое я стирала утром. Запах выглаженного белья ударил мне в нос. Пахло приятно, почти горелым. У одной из дальних машин стояла фрау Яблоновска. Она напевала какую-то песню и одну за другой укладывала в небольшой кожаный чемодан выглаженные вещи.
– Вы недавно очень спешили, – сказала она, когда я встала с ней рядом.
– Разве вы мне как-то не рассказывали, что работали в химчистке?
– Да, работала, но недолго. Теперь я в ресторане быстрого питания. Если вы меня спросите, то я скажут делать вещи чистыми – лучше. Тебя хоть не понукают. Правда, зарабатываешь меньше. Зато голова свежая.
– Ха. Это как посмотреть, – вмешалась какая – то женщина, стоявшая возле умывальника и обернувшаяся к нам. Волосы у нее были собраны в пучок и затянуты сеткой. – У меня голова всегда свежая. И живот тоже свежий. Было бы лучше, если бы женщинам не приходилось делать такую работу. Да. Сколько времени у нас тут орали до хрипоты, что надо отменить недостойную человека работу. Да, а пока они не могли вдоволь наговориться, мы отрабатывали свою смену.
– Вы позволите? – Рыжеволосая женщина протянула руку у меня перед носом и взяла стиральный порошок.
Открылась дверь, и Ханс перешагнул порог. Увидев меня, он повернулся и исчез.
– Ага, этот старается ничего не упустить, – сказала женщина с пучком, стоявшая возле умывальника, – меня нисколько не удивило, что он – агент "Штази". Он с самого начала показался мне очень странным, – шныряет тут и сует свой нос во все углы. Куда ни глянь – всюду он, как все равно мебель.
Мне кровь ударила в голову, я закашляла и повернулась к стене. Кашель не проходил, грудь у меня сводило судорогой, диафрагма и кожа на реб– pax едва не лопались, все мои внутренние органы, казалось, сорвались со своих мест. Фрау Яблоновска хлопала меня по спине.
– Я недавно к вам заходила, потому что… – Но мой кашель перебил ее, а похлопывание по спине превратилось в поглаживание, она гладила меня по спине.
– Что вы сказали? Сколько времени, как он тут окопался? Два года? – Женщина с пучком подошла к рыжей, которая стояла в углу, держа под краном кусок ткани, странно поблескивавший серебром. – Целых два года, этот паршивый клоп?
Рыжеволосая кивнула.








