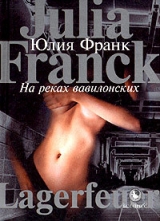
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Ежи вздохнул.
– Почему ты всегда так громко вздыхаешь? – спросила я: я не хотела слышать, как он вздыхает.
Ежи опять вздохнул.
– Прошу тебя, не надо. – Я крепко держала его за руку.
– Я не вздыхал, я стонал. Не зря же я здесь. Когда стонешь, легче дышать. – Ежи рассмеялся. – Что это такое? – Он испуганно посмотрел на наши руки, изо всех сил отдернул свою руку, а я раскрыла свою. В ней лежали его состриженные ногти. Желтые полумесяцы. Я кивнула ему и надела шубу. За многие годы, пока ее носила сначала моя мать, потом я, блеск меха потускнел. На постели у Ежи остались черные волоски. Одной рукой я собрала их с одеяла в комок, другой опять сжала пальцы Ежи.
– Тебе чего-нибудь хочется? – Я погладила его холодный блестящий лоб.
– Чтобы ты ушла. – Ежи повернул голову к окну. В стекле отражались кровати семи обитателей палаты. Я отпустила его руку.
Когда я отворила дверь в коридор, белокурая медсестра стояла спиной ко мне в нише перед большой двустворчатой дверью, ее волосы переливались в зеленоватом свете, горевшем над запасным выходом, – она поправляла белье у себя под халатом.
– Добрый вечер, – приветствовала я ее.
– И вам того же, – пробомотала она, наклонившись и подтягивая чулки. Мне ничего не оставалось, как пройти по коридору и спуститься по лестнице с липкими перилами. Внизу, в вестибюле, было маленькое кафе, но оно уже закрылось, иначе я бы там присела, съела бы мороженого на палочке, а еще выпила бы горячего какао. Напоследок, как каждый вечер, взяла бы с полки зеленую бутылочку лимонада и промочила бы горло сладким напитком. Последние капли вылизала бы из горлышка бутылки кончиком языка.
Огни в кафе были погашены, свет виднелся только над холодильным прилавком и над кассой. Через толстое стекло слышался рокот холодильника. Ноги у меня отяжелели. Язык во рту казался каким-то мохнатым, я еще чувствовала вкус кофе, который сестра давеча предложила мне выпить вместо Ежи. Я попросила два дополнительных куска сахару. Снизу в коридоре раздался какой-то скрип. Слышалось равномерное постукивание дерева о дерево. Уборщица орудовала в коридоре шваброй, которая попеременно, то слева, то справа, стукалась о плинтус, потом скрипела тележка, когда эта женщина подвигала ее немного вперед. Сама не зная зачем, я по одной из задних лестниц опять поднялась на второй этаж. Напротив некоторых дверей на подоконниках стояли подносы с тарелками и чайниками. Чтобы меня не застукали поблизости от двери в палату Ежи, я пошла по коридору в другую сторону. Могла бы открыться какая – нибудь дверь, и вышел бы кто-то из вречей. Я бы его остановила и спросила, как обстоят дела у Ежи. У больничных врачей мысли блуждают где-то далеко, но отвечают они всегда что-то вроде: "К Рождеству вы сможете забрать вашего брата домой". Ради этой надежды мы и приехали сюда, в ФРГ, и указали в документах мнимых немецких предков, исключительно ради этого. Бумаги стоили дорого.
Впереди открылась дверь одной из палат, сестра толкнула ее локтем и вынесла из палаты поднос. Она поставила его на подоконник, наклонилась над ним и подняла какую-то крышку. Тонкими пальцами вытащила она из миски горсть виноградин и сунула их в карман халата. Потом вскрыла какой – то пакет, закинула голову назад и выпила содержимое пакета. На меня она внимания не обращала. Мне хотелось, чтобы из той или другой двери вышел врач, и я могла бы его расспросить. Но за то время, что я ходила взад-вперед по коридору, ни один врач показаться не изволил. Устав ждать, я потуже затянула на голове платок.
Из-за моросящего дождя машины ехали медленно. В двухэтажном автобусе сидел целый школьный класс с коньками. Вода еще не замерзла, вероятно, ребята ехали на каток с искусственным льдом. Они толкали друг друга в бок, иногда указывали и в мою сторону, но я смотрела в окно. Один мальчик сказал другому, чтобы он присматривал за бабкой. Поскольку, кроме двух учителей и детей, в верхней части автобуса больше никого не было, то мальчик, очевидно, имел в виду меня. Он открыл пакет с леденцами, и они рассыпались по автобусу. Дети кинулись подбирать с полу конфеты в сверкающих обертках. Я неспешно наклонилась и подобрала одну конфету, которая подкатилась прямо к моей ноге;. Конфета была мягкая, она прилипала к зубам и к нёбу.
Одна мысль о том, чтобы поехать прямиком в лагерь и уговорить отца поужинать, внушала мне тревогу. У меня не было денег, в моем кошельке лежала только монета в две марки, на всякий пожарный случай.
Сойдя с автобуса на Мариенфельдер Аллее, я перешла на другую сторону улицы к небольшому супермаркету фирмы "Эдека". Я стала просматривать журналы, пока одна из продавщиц не сказала мне, что я сперва должна купить их, а уж потом читать. Я остановилась перед полкой с хозяйственными товарами и сравнила две открывалки для бутылок. У одной из них была пластмассовая ручка, и стоила она дороже. Посуда для вечеринок – тарелки из прессованного картона и белые пластмассовые стаканчики – показалась мне слишком дорогой при таком ее качестве. Вдруг музыка смолкла, громкоговорители запыхавшимся голосом возвестили: "Уважаемые покупатели, пожалуйста, подойдите со своими покупками к кассе. Через несколько минут мы закрываемся".
Было без чего-то шесть, я поставила пустую корзинку для покупок в башню из таких же корзинок и опять вышла под моросящий дождь.
Снаружи лагерь выглядел, как современная крепость. Оранжевые уличные фонари освещали новое здание, гладкий фасад был усеян маленькими окнами. В эти часы большинство обитателей лагеря находилось в своих квартирах. Они ужинали. Тарелки у них были белые, у чашек по бокам красовались маленькие розочки. Чайники были из серебристого металла.
В проходной меня остановил привратник. Это был новый привратник, которого я видела впервые.
– Вы куда?
– Я здесь живу.
– Ваша фамилия?
– Яблоновска. Кристина Яблоновска.
Он порылся в ящике с картотекой, пожелал увидеть мое удостоверение личности.
Я не без гордости показала ему удостоверение, выправленное по всей форме. Его украшала цветная фотография. В отделе регистрации мне объяснили, что я могу изменить имя, по меньшей мере, его написание. Молодые люди это делали. Но, перешагнув за пятьдесят, я считала себя слишком старой для таких перемен. Имя "Кристина" казалось мне вполне подходящим.
Привратник пожелал узнать, что у меня в пакете.
– Этим еще никто не интересовался, – ответила я и добавила: – Там грязное белье моего брата, он лежит в больнице, и я его навещала. – Привратник кивнул.
Потом я пошла своей дорогой, мимо первых двух блоков, второй поворот и наверх. Влажный воздух на лестничной клетке отдавал человеческим запахом.
Прежде чем войти в нашу комнату, я заглянула в кухню. Пластиковая облицовка навесных шкафов, видимо, должна была напоминать дерево; плита и мойка были такими же. Холодильник был пуст – кто-то опять стибрил мои запасы.
– Кристина! Кристина! – Голос отца глухо донесся до меня из нашей комнаты, как будто, несмотря на свою тугоухость, он услышал, как я тихонько вошла в квартиру, как будто он меня учуял или часами ждал моего появления и время от времени выкрикивал мое имя. Я пыталась отдышаться.
Отец лежал на кровати, как Обломов на печке. В темной комнате я услышала скрип двухъярусной металлической кровати и повернула выключатель. Казалось, что с сегодняшнего утра, когда я оставила отца в одиночестве, он не двинулся с места.
– Вот и ты, наконец. – Он повернулся набок, чтобы лучше меня видеть. – Принесла мне что – нибудь попить?
– Лимонад. – Я достала из сумки бутылку и поставила ее на столик, находившийся между двумя двухъярусными кроватями. Сумку я повесила на спинку стула.
– Я его терпеть не могу, – сказал отец. Он произнес это с удивлением, пораженный, словно говорил такое в первый раз, и я не знала, что лимонад он не пьет.
Пробка отвинтилась не без труда, в носу защекотали пузырьки газа, – я глубоко вдохнула аромат сладкого лимона, потом поднесла бутылку ко рту и сделала основательный глоток.
– Эх ты, толстая девчонка, – ворчал отец у меня за спиной, а мне хотелось ему напомнить, что я уже старая, и ему должно быть безразлично, какая я – толстая или тонкая. Но я ничего не сказала. Моему отцу радоваться бы, что мы просто-напросто не бросили его в нашем большом доме в Щецине.
– Ты хорошенько объедала своего брата, вот почему он так болен.
Я уже давно не могла принимать всерьез слова отца. Он считал, что рак бывает от голода, – он-де заводится у людей, когда они недоедают.
Позднее я лежала на двухъярусной кровати под его койкой и глядела в темноту над собой. Слышала, как он тихо говорит: "Ну до чего же ты толстая девчонка!", и как еще прежде, чем отзвучит слово "девчонка", в горле у него начинает булькать какой-то странный смех, дьявольский смех, которым он хотел меня заколдовать и низринуть в ад. Ему что-то снилось, и он разговаривал во сне. Я лежала с открытыми глазами, когда дверь комнаты отворилась, и кто-то включил свет. Над собой я увидела металлические пружины и коричневый матрац в бежевую полоску. На какую-то секунду я усомнилась в том, что там, наверху, лежит мой отец, и что это он сейчас разговаривал. Я отвернулась к стене и воззрилась на крошечные пупырышки в масляной краске. Как раз на уровне моих глаз кто – то из прежних жильцов черным фломастером нарисовал мужской член. За последние недели я прихватила на работе кое-что из чистящих средств, сунула себе в карман и пыталась с их помощью удалить эту мазню.
– Из-звините, – пробормотал чей-то голос, – это был один из наших соседей, который явно ошибся дверью. Он ушел, а мне пришлось встать, чтобы погасить свет.
Джон Бёрд подслушивает собственную жену и выслушивает другую женщину
Еще из гаража, сквозь открытое окно, я услышал ее смех, потом посмотрел в щель между оконной рамой и гардиной: Юнис положила голые ноги на журнальный столик возле кушетки, телефонную трубку она зажимала между плечом и подбородком, свернутые в трубочку бумажные носовые платки были проложены между пальцами ног. Сегодня она сделала себе черные ногти. На столике перед ней лежала бумага. В правой руке у нее были сразу три карандаша. Юнис сидела ко мне спиной, она меня не видела. Мой ключ застрял в замке. Пришлось постучать. Смех у Юнис был резкий, казалось, из нее вырывается наружу нечто такое, что она удерживала в себе с трудом, – дикий зверь, пойманный зверь, и мне ничего не оставалось, как постучать посильнее, чтобы перестучать ее смех, пока я не услышал, как у меня за спиной закрывают окно, и краем глаза не заметил пожилую соседку, всего только тень, однако я знал, что она за мной наблюдает, даже если не понимает ни слова. Костяшки пальцев у меня болели, я закурил сигарету и нажал кнопку звонка. Юнис меня не слышала, она смеялась и говорила кому-то, что не может в это поверить, просто не может поверить – и все. Наверняка она говорила с Салли или с ее сестрой, она почти каждый день созванивалась с одной из них и уверяла, что скоро вернется, при этом иногда плакала; когда я приходил домой, она сидела на кушетке и плакала. Не далее как на прошлой неделе я ей сказал, что ей уже двадцать семь лет, и теперь она не обязана ждать, пока ее мать и я примем решение за нее, она может вернуться в Ноксвилл, когда ей только захочется. Своим взглядом Юнис резко оттолкнула меня. Как мне только могло такое прийти в голову, кричала она, я ошибаюсь, если думаю, будто она ждет чьих-то приказов. И она пнула ногой журнальный столик.
Однако сегодня она опять смеялась, да так громко, что не услышала, как я звоню и стучу, и мне пришлось звонить второй раз. Она хохотала безудержно и бездумно. Ключ был повернут, она заперлась изнутри; впустив меня, Юнис ответила по телефону и повернулась ко мне спиной. Она скрылась в большой комнате. Остался черный ноготь, приклеившийся к светлому ковру. Идя за ней следом, я тихо спросил, что можно поесть, но она, как и следовало ожидать, не отреагировала, а только опять рассмеялась в телефонную трубку, потом внезапно вскрикнула, указав на телевизор, у которого был выключен звук, и сообщила по телефону о том, что происходит на экране.
Раздеваясь, я сказал:
– Юнис, я пойду на кухню, – сказал не ей, а просто так, чтобы это было сказано. На кухне я достал из холодильника пиво и сунул в тостер подсохший ломтик хлеба. Она все смеялась и смеялась. Сравнение с диким зверем тут не годится, отметил я про себя, такое количество диких зверей в Юнис, наверно, никогда бы не поместилось, даже и один зверь не смог бы в ней обжиться, даже один. Я преисполнился глубокого спокойствия, удовлетворения. Вот я стоял и жевал черствый белый хлеб и говорил себе, что сам виноват – мне следовало непринужденно войти, похвалить ее маникюр или тех диких зверей, что выбегали на бумагу с помощью ее рук и цветных карандашей, были пленены ею на бумаге. Мне вспомнилось, что когда-то я держал в руках ее ступни, должно быть, много лет назад, – маленькие мягкие ступни. Однажды один ноготь у нее отклеился, и это было ей так неприятно, что она сразу же заперлась в ванной, чтобы приклеить его опять. Молочно-белые, мягкие ступни. Целовал ли я их? Я должен был поступать так, словно я – неотъемлемая часть ее жизни, часть той пары, которую мы тогда с ней составляли.
Я думал о том, когда именно у меня возникло это чувство – чувство, что я ей мешаю, словно инородное тело. Наверно, это началось, когда мы въехали в новый дом. Ее рисунки вызывали у меня раздражение. Вначале тигры у нее были пестрые, а бабочки – черно-белые, потом в мире татуировок пожелали видеть летучих мышей, и Юнис стала рисовать летучих мышей с крыльями тоненькими, как паутина, с лицами маленьких чертиков; в конце концов, возник спрос на эти ее рисунки, и независимо от того, какие мотивы должны были воплощать другие художники, Юнис могла рисовать, что хотела, и что бы она ни рисовала, люди желали увековечить это иглой на коже. Она рисовала драконов с кровоточащими крыльями, и я чувствовал себя повинным в этой крови; она рисовала леопардов, чьи белые глаза казались выколотыми, а зубы алкали растерзать не кого иного, как меня.
Она приоткрыла дверь на кухню, увидела, что я там, и снова закрыла дверь.
– Э-э, погоди! – Я открыл дверь опять, Юнис в недоумении оглянулась.
– Алло, – сказал я, но мой голос был более уверенным, чем я сам.
– Алло? – Она удивленно взглянула на меня, потом повернулась, и я пошел за ней по коридору к лестнице, которая вела на верхний этаж.
– Будем что-нибудь есть?
– Ох, я совсем забыла тебе сказать – мы приглашены в гости. Кейт с мужем устраивают прощальный вечер. Я думала, мы попозже пойдем туда, милый, – я уже купила цветы. К ужину ты бы все равно не успел. Кейт очень рада. И Том тоже. Они так ненавидели Германию и теперь очень радуются, милый. Они возвращаются домой. Ты знал, что они из Батон-Руж? И он, и она. По их говору не скажешь, что они с Юга. Представь себе: из Батон-Руж – в Берлин. Хуже, наверно, и быть не может. Так что я подумала, мы придем попозже и что-нибудь выпьем.
Юнис говорила, как заведенная, со скоростью Микки Мауса, и голос ее становился тем выше, чем скорее она говорила. Мне удалось схватить ее за руку, но она вывернулась.
– Пойду приведу себя в порядок, милый.
– Э, а ты уже ела?
– Ничего-то ты не замечаешь. Я с воскресенья ем только красное.
– Красное?
– Сначала ела зеленое, а теперь – красное.
– Я думал, это было в воскресенье, десять дней назад.
– Да, тому уже две недели, разве я тебе не говорила? Нет? Ладно, пойду приведу себя в порядок, милый.
Она меня называла "милый", словно это было имя или завершение ее высказывания. Точка. Милый. Она юркнула в ванную, неплотно прикрыв за собой дверь, так что я мог видеть в зеркало, как она выщипывает себе брови. Рядом с зеркалом она прикрепила скотчем листок бумаги и поминутно рисовала на нем черточку, вырвет у себя волосок – и рисует черточку, вырвет следующий волосок – и рисует следующую черточку.
Я допил пиво из бутылки.
– В чем дело? – Она воззрилась на меня из зеркала.
Я с улыбкой взглянул на нее.
– А улыбаться-то тебе совсем неохота, я ведь вижу.
– Сегодня у нас на контрольном пункте была одна женщина. Она не назвала нам причину.
– Я больше не желаю видеть твою деланную улыбку. Понял? Вид у тебя разнесчастный, а мне ты улыбаешься. – Лицо у Юнис вытянулось, она говорила почти не разжимая губ. – Можешь ты себе представить, каково это – жить с чужим человеком? – Она провела несколько черточек подряд. – Не можешь.
– Твои рисунки стали более крупными, – заметил я и подумал о той женщине, Нелли Зенф. Она не пожелала раскрыть свои политические принципы. Странная гордость. Хотя со дня подачи заявления на выезд она лишилась права работать. В имевшихся у нас документах значилось бесконечное множество возможных оснований для выезда. Ни одним из них она не воспользовалась.
– Ты рассуждаешь, Джон, о моих рисунках, как утешительно для тебя, что у меня такая профессия, при которой всё на виду, верно? Ты всегда знаешь, что я делаю. Всегда. – Юнис повернулась ко мне и посмотрела в глаза. – А я про тебя ничего не знаю.
– Юнис, ты все знала с самого начала.
– С начала – нет.
– С того момента, как я получил право тебе это сказать.
– Ха, с того момента, как ты получил право мне это сказать. Сказать, что я никогда больше ничего о тебе не узнаю. – Глаза ее наполнились слезами. – Тогда было уже слишком поздно.
– Слишком поздно?
Юнис оттолкнула меня в сторону и принялась опять искать в навесном шкафчике нужный ей крем.
– Я уже влюбилась. Слишком поздно, потому что я уже влюбилась. Как я могла догадаться, что ты не торговый агент, а? Я не была готова к тому, что в один прекрасный день ты скажешь:«Все это неправда. Я работаю на секретную службу, однако большего ты от меня никогда не узнаешь».
– Ты могла еще сказать "нет".
– Ты так думаешь? Но я этого не знала, понимаешь? И в это не верила. Да и как было поверить? Как можно себе представить, что никогда о человеке ничего не узнаешь?
– Это же неправда, Юнис. Ты знаешь, что я люблю яичницу-болтунью, знаешь, что я люблю Эллу Фицджеральд. Все, что свойственно лично мне, ты знаешь.
– Что свойственно лично тебе? А что это такое? – Юнис кричала, чтобы показать свое отчаяние, но хоть я и видел его, оно меня не трогало. Или трогало гораздо меньше, чем тихое отчаяние этой Нелли Зенф, которую я, как мне показалось, понял, когда она не захотела дать нам нужные сведения.
– Кончай со своими упреками, Юнис. Это же ни к чему не приведет.
Юнис плакала. Потом она высморкалась и посмотрела на меня так, словно решила быть храброй.
– Милый, не мог бы ты снять с веревки белье, бледно-розовое?
Я вышел на террасу и обследовал белье, которое повесил сегодня утром. У Юнис было исключительно бледно-розовое нейлоновое белье с кружевами. Стирать его в машине, по ее мнению, было нельзя, так что ее нейлоновое белье стирал я. У нее была аллергия на моющие средства. Моего предложения стирать белье без этих средств она не приняла. И вот я годами стирал ей белье, стирал безучастно, однако с сознанием исполняемого долга, словно был обязан оказывать ей эту услугу. Обязан из-за всего, в чем за время нашего брака вынужден был ей отказывать, и еще более – из-за всего, в чем не был вынужден отказывать, но что, однако, предоставлял ей все в меньшей степени.
– Вот. – Я протянул ей белье.
– Как ты считаешь, надо мне выпрямить волосы? – Рука ее скользнула по бумаге, я увидел голову милого котеночка и удивленно склонился над рисунком. Она отвела руку в сторону, обнажив вскрытую грудь котенка. Его внутренности свешивались наружу и текли ко мне.
– Они ведь лежат у тебя такими красивыми волнами.
– Как у всех негров, милый, они в мелких завитках, как у всех нас. Волны – это нечто другое. – Она провела рукой по волосам и проверила в зеркале, действительно ли я смотрю на нее. Потом ее взгляд снова обратился на хорошенького котенка и его почти бесконечные внутренности.
Если бы Нелли Зенф проявила хотя бы некоторую готовность к сотрудничеству, она могла бы сразу получить полноценный статус беженца. Однако у нее явно были причины не открывать нам причин. Это вызывало недоверие.
– Может, их покрасить?
– Покрасить – это хорошо, – откликнулся я и задумался: возможно ли, чтобы Нелли Зенф больше знала о местонахождении своего Василия, чем мы.
– В рыжий цвет, потому что я ем только красное?
– В рыжий. – Как правило, мы знали о допрашиваемых больше, чем они сами. Лишь иногда, лишь в случаях, подобных делу Нелли Зенф, казалось, что мы могли бы выяснить что-то еще.
– Джон, ты что, спятил? Ты меня совсем не слушаешь. В рыжий! Это я в шутку сказала. – Юнис зарыдала. – А ты повторяешь: в рыжий. Как это будет выглядеть? Чернокожая женщина с рыжими волосами?
– Извини, Юнис.
– Извини, извини. Тут совершенно не за что извинять. – Она схватила меня, пытаясь вытолкнуть из ванной. – Радуйся, что я еще здесь. Но это уже ненадолго, слышишь, совсем ненадолго. – Из глаз ее хлынули слезы. – И что у тебя тогда будет за жизнь, милый?
– Ты остаешься только ради меня. – Это я констатировал, а не спрашивал. Она хотела, чтобы я был ей благодарен, чтобы я ее любил за то, что она остается. Я стоял в дверях и наблюдал, как она повернулась и, плача, продолжала рисовать своего котенка.
– О чем ты думаешь?
В зеркало я увидел, как Юнис улыбается своему котеночку и пририсовывает ему лапу, раздирающую грудь. Милый котеночек с глазами навыкате сам вырывал у себя кишки.
– Черт, я только что наложила тушь на свои новые ресницы. – Юнис высморкалась в кусок туалетной бумаги. – Ты помнишь еще, милый, самое начало, когда мы только приехали сюда? – Юнис рыдала и как будто бы пыталась взять себя в руки. Она боролась, она хотела, чтобы я видел ее борьбу. У Нелли Зенф внутренняя борьба была едва заметна. Сегодня мы прессовали ее восемь часов. Она становилась все более немногословной и, в конце концов, попросила сделать перерыв, – хотела выйти, чтобы взять обещанные ей талоны на еду и обеспечить питание своим детям. Однако выйти она все равно не могла. Выходить имеют право только те, кто принят. А ей еще надо было в разговоре с нами доказать, что она достойна быть принятой. О ее детях во время процедуры приема в дневные часы заботился священник. Только когда эта процедура будет закончена, – вероятно, с понедельника, – ее детям разрешат ходить в школу. Юнис рыдала.
– Сердце мое. – Я положил руки на ее крепкие плечи, но Юнис с силой сжимала в руках карандаш, словно это была ее единственная опора.
– Чьи сердца тебя интересуют? – Юнис нарисовала, как котенок берет в лапы свое сердце. Вдруг мне пришло в голову, что она может нарисовать меня.
– Вчера я посмотрела на счетчик пробега в твоей машине. – Юнис недовольно глядела на меня.
– Зачем?
– Хотела знать, далеко ли тебе ехать на работу. Как будто я не знаю, куда.
– Так ты за мной шпионишь? Ты, моя собственная жена?
Юнис начала новый рисунок. Она всхлипывала.
– Меня это просто бесит, неужели ты не понимаешь? Я не знаю ничего, решительно ничего. Двести семь километров за один день. Как они могли набежать в городе? Вот чего я не могу понять. Может, ты каждый день переезжаешь границу и работаешь там, за бугром?
Я покачал головой. Юнис сыпала словами, как одержимая. Мне иногда неделями казалось, что она забывает обо мне и моей профессии. Но у нее все чаще случались вспышки вроде этой. Вспышки безмерного недоверия.
– Может, это счетчик пробега не в порядке, – сказала она тихо, почти про себя.
– Перестань, Юнис. – Я взял ее за плечи.
Юнис покачала головой.
– Как ты ко мне прикасаешься, Джон, будто щипцами, как если бы у меня была заразная болезнь, – ты сам этого не чувствуешь?
Я в досаде опустил руки. Юнис перевернула листок с котенком, и я разглядел на обороте двух змей, пожиравших друг друга. В пасти у каждой был хвост другой. Юнис приклеила рисунок к стене и взяла баночку с тональным кремом.
У Нелли Зенф двое детей, а их отец, небезызвестный Василий Баталов, три года назад якобы покончил с собой.
Я потрогал волосы Юнис – они были жесткие и колючие.
– Так будет красиво, – сказал я и распустил ей волосы.
Свой отъезд Нелли Зенф объясняла только одним – желанием переменить место жительства. После смерти Баталова у нее было такое чувство, что жить там дальше она не сможет. Она была словно погребена заживо со всеми своими воспоминаниями. Поэтому она и хотела перебраться сюда. Чтобы избавиться от воспоминаний. Однако подобные причины особо уважительными не считались. Она могла бы сказать, что ей повезло, если бы ей вообще позволили здесь остаться и стать гражданкой Федеративной Республики Германии.
– Готово. Мы можем идти. – На мой вкус, Юнис слишком накрасилась.
– Я устал, ты раньше должна была мне сказать, что мы приглашены в гости.
Юнис вытаращила на меня опухшие глаза.
– Ах ты, пес проклятый! – Она растерянно мотала головой. Такой резкий переход от глубокой печали, проникновенной жалости к себе и отчаяния к ярости не был для меня новым. Я пожал плечами.
Она захлопнула дверь у меня перед носом, и я услышал, как она там ругается. "Устал – от чего?" Я подошел к лестнице; она все еще кричала. "Речь всегда идет только о тебе. Твоя большая неведомая жизнь, твой аппетит, твой секс, твой сон. Ну и важная же ты персона!" Она пронзительно взвизгнула. Эти упреки были мне хорошо знакомы. Но я от усталости едва держался на ногах. Задавая переселенцам те или иные вопросы, мы должны были быть начеку, чтобы не проговориться. Воздерживаться от намеков, от проявлений сочувствия, – это утомляло.
Неужели Юнис не замечала, что мы с ней вот уже несколько месяцев не спим вместе? Откуда же тогда этот упрек насчет секса? Я был весьма далек от мысли о том, чтобы к ней прикоснуться. Все в ней превратилось в рутину, в серию картин, которые я, наверно, однажды видел, видел много лет назад, но рассматривал не слишком пристально и не оживлял в памяти, потому что знал, какова рутина на ощупь, да и потому, что любопытство у меня пропало. Я медленно спустился по лестнице. Телевизор работал без звука. Я узнал нашего президента, который посетил Берлин и хотел здесь, в ходе торжеств, завербовать еще несколько избирателей. Программа телевидения лежала развернутая на столе. По каналу "Вест III" как раз должна была начаться передача под названием "Что может сделать мужчина?" Немцы вновь открыли для себя нашего социального обличителя и моралиста Элтона Синклера. Это могло бы меня заинтересовать, однако объявленную передачу я не поймал. Наш президент приветственно махал рукой, и на экране реяли американские флаги. Прошло немного времени – и я закрыл глаза и опять увидел перед собой эту Нелли Зенф. Редкое имя – Нелли. Ей оно подходит. Как она сегодня в задумчивости сунула руку под бретельку платья, потерла белую кожу ключицы и забыла прикрыть рукой рот, когда зевала. Что-то такое в этой женщине зацепило меня с самого начала, едва я вошел в комнату, где меня ждал с ней Гарольд. В воздухе носился фруктовый аромат, сладкий и щекочущий. Позднее, когда я проходил мимо нее, я заметил, что этот аромат источала она.
Хлопнула дверь. Юнис шла наверху по коридору. Я испортил ей вечер. Насколько я помнил, она еще никогда не ходила в гости одна. Видимо, она ушла в спальню и там заперлась. На моей половине кровати наверняка лежали большие листы бумаги, – захоти я войти в спальню и лечь спать", я должен был бы отодвинуть их в сторону.
Я откинул голову на спинку кресла, глубоко вздохнул и правой ногой сбросил левую тапку, а левой – правую. Я наслаждался тишиной и уединением. Мне недоставало уединения. При том, что я был достаточно одинок, мне редко доводилось оставаться одному. Я получал удовольствие от поездок на машине по утрам и вечерам, однако выдавалось немало дней, когда я охотно остался бы в доме один. Как только я увидел Юнис с одним из ее рисунков, я впал в немилость. Возможно, эта Нелли Зенф действительно верила, что ее друга заманило на тот свет одно-единственное черное мгновение или несколько мелких ссор, возможно, случившихся между ними. По какому поводу могли они ссориться?
В нос мне ударил запах травки. Резкий запах. Я понятия не имел, откуда у Юнис это зелье. Мне она не сообщила. Да и что толку было это знать. Уже больше года она почти каждый вечер сидела там, наверху. Рисовала и заполняла нашу спальню дымом. Может, она думала, что меня это злит? Минуты, когда я считал, что было бы хорошо для нее и приятно для меня, если бы она наконец вернулась в Ноксвилл, случались все чаще.
Мы предлагали Нелли Зенф сигареты "Мальборо" и "кэмел". Но эта Зенф, Нелли Зенф, даже не курила. Мы предлагали ей сигареты, надеясь, что это облегчит дело, но она отказалась. Она встала и попросила разрешения сходить в туалет. Ее запах сводил меня с ума. Мне пришлось извиниться и на несколько минут выйти. Когда я вернулся, она уже опять сидела на своем стуле, потягивая кока-колу из банки, которую мы ей дали, и так пристально взглянула на меня, словно догадывалась, какое впечатление производит. Хотя было бы странно, если бы она об этом догадывалась. В таком неприкрашенном виде, в каком она была, с волосами, небрежно подколотыми на макушке. Это открывало во всей красе ее шею, белую, длинную, безупречную шею. Ее кожа слегка поблескивала. Когда Гарольд вышел из комнаты, чтобы принести новый термос с кофе, я сел на стол напротив нее и сказал:
– Вы больше не боитесь, фрау Зенф, верно? Вы знаете, что здесь вы в безопасности?
– В безопасности? – Она недоуменно смотрела на меня, потом тихо добавила: – Дело совсем не в этом. – Она покачала головой, и мне показалось, что легкое дуновение ветра донесло ее запах до самого моего носа. – Знаете, что мне как-то раз сказала одна женщина? "На всем свете нет более безопасного места, чем коммунистическая страна с такой стеной, как наша". Нелли рассмеялась. Ее смех, легкий и взрывной, грянул так неожиданно, что я испугался.
Неодолимое влечение заставило меня встать, скорее машинально, чем осознанно, я обошел стол, остановился перед нею и сказал:
– Мы желаем вам только добра. – Мой голос звучал хрипло.
– По-коммунистически, – рассмеялась она. – Представьте себе, моя мать действительно думает, что это неотделимо от коммунистических идей. Можно подумать, страна развивалась согласно ее революционным представлениям, – смех в ее голосе постепенно улегся, – при том, что это было социалистическое развитие, верно же, а социализм не имеет ничего общего с коммунизмом.
Сначала я усердно кивал в ответ, потом покачал головой.
– Нет, не имеет.
Я услышал, как у меня за спиной открылась и закрылась дверь. Гарольд поставил на стол кофейник-термос и протянул Нелли шоколадный батончик "Марс".








