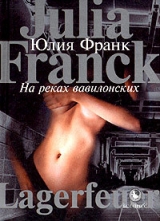
Текст книги "На реках вавилонских"
Автор книги: Юлия Франк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
– Увы, глухой.
Отец качал головой, пытаясь попасть в такт музыке и не услышал меня, во всяком случае, сделал вид, что не услышал.
– Волосы и зубы надо беречь до конца своих дней, – сказала я ему в спину. Но отец по-прежнему сидел, как статуя, словно я срамила его и докучала ему не только своими вопросами, но и своим суеверием, от которого он обычно так легко отделывался улыбкой: если чьи-то волосы или зубы попадали в руки постороннего человека, это приносило несчастье. Даже птица, пронесшая в клюве волос через полсвета, отовсюду приманивала несчастье, и я думала о том, как в детстве пыталась представить себе, что это такое – несчастье, и как многократно произносила это слово, чтобы уловить его значение хотя бы по одной из возможных интонаций. Это мне не удалось. Тем не менее, я непрестанно думала о птице, которая назначит мне счастье или несчастье, если я беспечно пущу на волю ветра хотя бы один свой волос.
Под кроватью стояли мои резиновые сапоги. Ходить в них теперь стало слишком холодно. На складе поношенных вещей при прачечной меня неделями обнадеживали. Разве у меня нет родственников, которые могли бы мне что-нибудь прислать, спросила тамошняя сотрудница, и как у меня обстоит дело с остальными предметами одежды? Не хочу ли я поискать где-нибудь еще? В следующий раз непременно что-нибудь найдется, просто мой размер – тридцать четвертый – попадается не так часто. При этом я уже два раза наблюдала, как эта женщина совала в руки матерям и детям сапоги, которые с большой вероятностью были именно моего размера. Конечно, я не возмущалась, в конце концов, те люди были немцы, пусть из Восточной Германии, но все-таки. В последний раз сотрудница склада поставила передо мной пару резиновых сапог тридцать шестого размера. В одном сапоге пожелтела подкладка. Пахли они неприятно и непривычно. Однако в двух парах чулок и хорошенько укутав ступни газетной бумагой, я кое-как могла в них ходить, хотя при ходьбе они издавали неприятный шорох. Только носить эти резиновые сапоги с меховой шубой я не хотела. Даже если отец пристально меня не разглядывал. Одна мысль о том, что кто-то из людей на улице, в автобусе или в метро увидит меня в меховой шубе и резиновых сапогах, вгоняла меня в краску.
Не ради отцовской челюсти, а ради собственного успокоения отправилась я на поиски его зубов. Он ведь недавно что-то сказал о бюро по трудоустройству? С чего бы это он забрался так далеко? Бюро по трудоустройству находилось в последнем блоке домов, на южной оконечности лагеря. Хотя свет в этой конторе еще горел, на звонок мне никто не открыл. На каменных плитах перед входом я обнаружила сперва одно, а потом и второе темное пятно. Я пошла по этим кровавым следам, которые уводили в сторону от дороги, и в свете фонаря заметила что-то темное. Немногие засохшие стебли растений обледенели, красные пятна замерзли тоже. Чтобы удобнее было искать в полумраке, я сняла перчатки и стала голыми руками шарить по земле. Снег летел мне в лицо. Я высунула язык и поймала крупные хлопья. От долгого сиденья на корточках у меня затекли ноги, так что я стала на колени.
Метр за метром обшаривала я землю. Находила окурки сигарет, металлические пробки от бутылок: – вмерзшие в обледеневшую почву, они поблескивали, словно монеты. Обертки от конфет. Хорошо еще, что в лагере не разрешали держать домашних животных, иначе мне пришлось бы лавировать между кучками кошачьего и собачьего дерьма. Я доползла до куста, на ветвях которого вместо листьев росли ледяные капли. Под моими коленями ломалась и хрустела ледяная оболочка листьев. Что – то врезалось мне в тело, я нащупала осколки, отбросила их в сторону и продолжала осторожно двигаться на коленях. Моя рука нащупала что-то мягкое, кусок резины, нечто грязно-белое, вытянутое в длину и напоминавшее воздушный шарик без воздуха. Я бросила его и повернулась направо, где валялись осколки. Там я обнаружила нечто похожее на следы крови. Однако быть в этом уверенной при таком слабом свете я не могла. Не исключено, что это была моя собственная кровь, просочившаяся через брюки из ссадин на коленях. Из – за множества осколков пришлось снова передвигаться на корточках. Под резиновыми сапогами что – то тихо скрипело и потрескивало. Несмотря на холод, мне казалось, будто от сапог исходит резкий запах. Передо мной лежала пачка сигарет. На белой упаковке я могла четко разглядеть красные следы. Пачка была еще наполовину полна, я положила ее обратно и ощупью двинулась дальше. Зубы, подумала я, и сделала усилие, чтобы больше ничего не чувствовать и не видеть, – только зубы, я должна их найти. Позади себя я услышала смех и обернулась. В нескольких метрах от меня, где кончался свет фонаря, стояли двое детей и по меньшей мере один из них смеялся.
– Вы не хотели бы мне помочь? – крикнула я им по-немецки. Голос у меня звучал, как воронье карканье.
– Что?
– Не хотите ли вы мне помочь?
Дети подошли ближе. Девочка захихикала. Мальчик пальцем поправил на носу очки и наклонился ко мне.
– Что вы ищете?
– Ах, это вы, я вас издали даже не узнала.
Дочка Нелли протянула мне свою маленькую руку.
– Почему вы ползаете по земле?
– Зубы, мой отец потерял свои зубы.
– Потерял? – Катя захихикала.
– У него вставная челюсть? – Алексей с любопытством смотрел на меня сверху.
Я оперлась рукой о землю и встала.
– Недавно тут дрались мужчины. – Малышка нагнулась и подобрала обертку от конфеты. – Дрались они не на шутку.
Только сейчас я заметила, что у толстых и наверняка тяжелых очков Алексея недостает левой дужки. Между оправой и ухом у него была натянута резинка.
– Да, несколько человек все время кричали: "Перестаньте, перестаньте!", – но они и не подумали перестать. – Катя сунула руки в карманы куртки.
– Да. – Больше я ничего не нашлась сказать. Чтобы не замерзнуть, я сделала несколько шагов. И дети сразу же пошли за мной следом. Мы двинулись вдоль дороги, слева от меня – девочка, справа – мальчик.
– Один из них был ваш отец, – сказал Алексей, и я почувствовала, что он старается не встречаться со мной глазами, возможно, от смущения, а может быть, из учтивости. Возможно, он и сестре своей сказал: "Один из них был ее отец".
– Вы из Советского Союза? – спросила меня девочка.
– Нет, из Польши.
– Ах так, из Польши. – В голосе девочки звучало разочарование.
– Дело в том, что наш отец был из Советского Союза. А Польша находится между, верно? Между нами и Советским Союзом? – Алексей запнулся.
Мне пришло в голову, что по крайней мере для него раньше так оно и было.
– Значит, вы оба говорите по-русски?
– Нет, – разом сказали они, как по команде.
Я открыла дверь нашего подъезда.
– Вы, кажется, недавно сказали, что ищете зуб? – Алексей вынул руку из кармана куртки.
– А-а, – протянула я. Что подумают обо мне дети, если я буду так упорно искать зуб?
– Ну, ничего. Вы все-таки можете его получить. – Мальчик протянул мне руку. – Пожалуйста.
– Ах… – Зуб у него на ладони выглядел красиво, сиял белизной, как жемчужина; я взяла его и поднесла к свету. – Где ты его нашел?
Алексей опять поправил очки на носу и пожал плечами.
– Я точно уже не помню, где-то здесь, в подъезде.
– А я нашла деньги, – сказала Катя, – в общей сложности три марки двадцать четыре пфеннига.
– Правда?
– Да, но я думаю, что должна оставить их себе. Я же не знаю, кто их потерял.
– Я тоже нашел деньги, но всего одну монетку. Этот зуб я вам дарю, вы можете оставить его себе. Вдруг его все-таки потерял ваш отец, а вы этого просто не знаете.
Этот маленький мальчик говорил как взрослый мужчина. Мне было смешно. Но я серьезно пожала плечами и поблагодарила его за подарок. Мы поднялись на второй этаж.
Дети стояли передо мной как вкопанные и не сводили с меня глаз.
– Я живу здесь.
– Да мы знаем, – ответила девочка, – мы ведь у вас уже были.
– Вы хотите что-нибудь получить за этот зуб?
– Что-нибудь получить? Ах, нет. Нет, нет.
– Ну, тогда большое спасибо. – Я отперла дверь квартиры.
– Хм… – Они все еще стояли как вкопанные.
– Спокойной ночи, – пожелала я им и захлопнула дверь у них перед носом.
В комнате у нас все было по-прежнему. Отец лежал на своей койке, немец на другой, оба спали. Я включила свет и осмотрела зуб. Чем дольше я на него глядела, тем более мне становилось не по себе. Он выглядел слишком белым и чистым для зуба более чем семидесятилетнего возраста. Какое несчастье могло постигнуть человека, который держал в руках зуб незнакомца? Я открыла окно и, хорошенько размахнувшись, выбросила его в темноту.
– Какой сквозняк, черт возьми, кто тут еще открывает окно? – Отец укрылся одеялом с головой; он что-то бормотал себе под нос.
– Гасите свет! И чтоб было тихо! – рявкнул немец со своей койки.
Я погасила свет. Быстро сняла юбку и блузку, натянула через голову ночную рубашку и только уже под одеялом изловчилась стащить с себя нижнее белье. Одеяла были тонкие, но теплые, они немного кусались через пододеяльник. Я представила себе: несчастьем для отца могло быть, если бы он умер. Но как смерть могла быть несчастьем, если сам он ее не чувствовал? Прежде чем уснуть, я изобретала одно за другим несчастья, которые могли постичь моего отца и меня.
Нелли Зенф слышит то, чего ей слышать не хочется
Я проснулась от какого-то хруста. Было еще темно. Дети спокойно спали в кровати напротив. Катя протиснулась вниз, в кровать Алексея, это она делала часто с тех пор, как мы оказались здесь. Уверяла, что наверху, одна, она замерзает, и что воздух там слишком спертый. Хруст и шелест надо мной звучали так, будто их производил мелкий грызун. Было еще настолько темно, что я с трудом различала белые полосы матраца надо мной. Пружины тихо взвизгивали, и я чувствовала, как нечто поворачивается набок, чтобы удобнее было грызть. Однажды я провела с Василием несколько недель в доме на Крайдезее. Над нашей кроватью по вечерам и на рассвете кто-то что-то грыз и хрустел. Василий говорил: это куница что-то грызет, чтобы выжить, как все звери, глодает изо дня в день одну мышиную косточку за другой. Тем не менее я ничего так сильно не хотела, как чтобы этот хруст прекратился.
Будто бы случайно я стукнула о спинку кровати, на секунду стало тихо, потом, наверно, пришел черед мышиного спинного хребта, – глоданье невозмутимо продолжалось.
Я часто просыпалась рано утром, когда Сюзанна возвращалась домой. Она старалась не шуметь, но я сразу слышала, как она поворачивает ключ в замке, а иногда следила за ее тенью: она входила, первым делом снимала сапоги, из одного что-то вынимала – пачку денег, которые пересчитывала и потом убирала в свой ящик общего шкафа, лишь после этого снимала кожаную куртку и в конце концов, слой за слоем, отделяла от себя одну вещь за другой, пока в темноте не начинало светиться ее нагое тело, и я могла разглядеть очертания ее прически. Глаза мои привыкли к темноте. Чаще всего она собирала волосы в "конский хвост". Раньше пяти утра она никогда не приходила, изредка – после половины седьмого. Потом она забиралась в свою кровать и что-то грызла, грызла с таким упорством, будто от этого зависела ее жизнь.
Когда звонил будильник, я слышала громкий шелест и шуршание, потом хруст умолкал, возможно, она поспешно прятала мышиные головы и другую еду, металлические пружины еще раз взвизгивали, и я могла быть уверена: она повернулась к стене. Я влезала в тапочки и шла в туалет.
Вернувшись, я зажгла маленькую настольную лампу, которую купила на часть пособия, выданного при въезде. На одном из четырех стульев, стоявших вокруг нашего стола, между обеими кроватями, лежала ее одежда. От нее шел запах дыма и пота, на спинке стула, сверху, висело нижнее белье, – почти прозрачные трусики ярко-розового цвета, в тон к ним – бюстгальтер с кружевами и мелкими блестками по верхнему краю. Под бельем я заметила нейлоновые колготки и что-то вроде жакета с оторочкой из искусственного меха. Миниюбку из голубого кожзаменителя она положила на сиденье стула, под ним стояли сапоги, образовавшие вокруг себя небольшую лужу. Как всегда по утрам, я взяла свое полотенце и прикрыла им вещи на стуле, с тем чтобы потом, когда дети выйдут из дома, незаметно его убрать.
– Подъем! – Катя крепко обнимала Алексея за шею; оба повернулись ко мне спиной.
– Эй, вам пора вставать, – я говорила шепотом, чтобы не разбудить Сюзанну.
– Я не хочу.
– Я не могу.
– Нет, можете, вы должны. – Я подняла Катю с кровати и посадила на стул. Она была легкая и тоненькая, как мальчик. На раскрасневшейся от сна щеке остался отпечаток волос. Глаза у нее слезились, веки покраснели. Она кашляла и шмыгала носом. Пустым взглядом она неподвижно смотрела на стол. Чтобы не говорить ей "прикрой рот рукой", когда она зевнула, я заслонила ей рот ладонью.
– Вот твои вещи, Катя. Ты, Алексей, одевайся тоже. Я приготовлю вам завтрак.
– Я не голодна. – Катя вытерла слезинку в уголке глаза, шмыгнула носом и запустила в него палец. На столе лежала ее школьная тетрадь. Я ее открыла и принялась листать. Сплошные красные штрихи и завитушки доказывали, насколько слабо еще усвоила Катя западную каллиграфию.
– Нет, вы должны что-нибудь съесть, – сказала я и начала читать, что было написано красным карандашом под Катиными строчками. "Большое "L" мы пишем с завитушкой, так же, как "S" и "V". Большое "Z" отличается от малого черточкой посередине. До завтра переписать три предложения двадцать раз". Катя этого требования не выполнила. Следующие строчки остались пустыми.
– Нет, я не буду. – Катя дрожала.
– Тогда я вам дам что-нибудь с собой. Иди оденься, неудивительно, что ты так простужена. – Я листала тетрадь дальше. Каждое, пусть даже вполне четко написанное слово, было снабжено сверху, снизу и по бокам красными дополнениями.
Катя тяжело вздохнула.
– Здесь, в этих краях, они повсюду рисуют завитушки.
– В этих краях?
– Ну да. Здесь, в школе, – сказала она и зевнула, широко раскрыв рот. Я опять прикрыла его ладонью. Она отняла мою руку. – Не надо. Твоя рука как-то странно пахнет.
– Ну, это, наверно, не имеет большого значения, раз тебе все равно ставят неплохие отметки.
– Да, но строчки получаются не такие, смотри – ка, у нас в прописях пропечатаны совсем другие линии, а пузо буквы "в" торчит вот здесь, наверху, А не там. Смотри.
– Да это же не так важно, Катя. – Я закрыла тетрадь.
– Конечно, важно. Ты не смотришь как следует. – Катя выхватила у меня тетрадь и засунула ее в свой школьный ранец.
На кухне повсюду, на всех столах и полках стояли бутылки наших соседей, подошвы у меня прилипали к полу. Сигареты гасились о крышку консервной банки, в мойке стояла мутная жижа, и в ней тоже плавали окурки, из которых высыпался несгоревший табак. Я выудила из этой жижи бумажный пакетик с надписью "Глинтвейн – пряная смесь". Кухня была вся такая грязная, словно вчера я не надраила ее сверху донизу.
– Мама, эти ботинки мне уже не годятся. – Катя вошла на кухню следом за мной и подняла ногу. – Вот, потрогай.
– Как это – вдруг, ни с того, ни с сего?
– Я ведь расту.
– Мы получили эти ботинки всего две недели назад.
– Три недели, самое малое. Кроме того, по бокам у них дырки, вот, вся подошва отстает. Смотри. У меня целый день мокрые и холодные ноги.
– А ты забываешь с вечера набить в ботинки газетную бумагу. – Я погладила Катю по голове, она еще не причесалась. – Я же тебе показывала, как это делается. Неудивительно, что утром они у тебя еще мокрые.
– Бе-бе-бе-бе-е-е, – заблеяла она и, выходя из кухни, сказала: – У других ребят настоящие зимние сапоги, знаешь, на таких толстых подошвах, у девочек – красные или голубые.
– Хм, сапоги из пластика.
– Да, они подходят к школьным ранцам.
– Мы об этом уже говорили.
– Но если… – казалось, Катя размышляет, – …если ты не можешь их купить, то лучше мы тогда надолго откажемся от карманных денег.
В кухню вошел Алексей.
– Мама, а, мам!
– Вы получаете пятьдесят пфеннигов, на них я вам сапог не куплю.
В глазах Кати затаился вопрос о школьном ранце, а его я хотела предотвратить.
– Всё невозможно пестрое и из пластика. Огненно-красные ботинки из полиэстера, светло-желтые школьные ранцы из полиэстера, небесно-голубые куртки из полиэстера. Скажите, Бога ради, зачем вам понадобились именно такие ранцы? Вид у них абсолютно дурацкий. У всех ребят одинаковые ранцы – это же смешно. Испуганная своим миссионерским порывом, я прибавила: – У вас есть нечто особенное, настоящее… – и тут мне стало стыдно.
– … старые ранцы с Востока. – Алексей смотрел на меня с состраданием. – Заметно, мама, что ты уже вышла из детского возраста.
В подобные моменты я спрашивала себя, откуда у Алексея такая невозмутимость по отношению ко мне. Его сострадание выглядело почти высокомерным. Катя и Алексей избегали встречаться со мной глазами.
– Что, ребята над вами смеются?
Алексей наклонился и стал зашнуровывать ботинки. Катя закатила глаза, как будто с моей стороны было особенно бестактно задавать такой вопрос. Ни он, ни она не стали бы жаловаться из одного только тщеславия, – значит, над ними смеялись другие дети. Какую-то секунду я не была уверена, правильно ли мое предположение, вдруг этот их намек – просто выдумка, чтобы убедить меня в необходимости купить им массу новых вещей. Катя спросила только про сапоги. Другие пожелания сохранялись лишь в моей памяти, отдаляя нас друг от друга и заставляя моих детей казаться мне чужими. Я ненавидела это отчуждение, но чем сильнее я его ненавидела, тем более чужими они становились. Я не любила их, когда они выпрашивали у меня новые ранцы или модных тряпичных зверюшек. Я не могла исполнить ни одного их желания. Да больше и не хотела этого. Их жадность сделалась мне противна.
"Если ботинки станут малы, то мы сходим еще раз на вещевой склад, сдадим их туда и посмотрим, не найдутся ли там другие".
Алексей сел на пол в кухне и стал привязывать оборвавшийся кусок шнурка к тому, что остался в ботинке. Очки съехали у него с носа и упали на пол.
– Сегодня во второй половине дня мы с тобой идем к глазному врачу. – Я подобрала очки. Хорошо еще, что у них были такие толстые стекла – благодаря этому они не разбились. Я надела оправу Алексею на нос и потянула за резинку. Она была такая старая и пересохшая, что едва держалась. – Потом ты получишь новые очки.
– Это необходимо?
– Да, это необходимо.
Хлопнула какая-то дверь, в проеме показался сосед с пивным брюшком, сорочка прикрывала лишь верхнюю половину этого брюшка. Я предпочла не смотреть на его кальсоны и на то, что из них выглядывало, и помогла Алексею. Сосед стоял возле двери в кухню и растерянно качал гловой.
– Послушайте, каждое утро у вас здесь какой-то крик. Вы что, потише не можете? Не даете человеку глаз сомкнуть. – Продолжая ворчать, он пошел в туалет, откуда понеслись громкое пуканье и непрерывная брань.
В дверях я обняла обоих детей.
– Ты доведешь Алексея до его класса?
– Само собой.
Я смотрела им вслед, пока они спускались по лестнице. За окном лестничной клетки было еще совсем темно. На площадке Алексей повернулся ко мне и помахал рукой. Казалось, его взгляду известно об отчуждении, о моей ненависти, о стыде, который вызывал у меня этот взгляд. Он махал мне и улыбался, будто испытывал ко мне сострадание.
– Будьте здоровы оба!
– Мама? – вдруг тихо произнес Алексей.
– Да?
– Что такое "чума восточная"?
– Во всяком случае, не болезнь. Чума бывает бубонная или легочная, но южной или северной чумы не бывает. – Я невольно рассмеялась.
– Зато есть восточная, – сказал он, но тут Катя утащила его вниз по лестнице.
Когда я опять вошла в квартиру, у меня перехватило дыхание. Воздух был такой спертый, словно здесь спали не десять, а сто человек, словно на дворе не была зима, словно здесь совсем не было окон, которые можно было бы открыть. Разило алкоголем и потом множества людей, человеческими испарениями. И все же в этих дебрях присутствовал и наш запах, неразличимый, но реальный.
Чтобы не будить Сюзанну, я решила пока что уладить кое-какие дела, справиться насчет работы и спросить у привратника, нет ли почты.
Позднее пошел снег. Снежинки, приплясывая, взлетали вверх. На все кругом ложился тонкий белый налет. В такие дни свет исходит не от неба, а от земли. Я стояла в прачечной, вынимала из машины мокрое белье и перекладывала его в центрифугу, как вдруг распахнулась дверь и в прачечную влетела Катя.
– Пойдем скорее, Алексею плохо!
– А почему вы не в школе? – спросила я. Было одиннадцать часов, а занятия в школе заканчивались только в половине первого.
– Скорее, мама, поторопись, белье подождет.
Я поспешила за Катей сквозь снежную стену. Перед дверью нашего дома стоял Алексей – его рвало на оледеневшую ржавую сетку для вытирания ног.
– Учительница сказала, что ему надо час полежать, и позвала меня, чтобы я присмотрела за ним в медпункте, но ему было так плохо, мама. И тогда мы убежали.
– Убежали? Просто взяли и убежали из школы?
– Мама, эти ребята на большой перемене сбили его с ног и стали топтать. – Катя едва переводила дыхание, она села возле брата и обняла его. – Мама, сделай же что-нибудь, разве ты не видишь, как ему плохо?
– А где его очки?
– Понятия не имею, наверно, еще валяются на школьном дворе.
Алексей вытер себе рот рукавом, лицо у него было совсем белое.
– Велосипед на морде.
– Что? – Видимо, мысли у него путались.
– Это они его так дразнили: у восточной чумы на морде велосипед.
– Пойдем. – Я взяла Алексея на руки и понесла по лестнице наверх. Его рвало через мое плечо – он просто сплевывал немного жидкости.
– Ну вот. Теперь ты немножко полежишь.
– Нет, мама, нет, все кружится, нет, мама, нет, не уходи.
– Я позову врача, малыш, с тобой побудет Катя.
Я выбежала из квартиры и понеслась к привратнику.
– Да?
– Врача, пожалуйста, вызовите врача, с моим ребенком произошел несчастный случай.
– Несчастный случай?
– У него наверняка сотрясение мозга. Скорее!
– Что за несчастный случай? И где?
– Пожалуйста, просто вызовите врача. Блок "Б", второй подъезд, второй этаж.
– Не хотите взять носовой платок? – Он протянул мне в окошко бумажный носовой платок, и я пошла обратно. Я шарила взглядом по снегу слева и справа, но белизна обжигала глаза. Возможно, очки он потерял все-таки уже в лагере. Я вытерла слезы. До меня донеслась песня:Where we sat down, ye-eah we wept, when we remember Zion.Наверху, возле открытого окна, стояла женщина и протирала стекло. Неудивительно, думала я, что дети так обороняются, с самого начала к ним в класс поступают ребята, которые в скором времени уйдут, бывает, что они пробудут две недели, бывает, что четыре месяца, а встречались и такие, что пробыли два года. Никто не знал, сколько времени это продлится. Несомненно было одно: долго они здесь не пробудут. Так почему не выступить против непрошеных гостей, против этого постоянного вторжения извне, против чужаков, у которых другой выговор, другие любимые словечки, которые не носят зимних спортивных костюмов, ходят в других сапогах и с другими ранцами, – не такими, как у остальных ребят в классе? Их подначивали, и надо же – они поддавались, за короткое время удавалось их запугать, и они больше не приходили. Просто исчезали. Такие переживания дети в этой школе испытывали изо дня в день, из года в год. Женщина наверху, мывшая окно, высунулась далеко наружу, ей хотелось очистить щеткой край карниза. Мы следим за тем, чтобы в одном классе училось одновременно не более троих детей из лагеря, сказала мне директириса, когда я принесла ей документы и копии школьных свидетельств моих детей. В последние годы стало легче, в конце концов, теперь из Восточного блока приезжает уже не так много народу. Но трудности все равно есть, особенно с поляками и с русскими. Ведь я понимаю, что она имеет в виду, – ну, там посмотрим.
Тогда я над этим не слишком задумывалась, я все еще мало что понимала. В противоположность моим детям, я почти не имела дела в людьми снаружи, вне лагеря. Разве что с продавцами из магазина напротив. С продавцами мебельных салонов, куда я иногда по утрам заглядывала, хоть и не искала ничего определенного. Между тем я уже давно заметила, что мои дети не обзавелись друзьями, и что никто не приглашает их даже на день рождения. Катя уверяла, что все дело тут в маленькой белокурой кукле, которой у нее нет, так же, как нет и принятой здесь одежды, к тому же она не ходит, как ходят многие девочки из ее класса, в расположенную поблизости евангелическую церковь, чтобы брать уроки игры на флейте, да у нее даже и флейты нет, а о Боге уж и говорить нечего. Алексей, напротив того, однажды пришел домой и между прочим рассказал, что его сосед по парте Оливье сегодня ему объяснил, почему не может пригласить его к себе на день рождения. Причин было две. Во-первых, дети из лагеря накогда не приносят стоящих подарков, а только так, ерунду; во-вторых, другие ребята удивятся, если он пригласит кого-нибудь такого. В утешение сосед подарил Алексею двух резиновых медвежат. Я бы все равно к нему не пошел, сказал Алексей, но не захотел мне открыть, почему.
Наверху, в комнате, на кровати Алексея сидела Катя и мурлыкала модную песенку. Алексей заснул.
– Ты видела, как его сшибли с ног? – Я опустилась на колени и стала поглаживать плечо моего сына. Катя мурлыкать не перестала, на меня не посмотрела и покачала головой.
– Так может быть, он просто упал.
Она пожала плечами, продолжая мурлыкать.
– Катя, пожалуйста, перестань напевать эту песню, я ее уже слышать не могу – куди ни придешь, только ее и играют.
– Ласкает слух, мама.
– А не может быть, что он упал?
– Не думаю, ребята выли и орали, они встали в круг, и когда я туда протиснулась, то увидела, как они на нем стоят.
– На нем стоят?
– Ну, они все его прямо топтали.
– И ты так просто, так спокойно это говоришь, словно это вполне нормально. Ты сказала, топтали?
– Мамочка, ну не волнуйся ты так, этим делу не поможешь. – Моя десятилетняя дочь делала вид, будто с такой ситуацией сталкивается каждый день, и что если толпа ребят на глазах у всех топтала Алексея, то волноваться тут не из-за чего. Невольно мне вспомнился сострадательный взгляд Алексея, и я поймала себя на мысли, что его школьные товарищи, пожалуй, считали, что он бросает им вызов. Восьмилетний мальчик, который читает газету и полдня сидит, уткнувшись в книжку, – детям это должно было казаться странным. Алексей многое знал лучше, чем люди, его окружавшие. Он этим не гордился, но и не делал из этого тайны и, случалось, поправлял кое-кого. Разумеется, он не делал разницы между взрослыми и детьми, между родными и чужими. Иногда я называла его всезнайкой, выскочкой и задавакой. Но в ответ он только мягко и снисходительно улыбался. Своих мнений он никому не навязывал.
– Пить хочу. – Алексей открыл глаза.
– Вода из-под крана, другого ничего нет, чай кончился. Катя, сходи принеси стакан. – Я наклонилась и потрогала его – нет ли температуры, но рука у меня была такая холодная, что даже металл кровати показался мне теплым.
– Нет, мама, воды не надо.
– Хорошо. Катя, сбегай, купи шипучки, в виде исключения.
– Нет, я не хочу. – Катя сидела, как прикованная.
– Шипучки не хочешь?
– Я не хочу ее покупать, мама, не хочу идти в магазин.
– Ну вот, на тебе. Катя, не ломайся. Ты разве не видишь – Алексею плохо. Сейчас приедет врач, а ты сходи купи шипучки. Кошелек лежит на столе. Возьми оттуда марки.
– Нет.
– Можешь ты мне, наконец, открыть этот секрет: почему ты уже несколько дней упорно отказываешься ходить в этот магазин?
– Я не хочу.
Послышалось завывание сирены, оно приближалось, становясь все громче. Я встала и поглядела в окно. Между жилыми кварталами лагеря не было улицы, а только проезды, машина "скорой помощи" просто въехала на заснеженную лужайку и остановилась у наших дверей. Сюзанна села в кровати и стала протирать глаза.
– Что-нибудь стряслось?
– Так, ничего, – ответила я и направилась к входной двери, чтобы открыть раньше, чем звонок успеет всех перебудить. Вошли два санитара и выслушали наши с Катей объяснения насчет того, что могло случиться с Алексеем.
– Хорошенький несчастный случай, – сказал один из них прежде, чем отважился взглянуть наверх, на голые ноги Сюзанны; потом он уложил моего сына на слишком большие для ребенка носилки. Сюзанна молча наблюдала за происходящим. Вы тоже можете поехать, пожалуйста, сказали они нам, но в машине есть только одно место.
Они дали мне адрес больницы и вынесли моего ребенка из квартиры. Я смотрела, как внизу они вдвигают носилки в кузов. Потом уложила его вещи: пижаму, зубную щетку, тапочки. Всё уместилось в одном пакете. Плюшевого ослика, которого я два года назад сунула ему в школьную сумку и который сопровождал нас всю дорогу, вплоть до лагеря, Катя взяла под мышку.
– Как ты думаешь, захочется ему рисовать? – Катя хотела вложить в пакет цветные карандаши.
– Не знаю, боюсь, что для этого он слишком плохо себя чувствует.
– Мы можем купить ему фломастеры.
– Катя, мы не должны все время что-то покупать, пожалуйста, не своди меня с ума.
– Ты считаешь, дело плохо?
– Хорошего, во всяком случае, мало. Вероятно, у него сотрясение мозга, при этом полагается просто несколько дней спокойно полежать в постели.
– А тебе не будет холодно? – спросила Катя, наблюдая, как Сюзанна надевает мини-юбку.
– Нет, вообще-то не холодно, – она натянула чулки, которые я все время ошибочно принимала за колготки, и пристегнула их подвязками под мини-юбкой.
– А они у тебя порвались?
– Кто – "они"? – Сюзанна оглядела свои ноги.
– Ну, эти – колготки.
– Ерунда, это не колготки.
– А что же тогда?
– Чулки с подвязками, – Сюзанна захихикала и подняла молнию на сапоге.
– Я бы наверняка замерзла. – Катя сочувственно смотрела на ноги Сюзанны. – Ты куришь?
– Нет, по-настоящему не курю. Так, изредка.
– От тебя прямо дико пахнет сигаретами.
– Это пахнет от моих вещей. – Сюзанна опять засмеялась и погладила Катю по голове. – Пойди – ка лучше позаботься о брате.
В больнице нам предложили сначала подождать на первом этаже, в комнате для посетителей. Прежде всего там хотели выяснить, какое обследование сейчас проходит Алексей и в каком отделении он находится. Немолодая женщина сидела на скамейке под окном и листала журнал. Она показалась мне знакомой, я немного наклонилась, чтобы лучше разглядеть ее лицо, и узнала фрау Яблоновску, польку из нашего дома, которая, когда бы я ее ни встретила на лестнице или в прачечной, пыталась втянуть меня в разговор о моих "ах, таких прелестных детях". Она подняла глаза.
– Привет.
– Ах, привет. – Она уронила журнал на свою меховую шубу и с удивлением посмотрела на нас, потом снова развернула журнал и стала его читать, а может, рассматривать черно-белые фотографии. Ее отец был тот самый сумасшедший танцор, возможно, с ним что-то случилось, и она его ждала. При наших последних встречах я не изъявляла желания с ней беседовать.








