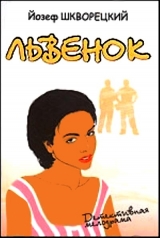
Текст книги "Львенок"
Автор книги: Йозеф Шкворецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Наконец я остановился перед дверью, на которой была укреплена от руки надписанная карточка «Л.Серебряная», и позвонил. И она мне открыла.
Вроде бы я не обладал так называемым «женским глазом», но то, как была одета Ленка, замечал всегда. Словно это было абсолютно неотъемлемо от ее природной красоты. На этот раз она стояла передо мной в серо-белой полосатой юбочке в складку и васильковой кофточке с пуговицами цвета меда. Вихрастую головку окружал венец из солнечных лучей, похожий на барочный нимб, потому что за девушкой светился в открытом окне западный горизонт, а над ним сияло красное, как на картинах сюрреалистов, солнце. Глаза у нее были неподвижные, темные, и в зрачках отражался я, трусливый служитель разврата.
– Здравствуйте, – произнес я кротко.
– Ах, это вы?
– Я.
– Что ж… – Она оглянулась через плечо, точно ища что-то в комнате.
– У вас гости?
– Н-нет, – нерешительно ответила она, стоя в дверях и не трогаясь с места. Возле ее стройной ноги возник черный кот Феликс и поднял на меня свои желто-зеленые глаза.
– Не сердитесь. Я должен был увидеть вас.
– Ну да. – Она сглотнула, и по нежной смуглой коже на шее прошла волна. – Но… лучше бы вам сюда не приходить.
– Я понимаю. У меня даже не хватит смелости сказать вам, что я зашел только выпить чашку кофе. После того позора…
– Забудьте об этом, – сказала она, по-прежнему не двигаясь. Ни намека на желание пригласить меня войти, но и ни намека на желание захлопнуть дверь у меня перед носом. Кот двинулся обратно в прихожую и остановился перед узкой дверью, ведущей скорее всего в туалет. Он принюхался к ее нижнему краю, а потом поднялся на задние лапы и попробовал дотянуться до дверной ручки. Это ему не удалось, а барышня Серебряная на помощь не поспешила.
– А… – проговорил я, – а не мог бы я… действительно всего на минутку…
– Лучше не надо.
Мы оба все еще не двигались, ни я, ни она, и вместо взаимного притяжения, объединявшего нас силовым полем тогда на водной станции, теперь между нами возникла невидимая стена; высокая, с торчащими наверху осколками стекла, через которую я, городской мальчишка, никогда не мог перелезть. Слышалось только тихое царапанье кошачьих коготков. Мне пришло в голову, что я нахожусь в положении типичного нищего. На лестничной площадке, у двери.
– Вы получили мои письма?
– Получила. Только больше мне не пишите.
– Ладно. Не буду.
Мы опять умолкли.
– Ну, до свидания, – сказала Серебряная.
Но мне хотелось продлить эти минуты, пускай они и были донельзя мучительны, пускай я и занимался сейчас самоистязанием.
– Погодите. Мне бы следовало уйти. Я знаю. Но я… я просто…
Я не знал, что сказать, я только хотел продлить это изгнание из рая… ведь, несмотря на поражение, я все-таки оставался профессионалом и знал, что торчать тут больше не нужно, не нужно слать письма, быть остроумным или искренним, простым или сложным, подбивать под нее клинья с помощью поэзии или вести себя, как пьяный извозчик. Я проиграл прежде, чем успел оглядеть поле битвы, проиграл по всему фронту.
И все-таки мне страшно не хотелось уходить с ее порога, на котором она стояла сейчас в своих черных лодочках.
– …просто… – это я продолжал начатую фразу, – я пойду, потому что вижу, что… что ничего не поделаешь.
– Ничего, – откликнулась она тихо.
– Я только хочу, чтобы вы поверили: то, что я писал в этих письмах, это правда, хотя и… ребячество, конечно. Вы должны знать, что если вам когда-нибудь… если я могу для вас что-нибудь…
Я почувствовал, что краснею. Подобного рода сентенции я в последний раз адресовал той девочке с косами, и было мне тогда шестнадцать, и я совершенно серьезно думал, что ее косички навсегда связали меня с любовью. И вот теперь я опять повторял те же слова, ничего более умного мне в голову не приходило.
– Я вам верю – и не сердитесь на меня.
Она чуть качнула дверью, но я все еще был не в силах прислушаться к голосу рассудка. Я продолжал блеять:
– И еще… вы должны знать, что… что я изменился… с тех пор… как познакомился с вами.
– Вы не изменились, – сказала она. – Вы просто влюбились. Обычно это делает человека лучше.
– А разве это не значит измениться?
– Я не настолько хорошо вас знаю, чтобы сказать, значит или не значит. Я же не в курсе того, как вы себя ведете в других местах.
– Как это – в других местах?
– Ну, в обычной жизни. На работе, с людьми… и вообще. Жизнь куда больше, чем… чем только это.
– Для меня сейчас жизнь – только это.
Чернота глаз ненадолго закрылась веками.
– Не сердитесь, но мне кажется, вы не изменились.
– Почему?
– Жизнь для вас всегда была… только вы сам.
Я уронил голову на грудь. Уставился на маленькие остроносые, модные туфельки на пороге. Они не шли девушке, которая говорит, как проповедник, но именно это несоответствие между красотой стриптизерки и пуританскими разговорами и составляло своеобразие барышни Серебряной. Своеобразие, взявшее в плен меня, прославленного пражского Казанову из «Т-клуба».
– Вы касаетесь философских вопросов, – сказал я. – Неужели кто-то представляет жизнь иначе? Например, вы?
Я заглянул в ее глаза, которые между тем вновь открылись. Они сияли черным светом на медовом овале ее лица, являясь эстетическим завершением ряда медового цвета пуговиц на синей кофточке. И по-прежнему – солнечный нимб вокруг головы. И сумасшедший саксофон в судорогах хард-бопа.
– Наверное, я представляю ее так же, – признала она задумчиво. – Но человек должен стараться. Стараться видеть жизнь глазами других.
– А вы стараетесь увидеть ее моими глазами?
Теперь настала ее очередь опустить голову. И, когда она ее опустила, из-за нее выглянуло красное солнце, до половины проглоченное горизонтом.
– По-моему, стараюсь. Только…
Она помолчала.
– Только… только вы не один, понимаете?
Понимаю ли я? Понимаю. То есть предполагаю. И страшусь этого. Но кто же… И тут, точно подчиняясь замыслу некоего злокозненного режиссера, который изначально стилизовал эту трагикомедию под катастрофу, не разрешавшуюся катарсисом, откуда-то из недр квартиры раздался придушенный кашель. Глубокий мужской кашель неизвестного, который долго подавлял его, но так и не сумел справиться с физиологической потребностью. Кот перепугался, отскочил от узкой двери, которую долго и безуспешно пытался открыть, и помчался в комнату. Кашляли в помещении за этой дверью. То есть в сортире.
Все сразу прояснилось, и я быстро окинул взглядом прихожую. На вешалке висел какой-то пестрый предмет, светившийся в желтых тонах вечера ярко и крикливо, точно мазня на ярмарочной карусели. Зелено-синяя клетчатая кепка. Но этого же просто не может быть! Так вот что означало отсутствие многочисленных чужих подписей на открытке из Доке! Невероятное стало фактом. Кепка! Кепка, которую я в последний раз видел на Вашеке Жамберке в тот самый день, когда он залил барышню Серебряную рыбным соусом.
Жизнь – это всегда трагедия, но отдельные детали она заимствует у комедии. Так говорил Шопенгауэр. Не то чтобы я его знал. Я знал, Бог весть откуда, именно эту одну цитату. Я, великий покоритель женщин, хнычу, как шестнадцатилетний юнец, на пороге неприступной девицы, а из клозета меня слушает этот полудурок Вашек Жамберк! Что, он ищет тут утешения после того, как у Веры его вышиб из седла знаменитый режиссер Геллен? Или же за столь короткий срок Вашек сумел стать неотразимым похитителем женских сердец?
Кот осторожно вернулся в переднюю. Снова принюхался к нижнему краю двери. Я до боли прикусил себе губу. Только теперь до меня начал доходить весь ужас моего поражения.
– Я понимаю, – ответил я на последний вопрос кофейной розы. – Прощайте.
– Прощайте.
Я развернулся и помчался вниз по ступенькам. Барышня Серебряная закрыла за мной дверь.
На улице я сразу направился к Нусельской лестнице. Это был последний раз, кувшиночка, клянусь тебе, последний! Кто бы я ни был – наглец каких мало или относительно нормальный человек, одно я сделать смогу. Признать свой проигрыш. И плевать мне на твою тайну! Больше ты меня не увидишь, даже если мне суждено загнуться от любви.
И похоже было, что я таки загнусь.
Глава тринадцатая
Конец Блюменфельдовой
До утра я не загнулся. Просто проснулся с тяжелой головой и с ощущением равнодушия, накрывшего собой весь мир, а не только предметы, не имевшие ко мне прямого отношения. В редакции я появился как раз вовремя. Заседал редсовет. Первый пункт повестки дня: Цибулова. А я-то уже и думать забыл про эту непростую писательницу. Что ж, пришлось вспомнить. Вообще-то изначально планировалось посвятить ее рукописи все заседание целиком. Но теперь она фигурировала на нем лишь как один из пунктов повестки. Я начал подозревать, что за время моего отсутствия произошел один из диалектических скачков.
Лучившееся самоуверенностью лицо шефа подтвердило мою догадку. Он приветствовал меня более чем радушно: «A-а, наш поручик! Салют-салют – из всех орудий салют!», после чего открыл заседание в старой доброй манере рабочего единодушия.
Короче, мне было совершенно ясно, что здесь все опять по-прежнему. По идее, у меня камень должен был с души упасть, но безразличие перевесило. Вместе с кувшинкой, которая меня отвергла, я потерял страх испортить свою репутацию и готов был голосовать один против всех, если бы дело дошло до голосования. Несчастная любовь и окутавшее меня полнейшее равнодушие – весьма плодородная почва для самоубийственных поступков.
Но по мере того, как я переводил взгляд с одного члена редсовета на другого (воинственной мордашки Даши Блюменфельдовой я не увидел: начинающие редактора на это сборище небожителей не допускались), мне становилось все яснее, что никакое донкихотство тут не поможет. Не было в мире такой силы, которая смогла бы одолеть этих людей.
Именно равнодушием выделялся я сейчас из рабочего коллектива, который в прошлом сделал меня свидетелем стольких триумфов и стольких расправ, – и внезапно я словно взглянул вокруг глазами постороннего наблюдателя, и все до единого сидевшие тут показались мне смешными, а деяния их, которые они насовершали в большом количестве, необъяснимыми sub specie aeternitatis[40]. Зачем они делали это? Ради пустышки под названием карьера и положение в обществе? Ради сытного житья? А может, от страха, от мелочной злобы, неуместной для носителей столь славных имен, заменивших собой после краха религии в сознании по обыкновению плохо информированного народа святых? Или же, наконец, все их деяния основывались на некоей наивной догматичной вере, для меня совершенно непостижимой из-за фантастического переплетения непорочного зачатия и черных глубинных грехов, хотя я и был много моложе их всех и куда менее образован и значителен, чем они? Разумеется, я тоже исповедовал эту веру; давнее дело, связанное с судьбой манифеста Коцоура, оказалось для меня суровой школой. Но именно потому, что я относился ко всему этому как к набору ритуальных клише, я не мог понять, каким образом эта самая вера могла зарождаться в их мозгах и сердцах и, с неподдельным энтузиазмом сливаясь в нечто единое, избегать тех опасностей, при столкновении с которыми потерпели неудачу и doctor angelicus, и другие исполины многовековой отчаянной битвы.
Оставалось предположить, что их вера была такой же силы – и именно это они утверждали. Они сидели сейчас здесь, а я проводил им нечто вроде невеселого смотра – и внезапно все они разом лишились ореола народных любимцев и стали напоминать экспонаты паноптикума. Обожаемая читателями деятельница литературы, которая когда-то, причем не то чтобы очень давно, распорядилась, сидя за этим самым столом, приступить к ликвидации книг умершего поэта, оставшихся на складе национализированного издательства. Почему? Да наверное, потому, что ей захотелось публично и даже post mortem[41] разорвать опасные связи с другом, имевшим несколько иные воззрения. Рядом с ней, по часовой стрелке, сидел признанный народом писатель, который во время оккупации создавал сценарии для немецких кинокичей; в одном из таких фильмов играла актриса, в которую в студенческие годы я был даже заочно влюблен. После войны этой актрисе запретили сниматься, однако же сам лауреат перешел на сценарии о героях сопротивления, о потрясающе героических героях, чья слава, вполне сравнимая со славой индейца Виннету, осенила своим краешком и находчивого киносценариста. А вот литературовед, интересы которого менялись с годами от «Романов крови и почвы» и «Мотивов культа Девы Марии в современной чешской лирике» до «Теории отражения в творчестве современных марксистских эстетиков». Рядом с ним – знаменитая писательница: основываясь на ковбойских впечатлениях юности, она всю жизнь воспевала простой народ с каменистых склонов Орлицких гор – и во все времена регулярно пожинала лавры, ибо режимы могут меняться, но любовь этих режимов к простому народу с каменистых горных склонов остается неизменной. А вот и ее сосед, дружески улыбающийся ей бывший сюрреалист, который теперь старательно рифмует на темы «пламя, знамя, революция с нами», пока его товарищи (за исключением теоретика их сюрреалистической группы, совершившего самоубийство) добывают уран. А подле него – литературный критик, человек, подобный гостии в состоянии непрерывной транссубстанциации. И все готовы дать конкретное эстетическое обоснование заключенному в строгие рамки всеобщей директивы представлению товарища Крала об эстетике.
Шеф говорил что-то о проблеме под названием «Цибулова» и о том, что в связи с рукописью возникли кое-какие неясности, вот даже и товарищ академик Брат поначалу высказывался в поддержку – но вместо академика возле стола был только пустой стул: командировка оказалась длительной. Его книга о покойном поэте была антологией литературных мошенничеств, однако же, как некогда «Сумма теологии» Фомы Аквинского, она возлежала рядом с Библией, причем на всех алтарях без исключения. И, словно в подтверждение верности диалектического учения, рядом с пустым стулом клевала носом престарелая лингвистка, чья книга, в отличие от памфлета Брата (но с его непосредственной подачи), была отвергнута и отвергалась до тех пор, пока под общим нажимом официальных органов лингвистка не отказалась от нее самолично, безмерно просвещенная некоей брошюрой (я совершенно не сомневался в дьявольской природе подобных нажимов, хотя в силу собственной ничтожности пережил лишь их слабое подобие, когда арестовывали Коцоур а).
Будь на моем месте иной, более серьезный и не столь хулигански настроенный наблюдатель, он скорее всего увидел бы в этих людях духовную девальвацию эпохи, проституирование наук и поэзии. А может, он попытался бы их понять, поверить в анахроническое первохристианство их вер и догм. Но я был всего лишь литературный безобразник со счастливым юношеским прошлым, в котором я по-настоящему любил поэзию, и потому я видел перед собой только сборище стариков, прекрасных в давние времена, но позже полезших туда, где одна за другой вырастали все новые виселицы. А я, хотя, бесспорно, и был безобразником, никогда не восхищался виселицами. Никакими. И я приносил, пускай даже понукаемый запятнанной совестью и абсолютно не рискуя, крохи с богато сервированного стола страдающим Коцоурам, той, другой, стороне, некогда тоже прекрасной, которая, быть может, и не оправдала возложенных на нее надежд, однако же сохранила чистые руки; абсурдную верность не себе, но искусству. И вместе с тем я знал, что искусство, когда дело касается вечности, важнее чистых рук, что остаются книги, а не руки, что будущее – это не теолог, а литературовед. Правда, пока все они были еще живы, и я тоже. Сам я был от искусства далек, так, рядовой член союза писателей, а эти люди не олицетворяли для меня только свои книги. И вот внезапно на фоне всех этих разнообразных исполинов мне стал симпатичен шеф, признанный мастер осмотрительности и чемпион тактического маневра, этот беззащитный громоотвод злобы в эпицентре пересекающихся интересов верхов и низов, который хотя и протестовал отчаянно против Цибуловой, но иногда по собственному почину повышал ставки гонораров за переводы с самых диковинных языков, помогавшие держаться на плаву тем, другим… а я по трусости эти ставки повышать боялся. И я с умилением взглянул на работающих в нашей редакции Жлуву и Пецакову: первый был слишком незначителен, чтобы отстаивать что-то свое рядом с такими великанами, а вторая слишком глупа, чтобы обвинять ее хоть в чем-то. И на Ферду Гезкого, стареющего молодежного оратора, который хмурился на противоположном конце стола, усевшись как можно дальше от молодого Гартмана, хотя прежде они были не разлей вода.
Вот именно что были. Это показала коротенькая дискуссия, которая все же возникла из-за проблемы «Цибулова», хотя никакой проблемы уже, собственно, не существовало. Шеф держался спокойно, непринужденно, ровно; раны, нанесенные его нервной системе скандалом с Андресом, успели зажить. Рукопись возвращали автору на доработку, сообщил он, но после этой доработки произведение не изменилось к лучшему. Его отправили за границу, товарищу академику, и он прислал отзыв, который шеф сейчас позволит себе зачитать.
Он откашлялся и приступил к чтению. Да уж, диалектический скачок был налицо. «Это труд начинающего автора, читал шеф, что само по себе не является недостатком. Мы обязаны поддерживать молодые таланты…» – и так далее, и тому подобное. «Однако же то, что Цибулова описывает на ста двадцати страницах повести, представляет собой квинтэссенцию самых дурных влияний…» – и т. д. и т. п.
Я не пытался уловить смысл слов, он все равно не имел никакого значения. Я слушал только интонацию, а мысли мои блуждали далеко – на улице мук, на танкодроме, под июньской луной. «Отвратительный язык, которым изъясняются так называемые герои повести», – вещал шеф голосом недавно утвержденного в должности инквизитора… да, похоже, усилия Даши Блюменфельдовой пропали втуне… встал молодой Гартман и робко попробовал произнести защитную речь: «товарищ академик не совсем прав, когда говорит, что на автора должен обратить внимание не союз молодежи, а тот орган, который отвечает за работу с нарушителями общественной морали…» И я ощутил нечто вроде приступа шизофрении, это было расщепление мира надвое – на этот мир и на рай, и я возжелал обрести свою потерянную розу, но не как любовницу, а как символ чего-то неизреченного, но утраченного. Провалившегося ко всем чертям. Поднялся Гезкий, изобразил перед нами отрицание отрицания. Ничего он больше не защищал, просто выступил в заезженной роли палача. А мне это было до лампочки. Только пришло на секунду в голову – а не поскользнулась ли Даша на собственных интригах? Я посмотрел на молодого Гартмана, но тот на глазах терял остатки смелости: «автору Цибуловой наше общество доверило важнейшее дело – воспитывать в духе Макаренко…» – вот что отстаивал теперь Гартман… «важнейшая функция искусства – это… я полностью присоединяюсь к мнению товарища академика…» Мне стало плохо, затошнило. Почудилось вдруг, что я попал в самый центр толпы брейгелевских масок, и я подумал, что вот-вот упаду в обморок. Взяла слово греческая маска лицемерия. «Мы не должны быть с автором настолько суровы… можно понять товарища Гезкого… он еще так молод…» И маска улыбнулась этому тридцативосьмилетнему парнишке с величественной высоты своих восьмидесяти… «Надо иногда не слишком серьезно относиться к заблуждениям юности…» Я изо всех сил воспротивился головокружению, я укрылся во вчерашнем дне, в золотых предзакатных Нуслях, стал думать о разноцветной кепке, о мужском кашле за дверью туалета. Но внезпно мне стало гораздо хуже… «Это плохая книга. Когда я перевернула последнюю страницу, мне пришлось вымыть руки.» От мысли, что Вашек сидел в сортире этой ослепительной, как золото, девушки, пока я бормотал свои мучительные признания, голова у меня закружилась сильнее. Маска никак не могла заткнуться: «И все-таки я выступаю за то, чтобы мы уделили этой девушке побольше внимания… я и сама была бы не прочь взять ее когда-нибудь с собой в наши Орлицкие горы…» Я опять оказался на краю обморока, черт знает что со мной творится, Вашек, кепка, неужели Вашек и Серебряная действительно… не просто же так Вашек пришел к ней?., я услышал еще слова шефа, подводившего черту под темой Цибуловой: «редсовет поручает союзу молодежи вплотную заняться автором данного произведения…» Потом быстро заработал отлаженный механизм для голосования. Оно смело террор снобов и восстановило порядок. А потом я отговорился внезапным недомоганием.
Мне действительно было нехорошо. На улице легкий ветерок несколько привел меня в чувство, но я по-прежнему ощущал дурноту, хотя желудок больше не сводило. Я зашагал вперед, снедаемый желанием выяснить, правда ли то, что в мой райский сад ворвался этот браконьер. В рай, под благоуханной сенью которого я мог бы укрыться от всего этого сумасшедшего дома, по-идеалистски рассуждал я – и от этих рассуждений на меня напал ужас.
Однако же по дороге в институтскую столовую я сумел собраться. В дверях, почуяв аромат капусты, я даже смог напялить свое привычное выражение лица. Идиот, ругался я, страшно злой на самого себя. Если это действительно мямля Вашек, то почему ты собираешься складывать оружие? Неужели тебя смогут одурманить солнечные закаты и женский мистицизм?
Я сжал зубы и вошел в столовую. Мне повезло. Вашек все еще обедал в компании каких-то мускулистых парней в спортивных штанах, а прямо над его головой красовалась на вешалке роковая кепка. Я обошелся без лишних церемоний. У меня все было продумано заранее.
– Привет, Вашек, – холодно поздоровался я, встав за его спиной.
Он развернулся так резко, как будто я его пнул. Из-под нарядного загара тут же проступил яркий румянец.
– Привет, – сказал он. – Привет. Ну, как твои дела?
– Ты можешь уделить мне пять минут?
– Конечно-конечно. Естественно. А… а что?
Прикидываться он не умел. Нечистая совесть глядела из его глаз, как со смотровой площадки. Я был спокоен. Я снова вернул себе привычную форму. Мы оба делали вид, что и понятия не имеем о существовании сортира в квартире барышни Серебряной.
– Скажу на улице. Пошли.
Он встал, даже не попрощался с парнями, даже кнедлики не доел – и немедленно нацепил эту кошмарную кепку. Рядом со столовой был дневной бар – интимный полумрак, крохотные столики. Несколько элегантных бездельников распивали с подозрительного вида девицами что-то импортное.
– Мартини, – заказал я и спросил Вашека: – Что ты будешь пить?
– Я… У вас есть морс?
Бармен ухмыльнулся:
– Есть.
Я молчал. Вашек не выдержал.
– Как прошли сборы?
– Нормально.
Я долго раздумывал – и продумал все до мелочей.
– А я ездил в отпуск. Мы Влтаву переплывали…
Его слова в тихом полумраке бара прозвучали почти оглушительно. Официант принес морс и мартини. Я сделал глоток.
– Слушай, – я посмотрел ему прямо в глаза. Я уже опять был в своей стихии. Временное затмение миновало. – Что у тебя было с Верой?
– У меня?.. – он неудачно попробовал изобразить удивление.
– Ну да, у тебя.
– Я… так ты знаешь?
– Хочу услышать это от тебя.
– Карел… – он запнулся. – Я… с моей стороны это было свинством…
– Ты с ней переспал?
– Ну… это… я был…
– Благодарю за дружескую услугу. Вера меня бросила.
Я полагал, что истинные мои интересы ловко спрятались от него за обманутым доверием друга.
– Карел… я правда не хотел… я был… Ну, ты же понимаешь… Я расстроился из-за Ленки. А ты в тот раз не пришел, а они обе пришли… и я потом провожал Веру…
– Можешь не продолжать.
Я выпил мартини и трагически умолк.
– Ну правда, Карел… пожалуйста, прости меня. То есть простить такое нельзя… но ведь это было только один раз.
– Это тебя как-то оправдывает?
– Нет.
– Один раз – а потом тебе стало на нее наплевать. И ты взялся за Серебряную, да?
– Тебе… тебе и об этом известно?
Значит, правда, тупо уяснил я и тут же почувствовал, как больно врезало мне по мозгам это его признание. Я во все глаза уставился на предателя. Он уже просто в узел завязался от смущения. Но при этом – ни единой попытки обороняться. И тут я вдруг понял, что мне нанесли не один, а по крайней мере два удара: я осознал, почему он ведет себя таким непостижимым образом. Собравшись с силами, я произнес с горечью:
– А я-то всегда думал, что ты не знаешь, как и подойти к женщине…
– Так я и не знаю. Это же только…
– Зачем ты всегда прикидывался передо мной? Хотел, чтобы я именно так и думал? Вел речи прыщавого юнца, а сам тем временем…
– Да я…
– Ты бабник!
Он ничего не ответил.
– Не то чтобы я упрекал тебя за это. Но если уж тебе приспичило бегать за юбками, то пощади по крайней мере подруг своих товарищей.
– Карел, я правда не хотел тебя обидеть. Все было совсем не так. Меня потом страшно мучила совесть – после Веры…
– Так вот почему ты ее бросил – из-за угрызений совести!
– Я ее не бросал! Я… я просто не знал, что мне делать. Назавтра у меня была ритмика, а на нее приходит Ленка, и я – я ей все рассказал.
– Еще того лучше!
– А она…
– С ней ты тоже переспал, да?
– Нет! – выпалил он. – В смысле…
– Да или нет?
– Н-ну… – пробормотал он. – Тогда я пошел извиниться перед Верой. Она все поняла. Сказала, что поступила так, потому что тоже чувствовала себя несчастной.
– Несчастной? А она не объяснила, что случилось?
Вашек замотал головой.
– Нет. Но я подумал – вы поссорились или еще что… – И он вопросительно посмотрел на меня. Я почувствовал, что меня начинает бить озноб.
– Если хочешь знать, ты развратил приличную девушку, – сообщил я. – До меня у нее никого не было. А теперь она напропалую развлекается с режиссером Гелленом.
Интересно, это он тоже проглотит?
Проглотил.
– Карел… я не знаю, что делать… я…
– Теперь уже ничего не поделаешь, – перебил я. Мозги у меня работали на всю катушку, и то, что они наработали, было пугающим.
– Карел, ну пожалуйста, не держи на меня зла, – лепетал Вашек. – Да, с моей стороны это было свинство, ну, врежь мне хорошенько, что ли, только давай останемся друзьями.
– Ладно, замнем для ясности, – махнул я рукой. Мне пришло кое-что в голову. Я добавил быстро: – Надеюсь, барышня Серебряная в постели так же хороша, как можно надеяться.
Вашек покраснел, поглядел на меня, потом нерешительно протянул руку:
– Друзья, да? – И глаза у него были наивные-наивные.
– До гроба. – Я пожал ему руку. – Ну, так как же?.. – У меня даже дыхание перехватило. – Какова она в постели?
На деревенской физиономии Вашека Жамберка появилось выражение блаженства.
– Карел… я в жизни не думал, что такая красавица… может в меня…
И снова мне показалось, что своим натренированным кулаком он заехал мне прямо между глаз. Бар со всеми его посетителями завертелся вдруг колесом. И в центре этого колеса несчастья торчала клетчатая кепка.
Мне нужно было как-то утешиться. Я пошел к Блюменфельдовой. Но ее на месте не оказалось.
– А ты что, не в курсе? – удивился Салайка. – Ах да! Ты же был на сборах. Блюменфельдова теперь в корректорской. Она больше не редактор, потому что здорово проштрафилась в Союзе.
– Проштрафилась?
– Подробностей я не знаю. Ее вызывали на ковер к начальству, и она вернулась оттуда в слезах. Вот я и не полез с расспросами.
Я поднялся наверх, в корректорскую, чувствуя себя так, словно меня избили. Значит, и до тебя добрались, воительница. Ты вся без остатка отдавалась служению доброму делу, даже вагины своей не жалела, а доброе дело отомстило тебе, потому что добрые дела вообще всегда отвечают людям злом. Я нашел ее в корректорской, она сидела там в угрюмой тишине рядом со старым Вавроушеком, который был корректором еще во времена Карела Матея Чапека-Хода[42], и морщила лоб над какими-то гранками. Завидев меня, она немедленно все бросила и выбежала ко мне в коридор. Там она мгновенно закурила.
– С ума сойти! – воскликнула она. – Это старичье вообще не курит!
Даша жадно втянула дым и выпустила его изо рта и носа, дым ласково гладил ее нежные щечки; на меня глядели огромные красивые глаза.
– Во влипли, а? – сказала она, точно прочитав мои мысли.
– Да уж, – сказал я. – По самую задницу.
Она усмехнулась, заглотнула дым, как морской волк, и оперлась спиной о батарею, выставив на мое обозрение свою несравненную грудь.
– Что ты натворила в Союзе?
– Да ничего. Разве что так ни разу и не встретилась с теми мудрейшими, к которым меня командировал Эмил. Мне не повезло. Кто же знал, что как раз тогда этому гребаному Николаеву приспичит вылезти со своими нравоучениями?!
Резкий спуск вниз по сословной лестнице только усилил ее беззаветную любовь к крепким словечкам. Меня это порадовало.
– А за что Эмил тебя прогнал?
– Да из-за справки о проживании. В другой раз буду умнее. Понимаешь, я написала там все по-честному, а получился список персон нон-грата. И главное – все они до единого были в этом докладе Николаева. Представляешь, все до единого!
– Тогда я больше не удивляюсь, – сказал я. – А что профсоюз?
– Брось ты свои глупые шутки!
Я извинился.
– А как ты? Как армия? Как барышня Серебряная?
– Нормально, – отозвался я коротко и сменил тему. В моем нынешнем состоянии я был не в силах беседовать об этой змее. – Когда ты скажешь Цибуловой, что мы ее не издадим?
Даша доверчиво взяла меня за руку, проехавшись грудью по моему рукаву.
– Поможешь мне с этим, хорошо? Я встречаюсь с ней завтра днем.
– Без вопросов. Если ты считаешь, что так нужно. Правда… – я запнулся. – Правда, сегодня я за нее не вступился. Все так гнусно сложилось, что…
– Да ладно, не оправдывайся. Придется все начинать сызнова.
– За нее вступился только молодой Гартман, – сказал я, чтобы у нее не создалось впечатления, что все ее усилия были напрасны. Я хотел ее порадовать, но она нахмурилась.
– А Ферда Гезкий?
– Ну… он…
– Ясно. Так я и думала. Знаешь, Карличек, – склонилась она ко мне, и я снова ощутил сквозь рукав телесную упругость моей милой соратницы, которая, впрочем, никак не могла помочь мне в моей собственной битве. – Я ведь такой позор пережила. Они же подрались из-за мета в «Редуте».
– Подрались?
– Ну да. По-настоящему, на кулаках. И молодой Гартман разбил Ферде нос.
– А ты, значит, стала для него наградой?
– Слушай, пока ты на своих пушках катался, на тебя случайно кокос не падал?
Даша обиделась.
– Так они что же, просто так, бескорыстно?
– Естественно! – взвилась она. – Неужели ты считаешь, что мне могут нравиться такие мужики? Знаешь, кто мой идеал?
На бледном семитском личике появилось мечтательное выражение. Такую Дашу я видел впервые. Обычно она походила на Бар-Кохбу.
– Не знаю. Может, я?
– Жан Марэ, – вздохнула она, а потом вздохнула еще раз, горестно: – Но такие у нас вообще не водятся. Вот в Союзе…








