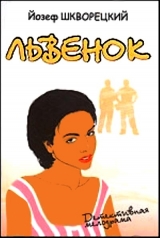
Текст книги "Львенок"
Автор книги: Йозеф Шкворецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Я наконец опомнился и смог начать острить.
– Значит, они тоже считают до ста?
– Это было раньше, – отрезала барышня Серебряная. – Слушайте, господин редактор, вы на сто лет отстали от обезьян! Так давно никто не делает, даже у людей. Сейчас кошку суют в специальный ящик с застекленным окошком и пускают туда веселящий газ.
– Что-то вроде маленькой газовой камеры.
– Да, – согласилась она и помолчала. Солнечный диск успел уже спуститься по ступенькам смотровой башни и спрятаться за гору, а на небе его сменила гигантская луна. Она опять висела так низко над городом, что мне казалось, стоит только руку протянуть – и она у меня, и я ставлю ее на столик перед барышней Серебряной. Как же красиво, наверное, заблестят от такого соседства ее черные глаза! В общем, у меня появилось ощущение, что рядом с Серебряной мне под силу абсолютно все, и я как раз собрался достать луну с неба, когда Ленка внезапно передернула плечами.
– Вам холодно?
– Немного.
– Давайте закажем еще водки, а?
– Нет, хватит. Мы уже трижды заказывали. Пошли домой.
– К вам? Вы пригласите меня на чашку кофе?
Она покачала головой.
– Но вы же мне почти обещали!
– Кофе кончился. У меня дома нет больше кофе.
– Я зайду к вам и без кофе. Вы угостите меня водой.
– Можете меня проводить, – решилась она и приказала: – Расплатитесь!
Ах! За три водки да еще зеленый лимонад впридачу я достоин большего, чем позволение проводить. Но что такое цена пускай даже и целых ста водок в сравнении с возможностью просто идти рядом с барышней Серебряной по той залитой светом луны улице? Вы когда-нибудь переспите со мной, Ленка? Этот вопрос я задал ей про себя, и она ответила мне: «Позже». Что ж, позже так позже. Лишь бы хоть когда-нибудь.
Отогнав прочь обуревавшие меня на сей счет сомнения, я отправился вместе с барышней Серебряной в путь через темные парки, через Подоли, таинственными нусельскими тропами – в Панкрац.
И вот мы снова очутились на улице Девятнадцатого ноября, а я ни на метр не продвинулся в своей атаке на русалочьи бастионы. Правда, на нусельском склоне я сочинил очень приличную поэму в прозе, где воспевал длинные ноги Ленки, а также ее красивые глаза, губы и ушки, короче говоря, все те части тела, комплименты которым приличные девушки слушают обычно с удовольствием. Однако она никак не намекнула на то, что я могу добавить и строфу о других, более интимных особенностях ее анатомического строения. Слушала она внимательно, но когда я покончил со всем, что допускали границы моральных условностей, изрекла:
– Вы так замечательно умеете рассказывать, господин редактор! Сразу видно, что вы профессионал!
Я тут же завял, как кактус после слишком обильной поливки. Она немедленно рассмеялась, сама взяла меня за руку и позволила вести ее, поддерживая под локоток. Таким-то вот образом соединившись, мы и вступили на тихую улицу Девятнадцатого ноября, и Ленкины розовые босоножки на высоких каблуках снова наполнили этот поэтичный бульвар своим неподражаемым цоканьем. Толстый месяц-переросток спешил за нами, чтобы подглядеть, как будут развиваться события.
Они не развивались никак. Мы завернули за угол и оказались перед черным омутом блестящего витринного стекла. Барышня Серебряная остановилась и погляделась в черное зеркало. Она снова была, как гвоздика. Нет – как лунная кувшинка, рядом с которой торчит дурацкая черная коряга. То есть я.
– И все равно вы самая красивая девушка в целой Чехословакии! – ожесточенно и нелюбезно выпалил я.
Ленка прыснула со смеху.
– Может, вы и на колени встанете? Вчера это у вас замечательно получилось!
– Ради вас я готов даже ползать на четвереньках и искать несуществующую сережку!
И я отошел от барышни Серебряной и, нимало не жалея английскую ткань, опустился на колени.
Жизнь, как всем известно, куда более невероятна, чем романы. Едва мои колени коснулись асфальта, как за углом застучали чьи-то туфельки и перед нами возникла Вера с сумкой и грустными вязальными спицами. Сначала мне показалось, что я грежу, и, сам не зная зачем, я встал на четвереньки. Неудачная шутка, барышня Серебряная, очень неудачная! Но это и впрямь была Вера. Она уставилась на меня во все глаза, ярко синевшие при свете пузатого месяца, а потом из них брызнули две хрустальные струйки. Вера рванулась с места, пробежала между нами и помчалась прочь. Я глядел ей вслед, широко открыв рот, и видел, как ее стройные, но мускулистые ноги танцовщицы мелькают в сумрачном свете бульвара и скрываются во тьме.
Я по-прежнему стоял на коленях и не слишком верил в происходящее. К реальности меня вернул голос барышни Серебряной.
– Ну и заварила же я кашу, – сообщило мне это создание и растерянно почесало свою вихрастую головку.
– Это Вера… – пискнул я, как идиот.
– Я понимаю, что не ваша бабушка! – раздраженно отозвалась Ленка. – Вставайте и бегите за ней!
– Но ведь…
– Быстрее! Обязательно догоните ее!
Я поднялся и отряхнул колени.
– Ничего себе! – с горечью в голосе проговорил я. – А кто мне велел встать на колени, а?
– Я знаю. Не сердитесь. Я дура. Только догоните ее.
– Вы чудовище, если отправляете меня следом за ней!
– Это вы будете чудовищем, если не догоните ее!
Я не стал отвечать. Я просто смерил барышню Серебряную взглядом с головы до пят. Она хлопала своими черными глазищами и никак не могла найти нужные слова.
– Ничего себе! – повторил я.
– Пожалуйста, бегите за ней, ну, прошу вас! – И добавила почти умоляюще: – Вы не знаете, каково это. Ей сейчас наверняка очень плохо! Я не обижусь, если вы уйдете!
Не обидится?! Ах, барышня Серебряная, а ничего более страшного вы мне сказать не хотите?
– Я пойду к вам. К ней я зайду на обратном пути.
– Ко мне нельзя. Подружка дома.
– Что же вы раньше мне этого не сообщили?
– Но я же вам ничего не обещала. Я только сказала, что вы можете меня проводить.
Ну знаете, барышня, воскликнул я про себя. Да что же это за игру вы затеяли?
– Я вам не верю, – сказал я.
Она нетерпеливо повела плечами.
– Ну и не верьте. Но ко мне нельзя.
– Тогда давайте пойдем в какой-нибудь ресторан, – предложил я от отчаяния. Я уже знал: какую бы игру она ни затеяла, до меня ей дела нет. Омерзительное ощущение. Я давно успел позабыть его.
– Я женщина трудящаяся, – ответила она. – А завтра рано вставать.
Я повесил голову. Барышня Серебряная немедленно сжалилась надо мной и сказала с теплотой в голосе:
– Как-нибудь в другой раз.
Правда? Неужто мне стоит предпринять еще одну попытку? Но я же полностью вышел в тираж, это ясно, как день! И все-таки я знал, что обязательно предприму еще миллион попыток – пусть даже все они окончатся неудачей. И она, словно бы желая утвердить меня в этих намерениях, скомандовала:
– Например, достаньте билеты на эту вашу гимнастику!
– Достану!
Мы стояли молча. Луна закрыла собой чуть ли не все небо.
– Ну, спокойной ночи, – сказала Серебряная.
Я взял ее руку и поцеловал… хотя бы ее. Девушка достала из сумочки ключ и отперла дверь. Я смотрел на нее откровенно собачьим взглядом. Антрацитовые глаза словно бы блеснули из темноты черным. Это было совершенно фантастически. А потом оттуда донесся тихий тембр гобоя:
– Идите к ней, прошу вас!
Дверь захлопнулась.
Проклятье, сказал я себе и, насквозь пропитанный болью, повернулся к луне.
Домой мне не хотелось. Я уселся на скамейку на самом краю нусельского склона, вытянул перед собой ноги и предался печали. Мир был юн, как десять тысяч лет назад. У меня ныло сердце. Мысль о том, что я, кажется, никогда не заполучу барышню Серебряную, что ближе, чем сейчас, мы с ней никогда не будем, мучила меня несказанно. Я перебирал воспоминания то ли десяти-, то ли одиннадцатилетней давности – тогда, в совершенно такую же лунную ночь, я катался по траве под той же самой луной, грыз горькие одуванчики и стенал, как неудовлетворенный кот, потому что некая Гана Салаквардова, дочь владельца арматурного завода, решила, что я не достоин ее девственности.
Две эти точки, ту и нынешнюю, связал сейчас воедино лунный луч, и прошедшая между ними прямая разом перечеркнула все промежуточные годы, годы бега за юбками ради спортивного интереса и стихописания по привычке, словом, все то, чему научил меня мир; и подчеркнула забытые мною наивные заветы религии зеленых юнцов. Я сидел здесь, снова девятнадцатилетний, с обнаженной душой, и поджаривался на адском медленном огне любви. Все, все без остатка сложил я к длинным ногам слабой девушки в бикини.
Боже! Слезы застили Нусельскую долину, луна, отразившись в них, раскололась на длинные серебряные дольки. Я размяк, я рыдал, я фарисейски посыпал голову пеплом. Клещи мучительной страсти рвали мои внутренности, а барышня Серебряная, ухмыляясь, подобно соблазнительному Вельзевулу, поворачивала раскаленное железо в моих ранах. И тут вдруг из бесовских теней – нелогично и неожиданно – выступила Вера: очевидно, терзания любви пробудили муки совести. Хотя я и попробовал немедленно выкинуть ее из головы, мне это не удалось; она стояла за спиной жестокой Ленки, она выглядывала из-за ее плеча, эта добрая душа, в квартирке которой я грелся, когда на улице стоял мороз, а мне было лень тащить уголь к себе на пятый этаж; Вера, вся сила духа которой уходила на прекрасное владение собственным телом, так что на большее ее уже недоставало, преданная балерина, тоже угодившая под колесо любовных скорбей. «Пушинки легче груз чужих клевет…» – зазвучали у меня в голове стихи, которые я как раз редактировал на работе, несовременные стихи наивного поэта старого мира, в той книге их напыщенно читала какая-то патетичная декламаторша – не вникая в смысл, просто очень громко, как того требует наш новый мир: «воспрянешь, первыми не сбит комками!» Они принадлежали прошлому, как и сдержанность моей черноглазой красавицы – и меня внезапно охватило абсурдное и удивительное чувство, что я наконец-то сумел уловить суть ее странной натуры; суть эта заключалась в том, что несмотря на почти неприличное бикини, несмотря на накрашенные розовым ногти, она будто жила и с удовольствием барахталась где-то на грани веков, когда абсолютно все еще не стало таким относительным. И Серебряная повторила вслед за патетичной декламаторшей: «Но то, что ты творил другим во вред…», а потом сама принялась читать эти устаревшие и по форме, и по содержанию стихи, читать с тем глубоким сопереживанием, которое бы у всех прочих умнейших наших современников казалось фальшивым и смешным: «лежит на сердце, словно тяжкий камень…» Она закончила, и меня – хотя я и размяк в языках любовного пламени – пронзил совершенно неожиданный страх за Веру, страх перед тем, что произойдет, если она и впрямь покончит с собой; я взвился со скамейки и на рысях помчался на улицу Девятнадцатого ноября. Жуткий кошмар гнал меня вдоль тихих рядов домов, где в этот ночной час только кое-где пробивался сквозь опущенные жалюзи магазинов желтоватый свет: видение балерины с небогатой биографией и курьезным эротическим прошлым, которая накидывает себе на шею пояс от халатика шлюхи. Я завернул за угол, на бегу вытащил из кармана ключ, ключ, который она сама заказала для меня, а потом принесла прямо в редакцию, потому что я поленился зайти за ним в мастерскую, этот ключ тащил меня вперед, как магнит, так что я с трудом поспевал за ним. Я вонзил его в дверь подъезда и опять же на бегу заменил другим, и он снова повлек меня за собой по лестнице, на шестой этаж. Перед дверью с визиткой «ВЕРА КАЭТАНОВА, артистка Театра балета» я остановился и перевел дух. Эта абсурдная, точно сошедшая со страниц романа визитка сегодня служила мне упреком: безнадежный крохотный обелиск славы, символ ненапрасных усилий, которые эта деревенская девочка тратила, начиная с пяти лет, когда ее отдали на какую-то жуткую ритмику в какой-то жуткой дыре в Южной Чехии; трогательный вскрик слабенького, безвременно почившего голоска, адресованный бескрайней и равнодушной пустоте вечности. Я задрожал от страха – ибо за дверью царила гнетущая тишина. Аккуратно сунув ключ в скважину, я – отчего-то стараясь не шуметь – отпер дверь.
В передней висел Верин голубенький плащ-болонья, а под ним стояли белые лодочки. Дверь в комнату была полуотворена, оттуда лился неяркий свет.
Я на цыпочках вошел внутрь. Веры нет; возле стены – разложенный диван, на стуле – брошенное белое платье.
И тут новая страшная мысль заставила меня нервно дернуться и повернуться в сторону тоже не полностью закрытой двери в ванную. Щель выделялась светлой полосой; но и в ванной стояла мертвая тишина. У меня потемнело в глазах – я уже видел Веру, возносившуюся, подобно доброму ангелочку, на алых облаках крови к вратам чистилища.
Но когда я с колотящимся сердцем просунул голову в дверь, Вера оказалась жива: она лежала в воде, синей от соли для купания, и читала какую-то книжку.
Я вошел в ванную и остановился. Вера глянула на меня поверх книги и тут же снова опустила глаза к буквам.
Я присел на край ванны. Поверхность воды была, как зеркало; под нею плавало стройное девичье тело моей балерины, с кудряшечками в низу живота, с маленькими грудями, с боками, которые лишь едва заметно намечали округлость женских бедер.
– Вера, – сказал я. Сердце у меня по-прежнему колотилось, как бешеное.
Она продолжала читать.
– Вера, черт побери!..
Наконец-то она снова бросила взгляд на меня поверх томика.
– Что?
– Я думал… я боялся…
– Боялся?
– Да, боялся! Что ты сделаешь какую-нибудь глупость! – разбушевался я. – Ты же чуть что – сразу рыдать, как…
– А что мне оставалось? – оборвала она меня. – Смеяться? Между прочим, ты был довольно смешон, когда ползал на коленях перед той девицей… – И тут она перестала владеть собой. Из незабудковых глаз брызнули привычные слезы, книжка полетела на резиновый коврик на полу, и Вера, повернувшись в воде, душераздирающе зарыдала в голубой солевой раствор.
Я поднял книгу. «Метафизика любви». Шопенгауэр. Из фонда Городской библиотеки. Так вот где ищет она помощь в решении своих проблем! Я положил руку на Верино мокрое плечо.
– Не плачь.
Она задрожала.
– Ну, хватит.
Она перестала всхлипывать и даже повернула ко мне голову. Заплаканные глаза смотрели просительно.
– Карличек… пожалуйста… – Она села в ванне. – Карличек…
Я поднял брови и вздохнул. Она обхватила меня за шею и прижала твердые губы к моим губам. Сквозь рубашку я почувствовал мокрый обжигающий жар.
В голове у меня роились мысли. Вера лежала рядом, голова – на моей груди, и ровно дышала, но я знал, что она не спит. Точно прочитав мои мысли, она проговорила грустно-прегрустно:
– Ты меня больше не любишь, да?
– Люблю.
– Не любишь. Ты знаешь, что я имею в виду.
– Я люблю тебя так же, как любил всегда.
Она вздохнула и горько рассмеялась.
– Вот именно. Я тоже люблю тебя так же, как любила всегда.
Я молчал. Я смотрел в потолок, пересеченный белесой полосой лунного света – точь-в-точь большая стрелка гигантских световых часов.
– А ту… ту ты тоже любишь, как меня?
– Нет, – вздохнул я. – Ту любит Вашек.
– Тогда почему ты ее все время провожаешь?
На стуле сияло белое платье, на комоде стояла алебастровая статуэтка – обнаженная женская фигурка, скрытая темнотой, так что только головка ее сияла, освещенная стрелкой лунных часов.
– Я считал своим долгом помочь им обрести друг друга. Купить билеты в кино для всех троих, а потом не прийти.
– Но почему ты ее провожал?
– Потому что Вашек не пришел.
– Ты знал, что он не придет?
– Нет.
– А зачем же ты пошел, если не собирался?
М-да, у лжи короткие ноги. Белесый свет помаленьку добирался до девичьей шеи.
– Да ладно, – сказал я. – Ты же читаешь во мне, как в книге. Это для меня ровным счетом ничего не значит. Хотя она мне и нравится.
Верина голова сползла с моей груди на подушку, и послышался странный звук – то ли всхлипывание, то ли безысходное шипение разъяренной любви.
– Что я могу поделать, Вера? Я такой, какой есть!
Она обернула ко мне свое влажное лицо.
– А я что могу поделать? Я тоже такая, какая есть!
Бледное, несчастное лицо с дорожками от слез.
Мы снова замолчали.
Я проговорил:
– Давай расстанемся.
Она дернулась и почти закричала:
– Нет! Только не это! Карличек! Пожалуйста! Умоляю!
– Так было бы лучше.
– Нет! Она тебя не любит! А я люблю!
Ты совершенно права, Верушка, но мне-то до этого какое дело? Не понимаешь ты всего. Чем мне поможет твоя любовь, если Серебряная меня не любит?
– Я знаю. Только…
– Я всегда буду тебя любить! Молчи! – Это я собрался ее перебить. – Ты даже представить себе не в силах, как может любить женщина! – Да в силах я представить, Вера, в силах, хотелось мне сказать. – У тебя были сплошные… – Шлюхи, скажи это вслух, Вера, хватит жить среди романтических иллюзий. Шлюха тоже способна на любовь. Но она этого так и не сказала. Вера не умела говорить вслух такие слова. – Я же правда тебя люблю, Карличек, понимаешь?
И она меня поцеловала. Она упорно добивалась ясности, но откуда ей было взяться? Потом Вера положила голову мне на грудь, в носу у меня защекотало от аромата ее свежевымытых волос – но внутри по-прежнему была сплошная пустота. Пустота. И еще капелька жалости.
– Это у тебя пройдет, Карличек. Я тебя ни в чем не упрекаю. Я современная, – сказала мне девушка из Трговых-Лад, которая не понимала истинного смысла ни единого чужестранного выражения и в чьей неприметной библиотечке стоял потертый словарь иностранных слов. – Вот видишь, я не такая. Я не устраиваю тебе сцен. Я буду терпеливой, и у тебя это пройдет.
– Я никогда не любил тебя, Вера, – просипел я.
Она быстро прикрыла мне рот рукой.
– Не говори так! Ты любишь меня! Правда? Ответь!
– Люблю.
– Вот и хорошо. Я тебя люблю. Ты даже можешь меня бить, если ты согласен…
Тут голос у нее пресекся. А потом, после долгой паузы, мой современный театральный деятель прошептал еле слышно: – …согласен не бросать меня.
Алебастровая фигурка была уже освещена по пояс. Луна совлекла с нее темноту, и соски теперь походили на черные маки.
– Я этого не перенесу. Я что-нибудь с собой сделаю.
Несчастный голосок пропал втуне.
«С собой сделаю»! Ты прочтешь Шопенгауэра и снова попытаешься обольстить меня своим прекрасным мокрым телом. Но я, Верушка, больше на это не куплюсь. И сам Виктор Дык[17] тебе не поможет. Белесая стрелка луны добралась до колен алебастровой статуэтки. Я уже вернул себе способность рассуждать здраво. Я пропитался мудростью эпохи. Если я хочу когда-нибудь вот так же лежать рядом с барышней Серебряной, то с Верой мне надо быстро и решительно расплеваться.
Глава четвертая
День рождения
Свой неизвестно который день рождения Блюменфельдова начала отмечать прямо с утра в редакции. За дверью ее берлоги раздался взрыв хохота, и, войдя, я обнаружил внутри довольно много народу, окутанного клубами редкого табачного тумана. Коллега Салайка как раз показывал собравшимся что-то забавное в толстой рукописи, и Блюменфельдова – не в той блузке, что вчера, но тоже из «Тузекса» – давилась хохотом.
Когда я открыл дверь, все вздрогнули. Но потом поняли, кто пришел, и веселье продолжалось.
– Поздравляю, Даша, – сказал я и поцеловал Блюменфельдову в губы, пахнущие импортными сигаретами. – Еще хотя бы половину того, что ты уже прожила!
– Ты желаешь мне умереть совсем молодой?
– Любимцы богов, как известно…
– Я не их любимица. Во всяком случае Бог-отец меня точно не жалует.
– Кто? – спросил писатель Копанец, который во время моего поздравления привстал с места.
– Я про товарища Прохазку, – объяснила Даша. – Он даже не пригласил меня на свой день рождения, хотя мы и родились с ним в один день. – Потом ей пришло кое-что в голову, и она повысила голос: – Ну-ка, товарищи, кого из вас пригласили, чтобы мы знали, с кем держать ухо востро?
Оказалось, что никто из присутствующих на праздник к шефу не зван. Блюменфельдова подняла тост за вновь образованный кружок шефских нелюбимчиков и при этом незаметно покосилась в мою сторону. Честно говоря, меня тоже удивляло, что я не получил приглашения, и в другое время я бы долго терзался по данному поводу. Однако в новой жизни, которую я начал на этой неделе, шкала моих ценностей изменилась. Итак, я выбросил эту задачку из головы и склонился вместе с прочими над рукописью Салайки, ставшей источником такого дружного веселья.
Это была книга чешского классика, явившаяся плодом досконального сравнения всех прежде существовавших изданий, проведенного несколькими сотрудниками Института национальной литературы. В результате их совместных усилий возник внушающий благоговение текст, в котором (как указывалось в редакционном предисловии) едва ли не в полной мере нашли свое отражение первоначальные эстетические и идейные замыслы автора, очищенные от наслоений позднейшей редакторской правки, которую вносили буржуазные издатели, а также от типографских опечаток и корректорских недосмотров. Академик Брат лишь заменил в нем (к сожалению, из-за большого объема материала не всегда последовательно) христианские реалии светскими – и рукопись, отвечающая теперь как единственно верным литературно-историческим и лингвистическим принципам, так и научному мировоззрению, попала на стол к коллеге Салайке. Тот смеха ради прочел ее и сейчас демонстрировал всем самые выдающиеся образчики вмешательства академического пера.
Некоторые из присутствующих, впрочем, реагировали на правку академика с большим негодованием.
– Об этом надо написать! – горячился литературный критик Коблига, недавно подвергшийся атаке в периодической печати. – Это же возмутительно! Страшно подумать, что кто-то способен на подобное литературное варварство!
Собравшихся весьма удивило сочувствие к академику, проявленное писателем Ко-панецем. Это действительно было странно, если учесть, что совсем недавно Копанец заслужил прозвище «Мастер прокола», ибо ему удалось с помощью собственного вполне банального соцреалистического романа «Битва за Брниржов» (в котором он слишком уж новаторски соединил политику не с привычной схваткой различных убеждений, а скорее с эротикой) способствовать краху издательства – нашего конкурента. С некоторых пор эта гроза редакторов приударял за Блюменфельдовой, как я подозревал, из шкурных соображений. Он явно сумел распознать, где именно находится самое уязвимое место в укреплениях, возведенных нашим шефом для защиты от неподходящих талантов.
– Вы, маэстро? – с удивлением спросила Анежка. – Вы, истинный апостол правды?
– Что ж, у всех есть свои грешки, – ответствовал апостол, поправляя темные очки на крохотном носу, напоминавшем о созданных Ладой[18] профилях. – Я, к примеру, готов все понять. Когда-то, сразу после Февраля, я нанялся негром к заслуженному деятелю искусств Карелу Старецу…
– Так это вы, значит, в ответе за все его мерзости? – выкрикнула пронзительным голосом Блюменфельдова.
– Ну нет, далеко не за все. После Февраля он писал сам. Мне же было поручено только просмотреть на предмет верности марксизму его книги времен Первой республики. Я делал более выпуклыми классовые характеристики персонажей, добавлял интеллектуалам космополитические черты – ну и все в таком духе.
Начался новый приступ веселья. Блюменфельдова налила всем виски и раздала желающим «Лаки Страйк». Копанец жестом самоубийцы опрокинул в рот свою порцию и тут же придвинул рюмку поближе к бутылке – за добавкой.
– Маэстро, берегите силы для вечера, – напомнила ему Блюменфельдова, а Салайка принялся громко зачитывать сцену из сочинения классика: два католических священника семнадцатого века встречаются перед пожарной частью, зачем-то крестятся и приветствуют друг друга словами «Доброе утро, коллега!»
– А вы знаете, как мне удалось добиться расположения нашего начальника? – спросила Даша после следующих двух рюмок. Я знал. Это было самое недолгое расположение, которое шеф питал когда-либо к кому-нибудь в нашей редакции. – Не знаете? Тогда я вам расскажу!
– Наконец-то пришла очередь пикантных историй, – заметил Копанец.
– Если вы, маэстро, ждете эротики, то будете разочарованы. Никаких постельных сцен. Чтобы подмазаться к шефу, я предпочла не койку, а литературу.
– Как странно, – сказал Салайка. – А вот новая девочка из секретариата кажется еще моложе тебя, хотя ты у нас и очень юна, и все же мне сдается, что…
– Которая? – встрепенулась Анежка. – Почему я ничего не знаю? Блондинка, да?
Какое-то время все оживленно обсуждали блондинку из секретариата, которую Салайка застал в обществе шефа, когда рабочий день уже давно кончился. Анежка хотела узнать подробности, и они не заставили себя ждать. Картотека сплетен, заботливо собираемая Анежкой в собственной головке, пополнилась еще одной, причем замечательной. Моя соседка по комнате могла бы написать подлинную историю нашего издательства. Она наверняка была бы куда интереснее той официальной хроники, которую усердно вел бывший партизан Андрес и которая включала в себя в основном протоколы важнейших совещаний и социалистические обязательства редакторов. Что касается секса, то там отмечались только свадьбы; правда, записи о них сопровождались юмористическими стишками. О разводах хроника умалчивала. Андрес исправлял историю в духе бескомпромиссного оптимизма.
– В моем случае никаких обжиманий не было, – вернулась к своему рассказу Даша.
– Хватило одного Карела Чапека. В «Войне с саламандрами» я выловила опечатку, которая постоянно переходила из одного издания в другое: Wellcome с двумя /. К сожалению, наша дружба длилась всего две минуты. Надо мне тогда было держать язык за зубами.
Да уж, Даша, подумал я, что надо, то надо. Поверить, что ты и на самом деле сказала то, что нарушило всю идиллию совещания, было трудно; да сначала никто и не поверил. Мы все решили, что это – коллективная слуховая галлюцинация, хотя, как тут же выяснилось, слух нас не обманул. Если в этой нашей «Войне с саламандрами» впервые будет правильно написано Wellcome с одним /, провозгласила тогда пронзительно Блюменфельдова, то нам следовало бы, в соответствии с недавними разоблачениями (это ты подводила теоретическую базу, причем, как полагала, очень ловко), вернуть ту составную часть романа, которая печаталась во всех прижизненных изданиях Чапека, но была исключена из текста после сорок восьмого года, а именно – «Манифест Молокова».
Я помню, как затрясся у шефа подбородок, как вокруг большого стола воцарилось глубокое молчание и как шеф наконец сумел сделать глубокий вдох.
И выказать себя человеком, достойным своего поста. Мы узнали от него, что Карел Чапек был буржуазным демократом и идеалистическим гуманистом и так далее, и тому подобное, который хотя и смог распознать опасную роль фашизма и так далее, и тому подобное, но так и не избавился от своих классово обусловленных предрассудков по отношению к Советскому Союзу… и еще множество «откровений» в том же духе услышали мы тогда от шефа. В том числе и то, что в вычеркнутом отрывке вовсе не имеется в виду некая конкретная личность, а лишь содержатся общие обвинения в адрес всего СССР, и потому опубликование этого пассажа могло бы серьезно обидеть нашего нынешнего читателя. Вдобавок нам объяснили, что товарищ Блюменфельдова – еще молодой товарищ, что хотя она и научилась кое-чему в институте и уже добилась некоторых успехов на службе и так далее, и тому подобное, но у нее все еще отсутствует правильный политический кругозор, который вырабатывается лишь длительной практикой (тут шеф не ошибся). Он вещал так гладко и на таких искусно повышенных тонах, что даже Блюменфельдова тогда перетрусила, и читатели получили Чапека с одним / и без Молокова.
С тех пор, однако, прекрасная воительница снова осмелела: сейчас она восседала на столе, сияя широкой улыбкой среди облаков дыма; рюмки с виски стояли среди отпечатанных на ротаторе инструкций – как и что следует вычеркивать из рукописей, с круглого столика посреди комнаты один за другим исчезали бутерброды, а писатель Копанец обхватил ее за талию. Но вдруг Даша спрыгнула на пол, вознесла кверху рюмку и произнесла голосом простуженного павиана:
– За то, чтобы во время своей командировки в СССР академик Брат был разоблачен как враг народа!
Охваченные воодушевлением, все дружно подняли рюмки. Дверь открылась, и в комнату вошел шеф – с желчной усмешкой на слегка порозовевшем лице.
– Ура-ура! – проговорил он весело, и наступившую тишину прорезал громкий смех Мастера прокола. Впрочем, редакторам не в новинку было попадать в подобные ситуации, и они быстро опомнились, а шеф, блистая челюстями, приблизился к Блюменфельдовой и взял ее за руку.
– Дашенька, всего тебе наилучшего, побольше здоровья и – красивого любовника!
Потом он поцеловал ее в лоб.
Блюменфельдова покорно дала себя поцеловать и приторно улыбнулась:
– И тебе того же, товарищ Прохазка. Конечно, за исключением любовника.
– Зато мы желаем тебе обзавестись красивой любовницей! – воскликнула Анежка и кинулась шефу на шею.
– Тсс! – шутливо шепнул шеф и с удовольствием поцеловал и Анежку тоже, причем в губы. Судя по некоторым признакам, я полагал, что когда-то Анежка выступала уже в этой роли. Мы один за другим произносили поздравления.
– Да-а, – с притворной горечью вздохнул шеф после того, как выпил. – Пятьдесят! Тут поздравлять собственно не с чем. Это совсем не твой случай, Дашенька!
– Ну, меня тоже, можно сказать, поздравлять почти не с чем, – отозвалась Блюменфельдова. – Мне девятнадцать с половиной. Я всегда отмечаю день рождения каждые полгода, чтобы почаще радоваться. Вот почему некоторым кажется, что для своего возраста я отпраздновала уже слишком много дней рождения.
Зазвонил телефон. Трубку взял Салайка и кивнул мне. Прижав трубку к правому уху и заткнув пальцем левое, я гаркнул:
– Алло?
– Привет! – послышался далекий голос Вашека Жамберка. Он немедленно перенес меня в мир барышни Серебряной. Подальше от дыма и фальши этих кабинетов, в прекрасный пляжный мир чарующих обманов.
– Вы там что-то отмечаете? – спросил Вашек.
– Да. У одной коллеги день рождения.
– Я тебе звоню потому… вчера я так и не смог до тебя дозвониться.
– Меня не было. Чего тебе?
– Да ничего. Не стану отрывать тебя от праздника.
Однако было ясно, что он хочет о чем-то спросить.
– Ну давай, говори! – подбодрил его я.
– Я только… слушай, а что она сказала? Ну, тогда, в воскресенье?
– Барышня Серебряная? – спросил я, как будто мне и без того не было ясно, о ком речь.
– Да. Она… ничего такого не говорила? Не смеялась надо мной, а?
– Ты повел себя по-идиотски! Зачем ты сбежал? Она так хорошо о тебе отзывалась.
– Да ты что?!
– Говорила, что с ней такое тоже случается. У нее тоже слабое сердце.
– У меня сердце вовсе не слабое. Это было от…








