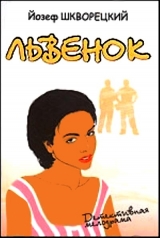
Текст книги "Львенок"
Автор книги: Йозеф Шкворецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– … от волнения, ясное дело! Но для нее у тебя слабое сердце, дошло?
– Не надо так шутить!
М-да, таких шуток Вашек не понимал. Вот грубый юмор – это дело другое. Он подтрунивал над студентками на тренировках по легкой атлетике, отпускал сальности, стоя под душем рядом с обнаженными атлетами. Но в вопросах любви бывал серьезен, как бюрократ.
– Я не шучу. Да, и не забудь добыть билеты на гимнастику.
– Правда?!
– Правда.
– Я добуду, но… как ты думаешь…
– Что?
– Думаешь, это…
– Что – это?!
– Это имеет какой-то… смысл?
– Еще какой, дубина ты стоеросовая! Позвони мне, когда они у тебя появятся!
– Считай, что они уже у меня. Хочешь, я передам их тебе в обед?
– Давай. Тогда в полвторого в рыбном ресторане. Пока!
Я повесил трубку. Вытащил палец из левого уха, но все равно долго еще не мог включиться в общий разговор. Я слушал барышню Серебряную, пытался уловить неизреченную суть ее где-то объективно существующей красоты.
– Ну конечно же, сатира, – услышал я наконец, спустя время, гудение шефа. – Ты права, Дашенька, разумеется, сатира! Но знаешь, что я всегда говорю? Хорошая сатира начинает критиковать существующее положение дел, как только оно меняется к лучшему.
Салайка подобострастно рассмеялся, но шеф поглядел на него непонимающе. Он вовсе не шутил. Пока я мысленно отсутствовал, разговор ступил на тонкий лед Ярмилы Цибуловой. Шеф продолжал:
– Я всегда стараюсь читать любую рукопись глазами товарища Крала. И это принцип, который до сих пор не подвел ни единого редактора.
Поучая, шеф то и дело поглядывал на Блюменфельдову.
Даша уже опять сидела на столе – коленки напоказ, голова склонена к плечу, между бровями – морщинка недовольства. В пылу полемики она забыла о том, что Копанец держит ее за руку.
– Я знаю, Эмил. Но я думаю, что если есть нечто по-настоящему хорошее, то ему надо помогать, несмотря на возможные неприятности.
Она изрекла эту наивную фразу, и вся залилась румянцем. Ее лицо – не уродливое, но и не привлекательное – было сейчас почти красивым.
Шефа потянуло на диалектику:
– Смотря что ты подразумеваешь под словом «помочь». Иногда ради интересов автора издание книги стоит отложить. Если поспешить, то может выйти неприятность, и это отразится на писательской судьбе. Вон, спроси хоть у товарища Копанеца. – Палец, покрытый безукоризненным никотиновым загаром, указал на Мастера прокола, и изгой с виноватым видом отпустил Дашину руку. – Он много чего тебе может рассказать, – продолжал читать нравоучение шеф. – Товарищ Копанец – талант. Большой талант. И что же? Он приносит в «Факел» рассказ, и рассказ этот немедленно отправляется на рецензию к товарищу Кралу. И только после этого можно вести речь об издании. А почему? Да потому, что рассказ написан товарищем Копанецем.
Товарищ Копанец произнес в растерянности: – Это уж точно! – и заслужил сердитый взгляд Блюменфельдовой.
– Вот если бы «Авангард» повременил тогда с печатанием «Битвы за Брниржов», то сегодня товарищ Копанец смог бы себе что-нибудь позволить. А так – даже если он напишет рассказ, в котором не будет ровным счетом ничего, его все равно станут читать крайне придирчиво.
Шеф отечески оглядел комнату. У Салайки сдали нервы, и он принялся энергично кивать в знак согласия. Коблига, спрятавшись за клубами дыма, смотрел на шефа насмешливо. Ему повезло оказаться единственным из критиков, написавшим о «Битве за Брниржов» почти положительную рецензию. Тогда он поторопился и, пока окружение товарища Крала принимало решение о том, что произведение Копанеца должно быть дружно осуждено, сдал рецензию в газету. Коблига, конечно, попытался задержать ее в типографии, но машина напечатала уже половину стотысячного тиража, так что поделать было ничего нельзя. Ценой огромной взятки он добился разрешения хотя бы изменить во второй половине тиража название статьи – вместо «Большой вклад нового романа» там появился «Роман с множеством проблем»; тем не менее Коблига заслужил славу смелого неортодоксального теоретика, которую с тех пор бережно поддерживал.
Шеф его колючий взгляд проигнорировал и посмотрел на Анежку. Анежка вид имела нейтральный и бесстрастно жевала бутерброд.
– Или взять еще, к примеру, товарища Гоушку. О нем тебе многое могла бы порассказать вот хотя бы Анежка. Он принес нам предисловие к Ванчуре. Отличное, хлестко написанное, идейно богатое – казалось бы, полный ажур. Однако же стоило мне его только пролистать, и я сразу понял, что именно скажет по его поводу товарищ Крал. Так было дело, Анежка?
Анежка всколыхнулась и издала некое ворчание.
– Да ты припомни. Ты же его тогда защищала. И я знаю, почему! Не красней!
– Позволь, Эмил, но это же неправда! – восстала Анежка, ибо ее шашни с Гоушкой закончились грандиозным скандалом, после которого комментатор Ванчуры несколько дней ходил с фонарем под глазом, а у Анежки обнаружилось атипичное воспаление надкостницы.
– Да ладно тебе, – отмахнулся шеф. – Короче, это было прекрасное предисловие, интереснейшее предисловие, я его прочел от начала до конца. Но что я тогда сказал? Анежка, сказал я, тут присутствуют некоторые идеи, от которых рукой подать до ревизионизма. И что же произошло? Товарищ Гоушка не дал себя переубедить и, когда мы вернули ему предисловие, переделал его в статью и опубликовал. Что из этого получилось, все мы отлично знаем.
Мы и впрямь знали. В статье Гоушки обнаружили ревизионистские тенденции, и такие же тенденции внезапно обнаружились во всей его деятельности в Институте национальной литературы, так что оттуда его погнали так стремительно, что он и опомниться не успел. Шеф забыл прибавить, что изгнание Гоушки произошло сразу после того, как этот авантюрист подверг резкой критике новую книгу стихов шефа, которую все остальные литературоведы сочли образцом зарифмованной любви к родине. Связь между двумя этими событиями доказать было нельзя, а может, ее и не существовало. Скорее всего подозрение в том, что такая связь была, пало на шефа из-за радикального хода товарища Крала.
– Итак, мы, издатели, – продолжал вещать шеф, – обязаны оберегать таланты. Чаще всего это безрассудные молодые люди, полные безоглядного воодушевления и готовые сломя голову кинуться сами не зная куда. А мы – в их же интересах – можем их вести.
– Куда?! – сердито воскликнула побагровевшая Даша.
– К благоразумию! – пояснил шеф. – За взбалмошность государственных премий пока не дают.
Потом разговор каким-то образом, я не заметил, каким именно, перешел с литературной на другую, до изумления бесстыдную колею. Несгибаемая Блюменфельдова хотела было продолжить прежнюю тему, но Салайка выскочил с непристойным анекдотом, шеф благодарно глянул на него и с прямо-таки поразительным тактом ввернул неприличный еврейский анекдот, после чего Даша отдалась обаянию собственной расы и продемонстрировала невероятные, энциклопедические познания в области еврейских анекдотов – исполнение было неподражаемым, а истории одна другой похабнее. Когда она наконец охрипла, Коблига смело выступил с анекдотом о товарище Хрущеве. В ответ шеф превзошел самого себя и озвучил старую шутку о четырех главных трудностях нашего времени, которая, впрочем, получила уже официальное освящение с высокой трибуны, ибо товарищ Крал на недавней писательской конференции прибег к ней в качестве captatio benevolentiae,[19] адресуясь к недоверчиво настроенным молодым интеллектуалам. Для шефа это все равно был подвиг.
Когда мы уже расходились по своим комнатам, он оттащил меня в сторонку и угостил припозднившимся приглашением:
– Слушай, Карел, не хочешь заглянуть ко мне вечерком? У меня соберется небольшая компания… министр Перла обещал прийти.
Мне не хотелось, естественно, говорить ему, что я уже приглашен к Блюменфельдовой, и потому пришлось солгать:
– Я бы с огромным удовольствием, но… э-э… у меня свидание.
Шеф прищурился:
– С барышней Каэтановой?
Так не годилось. Он мог не задумываясь позвать меня вместе с Верой. Я неопределенно замычал.
Шеф шутливо погрозил мне пальцем.
– С той брюнеткой, да? С барышней Железной, Оловянной или Медной? – сострил он.
– Серебряной.
– Ну так бери ее с собой. Мы начинаем в восемь, если опоздаешь – ничего страшного.
Он похлопал меня по спине и исчез. Как-то слишком уж по-отцовски он со мной держится. Хочет заручиться поддержкой единомышленника, или же… или же, вдруг осенило меня, барышня Серебряная нравится ему чуть больше положенного? А почему бы и нет, собственно? Почему не зайти к нему вечером? Может, наш зверинец тоже покажется Ленке интересным?
– Вы опять мне звоните? – ласково приветствовал меня по телефону ее голос.
– Всего-то второй раз. Мы не могли бы встретиться сегодня вечером?
– Думаю, нет. Мне не хотелось бы стать для вас чем-то будничным.
– Я рад, что вы так обо мне заботитесь. Но если вы так обо мне заботитесь, то не надо мучить меня своим отсутствием.
– Гм, – хмыкнула она. Некоторое время в трубке царила тишина, прерываемая двумя далекими голосами, отменяющими заказ на поставку какого-то пива.
– Вы были вчера у барышни Каэтановой? – ожила наконец моя собеседница.
– Не был.
– Тогда прощайте.
И она повесила трубку.
Я тут же снова набрал ее номер.
– Зверэкс.
– Нас разъединили.
– Нас? Вы ошибаетесь. Это Зверэкс.
Чужой женский голос.
– Я только что говорил с барышней Серебряной, но нас прервали.
– Товарищ Серебряная недавно ушла и вернется после обеда.
– Простите, а вы не знаете, куда она ушла?
– Не знаю.
Я швырнул трубку. Значит, вот вы как, красавица?!
– Мне надо уйти ненадолго. Буду после обеда, – рявкнул я Анежке. Она понимающе улыбнулась. Я пулей вылетел из редакции.
Как я и предполагал, она оказалась на месте. Я увидел ее сквозь застекленные двери еще из коридора. Она восседала в желтом платье с большим декольте на груди и на спине за письменным столом, по которому прогуливался зеленый попугай, с серьезным видом державший в клюве авторучку. За другим столом сидела седая дама в очках.
Я открыл дверь.
– Здравствуйте.
Обе посмотрели на меня, и барышня Серебряная резко втянула воздух и приняла несчастный вид.
– Здравствуйте, – робко повторил я и приблизился к ее столу. – Я из сельхозкооператива в Кунратицах по вопросу о разведении улиток. В последний раз вы нам прислали одних самцов.
Невзирая на свой несчастный вид, барышня Серебряная с ходу включилась в игру.
– Вы тамошний зоотехник?
– Да, с вашего позволения.
– А какая оценка была у вас на выпускном экзамене по зоологии?
– Удовлетворительно, с вашего позволения.
– Я напишу вашему председателю. Вас надо отправить на переэкзаменовку.
– Господи, да за что же, с вашего позволения?!
– Дорогой товарищ! С тех самых пор, как Господь Бог начал сотворять животных, улиток он выпускает только в гермафродитном варианте.
– А не мог, с вашего позволения, Божий ОТК все же проморгать брак?
Седая дама расхохоталась генеральским раскатистым смехом, и представление закончилось. Барышня Серебряная кисло улыбнулась.
– Вы пойдете обедать? – спросил я. Она глянула на часы. Зеленый попугай подковылял к краю стола и подставил мне головку с авторучкой. Я взял ее, написал в блокноте, лежавшем на столе: «Если не пойдете со мной, я начну признаваться вам в любви. Вслух!» И произнес:
– Симпатичная птичка. Как ее зовут?
– Уильям, – сообщила барышня Серебряная убийственным тоном и обратилась к седовласой коллеге: – Госпожа Бенешова, можно мне уже пойти обедать?
Седовласая дама оценила меня сквозь очки. Я одарил ее эффектной улыбочкой.
– Конечно-конечно, девочка, – сказала дама. – Черепашек вы уже зарегистрировали?
– Еще нет.
– Тогда я сама это сделаю.
– Спасибо, госпожа Бенешова.
Барышня Серебряная встала, попугай гортанно запротестовал.
– Не ревнуй, Уильям! – одернула его Серебряная. Птица довольно закудахтала и принялась, подражая дудке, исполнять «Марш кадетов». Барышня Серебряная мельком погляделась в большое зеркало на стене, прошлась рукой по своей вихрастой головке и двинулась вперед в ритме марша.
Я тронулся за ней, не в силах оторвать взгляд от ее изумительной попки.
– Ну и нахальный же вы тип! – подначила она меня на лестнице.
– Я лишился свободы выбора. Меня неудержимо влечет к вам.
– Надо же! Я вчера сказала, чтобы вы отправлялись к барышне Каэтановой.
– Вы что, не понимаете, что требуете от меня невозможного?
– Послушайте… – произнесла она и остановилась. Какой-то торопыга налетел на нее сзади, обнял куда сильнее, чем было необходимо, если судить по силе столкновения, и вежливо извинился. Июльское солнце плавило улицу, и барышня Серебряная в своем желтом платье казалась почти негритянкой.
– Послушайте, – повторила она. – Что я действительно не люблю, так это разбивать чужие отношения.
Я знаю, что вы чудо, барышня Серебряная, сказал я про себя, а вслух проговорил:
– Не было никаких отношений. Во всяком случае с моей стороны.
– Тем хуже. Кто мне совершенно отвратителен, так это мужчины, которые хотят только попользоваться, а обязательств на себя не берут.
– Я не хочу вами попользоваться, а обязанным вам готов быть всю жизнь до самой смерти!
– Я не о себе. Я о вашей девушке.
– Она больше не моя девушка.
Серебряная помрачнела и отрезала:
– Значит, у вас сейчас вообще нет девушки!
Мы свернули на Вацлавскую площадь. Из магазина грампластинок раздался голос вчерашнего саксофона-баритона.
– Слышите? Конипасек!
– Конопасек, – исправила она меня и вздернула подбородок. Никогда раньше мне не приходилось видеть ничего более прекрасного, а зрение у меня было острое.
– Можно мне хотя бы задать вам один вопрос?
– Пожалуйста.
– Почему же тогда вы согласились вчера на свидание со мной?
Она молчала; только упрямо стучала каблучками своих коричневых туфелек.
– Почему, барышня Серебряная?
Мой заданный вкрадчивым тоном вопрос явно проник ей в душу. Она пожала плечами. Одно из них выскользнуло из декольте – Господь Бог изготовил его из светло-коричневого бархата.
– По глупости, – бросила она. – Я же не знала, что вы такой сумасброд.
– Вы не настолько глупы, барышня Серебряная.
– Я всего лишь человек. Иногда я делаю что-нибудь, не подумав.
– Я тоже. Например, в случае с Верой.
– Ну хорошо, – сказала она и снова остановилась. – Но вы хотя бы представляете, каково ей сейчас? Представляете, каково это: любить того, кому на вас наплевать?
Она уставилась на меня широко распахнутыми черными глазищами, и я подумал, что, говоря так, она исходит из личного опыта. У подобной девушки можно было предполагать богатый личный опыт в данной области знаний.
Я заглянул в антрацитовую бездну.
– Определенно начинаю представлять.
– Вы обязаны обставить все как-нибудь прилично, если уж вы ее не любите, – поучала она меня на углу Водичковой улицы, словно очаровательная проповедница. – Дайте ей время, чтобы она могла найти утешение.
– А как же я? Мне вы дадите время? Я тоже нуждаюсь в утешении.
– Вы быстро утешитесь.
– Нет не быстро! Это Вера быстро. Я выступаю за coup de gräce. По-моему, в такой ситуации лучше выхода не придумать.
Барышня Серебряная сосредоточенно нахмурилась.
– За что вы выступаете?
– За coup de gräce.
– Простите, я не владею иностранными языками.
– За удар милосердия.
Антрацитовый взгляд остановился на мне, и я увидел в нем затаенный черный умысел.
– А что бы вы сказали, нанеси я вам удар милосердия?
– Нет, только не это!
– Вот видите!
– Вижу и признаю, – сказал я и предложил деловито: – А давайте заключим соглашение? Я буду еще какое-то время утешать барышню Каэтанову, а барышня Серебряная все это время станет утешать меня. Хотите?
– А что будет потом?
– Барышня Каэтанова выйдет за режиссера Геллена, который обхаживает ее уже почти год, но пока безрезультатно, а я…
Я намеренно сделал паузу. Я ждал: вдруг она не выдержит?
И она не выдержала.
– А вы?
Я молчал. Целых несколько секунд ей удалось не раскрывать рта, но в конце концов она проговорила голосом, в котором тщеславие боролось с самообладанием:
– Так что же вы?
Я заглянул в антрацитовые глубины и сказал как можно более печально:
– Судя по тому, как смотрю на вас я и как смотрите на меня вы, мне потом останется только повеситься.
Тут уж она не удержалась от смеха.
– Ну и клоун же вы, господин редактор! А ведь на самом деле мы с вами обсуждаем очень важные вещи.
– Не спорю.
– И я правда не люблю наглецов. Правда не люблю!
И тем не менее я по-прежнему верил, что в данном вопросе она не являет собой исключение, подтверждающее правило, и что все обстоит ровно наоборот.
Я поднял в присяге три пальца.
– Я исправлюсь. Я больше не буду наглецом. Но вы должны протянуть мне руку помощи. Пойдете со мной сегодня вечером туда, где соберутся интересные люди?
– А может, эти люди интересны барышне Каэтановой?
– Она сегодня днем снимается на «Баррандове», а вечером у нее спектакль.
– Бедняжки балерины, – пожалела ее Серебряная. – Их возлюбленные всегда могут оторваться в свое удовольствие.
– Но мы-то с вами будем в большой компании, то есть под присмотром. Да к тому же на вилле у моего шефа.
– У вашего шефа?
– Да. У того самого, который вам кажется таким сексапильным.
Она задумалась. Мне казалось, что ее глаза без радужек рассыпают крохотные искорки любопытства. Не так уж, значит, всесильна ее нелюбовь к литераторам. Да и не приходилось мне еще встречать женщину, которая не интересовалась бы людьми искусства. А если реализовать этот свой интерес она может, только отпуская шуточки о шефовой сексапильности, то и флаг ей в руки.
– Вы же видели его всего пару минут на пляже, а в торжественной обстановке мой шеф – это просто…
– А во сколько там надо быть? – перебила она меня.
– Ну, – начал я осторожно, – я мог бы ждать вас в пять у Национального…
Внезапно барышня Серебряная энергично замахала рукой и закричала:
– Господин профессор!
Я посмотрел туда, куда указывала ее почти шоколадного цвета рука. В ближайший к нам пассаж как раз сворачивал Вашек Жамберк – в той же отталкивающего вида модной кепочке на голове, что и шеф в воскресенье, и с несчастным выражением на лице. Любовь явно действовала на него удручающе. Он обернулся на волшебный голос барышни Серебряной и, побагровев за считанные доли секунды, сорвал с головы кепку.
– Здравствуйте, Ленка, – проблеял он.
– Привет, – сказал я. – Вот это встреча, а? Представляешь, иду на обед – а тут как раз твоя студентка. Я ее уже пригласил. Она составит нам компанию.
– О-очень рад! О-очень! – пока Вашек заикался, барышня Серебряная будто хлестала меня двумя угольно-черными хлыстами, одновременно пытаясь вставить хотя бы слово. Но потом передумала и обратилась к моему другу с вопросом:
– С вами уже все в порядке, господин профессор?
Из-под багреца на лице Вашека проступил пурпур.
– Да, разумеется. Ничего серьезного со мной не произошло. Я пережил тогда такой… такой волнующий момент… такой…
Говоря с русалкой, Вашек неукоснительно пользовался литературным чешским языком. Вероятно, именно это обстоятельство, ибо ничего иного я заподозрить не мог, и вдохновило барышню Серебряную на сильнейший приступ щебетания, который никогда прежде мне у нее наблюдать не доводилось. Я смотрел на нее, открыв рот, и к тому времени, как мы заняли места вокруг столика в рыбном ресторане, успел уже превратиться в скучного тихого слона.
Я все время только слушал. Они беседовали о физкультуре, причем так, будто на свете нет темы увлекательнее; у барышни Серебряной (конечно же, неслучайно) выскользнуло из платья одно коричневое плечико, и она так и оставила его снаружи. Она, наверное, носила лифчик без бретелек, потому что ничего, кроме этого теплого бархата, видно не было, и мне это нравилось. В русалке мне вообще все нравилось.
Кроме того, что она с чрезмерным энтузиазмом отдается беседе с этой ходячей коллекцией комплексов, а мною совершенно пренебрегает. Или это часть игры? Присмотревшись к Вашеку, к его лишенному мимики лицу спортсмена, я с удовлетворением констатировал: совершенно немыслимо, чтобы этот девственник вскружил голову загорелой барышне. Да, она недолюбливает редакторов, но тем не менее награда за постоянство мне обеспечена. А дожидаться ее я готов хотя бы даже целых две недели.
Потом мне на выручку подоспела сама судьба. Вашек как раз объяснял упражнение, которое называлось «кувырок с подбросом из упора назад» или что-то в этом роде, и для наглядности помогал себе руками. Перед ним стояла тарелка, полная тршебоньского соуса. То, что произошло дальше, имело безусловное право быть включенным в список дурацких личных достижений этого атлета – тех его достижений, которые достойны стать киногэгами. Он хотел опереться руками о стол, чтобы продемонстрировать этот самый кувырок, но оперся о тарелку с соусом. Последний взметнулся вверх и залил барышню Серебряную: от груди до колен ее покрывал теперь слой вареных измельченных молок.
Она неподражаемо взвизгнула:
– Господи! Новое платье!
Вашек оцепенел. Потом, двигаясь, как робот, он достал из кармана грязный носовой платок и устремил свою негнущуюся руку к бюсту барышни Серебряной; на полпути его рука сменила направление и начала судорожно размазывать соус по подолу.
– Погодите! Не надо!
Девушка резко поднялась. В ее глазах стояли слезы, что вызвало у меня сильнейший прилив нежности. Я никогда не видел ее плачущей, да к тому же из-за нового платья. Но тут уже официант заметил, что произошло; торопливо, точно при капитализме, подлетев к пострадавшей, он принялся хлопотливо ее опекать:
– Будьте так любезны пройти со мной на кухню. Мы попробуем смыть это теплой водой.
Олицетворенная взволнованность, он увел русалку, горестно взирающую на свой подол и провожаемую любопытными взглядами. В ее черных глазах явственно поблескивали слезинки, и моя нежность сменилась мощным валом глубокого сочувствия. Второй официант подошел к Вашеку, произнес с насмешливой вежливостью «Разрешите?», ловко переставил тарелку с остатками соуса на сервировочный столик и пометал скатерть.
Когда мы сели на свои места, Вашек был бледен и совершенно уничтожен.
– Обхохочешься, а? – промямлил он.
– Да уж, – согласился я. – Надеюсь, ты к этому так и отнесешься.
К счастью, он думал иначе. И сказал:
– Я пошел.
– Топить горе в вине?
Он не слушал.
– Пожалуйста, скажи ей, что за платье я заплачу. Вот… – он извлек из бумажника пятьдесят крон. – Это за обед.
– Погоди! Есть-то я его за тебя не буду!
– Значит, вернешь. И отвези ее домой на такси. Ей надо будет переодеться. Я пошел.
– Размазня ты, вот кто!
– Без тебя знаю. И совершенно незачем мне об этом напоминать.
– Дождись ее и извинись. И сам вези ее на такси. В такси можно начать атаку.
Я подначивал его совершенно безбоязненно, я знал, что он никогда так не поступит.
– Пока, – буркнул он, чуть не плача.
– А билеты?
Он остановился и снова достал бумажник.
– Вот они. Бери все. Теперь мне туда дорога закрыта.
И тут меня осенила гениальная идея.
– Открыта! Ее там не будет. Она сказала, что ей надо поехать к каким-то родственникам. Если ты не против, я захватил бы Веру.
– Естественно, я не против.
Я вернул ему один билет.
– Оставь его себе и приходи. Не дури, понял? Вере ты нравишься. А я попробую как-нибудь уладить эту историю с платьем.
Вашек обреченно махнул рукой, однако билет забрал. И направился к выходу. Его жуткая спортивная кепка скрылась за углом.
Я уселся поудобнее и поглядел на два оставшихся рыбных соуса. Из тарелки барышни Серебряной торчала ложечка с отпечатком ее пальчика. У меня уже появился четкий план действий, который мне нравился. Это была дьявольская вариация на тему нашего давнего гимназического трюка. На гимнастику я вместо себя отправлю Веру, а барышне Серебряной навру, что с билетами ничего не получилось. Вашек сейчас как раз нуждается в женском сочувствии, а Вера – женщина просто изумительная. Ну, а после того, как я ей такое устрою, она, надо надеяться, придет в расположение духа, благоприятное для моих замыслов.
Если только Вашеку не помешает, что я его друг. Впрочем, с самого сотворения мира это еще никому не мешало.
Она вернулась в чужом цветастом платье и с заплаканными глазами. Я заявил ей, что Вашек с извинениями удалился, но ее, к моей радости, это нимало не заинтересовало.
– Совсем новое платье! – причитала она. – Сегодня я надела его в первый раз!
– Я куплю вам другое.
– Спасибо! – отрезала она. – Господин профессор Жамберк оплатит химчистку.
– А давайте я ее оплачу?
– Меня облил профессор Жамберк.
Я схватил тарелку.
– Тогда я вас тоже оболью!
– Значит, оплатите химчистку той девушке с кухни, которая одолжила мне это платье. Она рыжая, и у нее нет двух передних зубов.
– Я убью вас! – произнес я негромко и почти серьезно.
Глаза у нее блеснули.
– Вас повесят, и одним нахалом станет меньше.
Барышня Серебряная мрачно ела суп и всем своим видом давала понять, что не желает больше обсуждать со мной темы платья и любви. Она сожалела о своем новом платье, а я – о его хорошо продуманном декольте, ибо из этой цветастой дряни бархатное плечико не показывалось. Царила тишина, да такая, что я стал невольно прислушиваться к звяканью ложек за соседними столиками. Когда принесли щуку, я предпринял еще одну попытку.
– Вы когда-нибудь возьмете меня с собой в зоопарк? Вы же пойдете туда еще раз, чтобы проведать шимпанзе?
– Нет, – твердо сказала она. – Я пойду с вами на гимнастику. Но не ради вас, а ради господина профессора. Как бы он не закомплексовал из-за моего платья.
Мне показалось, что к ней потихоньку возвращается ее обычное настроение, в котором она бывала склонна шутить.
– Вечером я принесу вам билет. В первый ряд.
– В первый ряд?
– Конечно. Мы вас ценим.
– Вы? – спросила она. – А я думала, профессор Жамберк.
– Я ценю больше.
– По-моему, молодой человек, вы что-то путаете. И не разговаривайте, в рыбе полно костей. Я пойду с вами сегодня в гости, да не забудьте прихватить билет на гимнастику. В пять у Национального театра.
И на этом стоп. Щука сразу стала на удивление невкусной. Ножи холодно позвякивали, барышня Серебряная вальяжно ела и пила морс. Цветастое платье было таким омерзительным, что вихрастая головка красовалась над ним, как сказочная тропическая орхидея, выглядывающая из мусорной корзины.
Потом она бронзово воссияла на Вацлавской площади. Но тут к нам пристал какой-то любитель собак: всю дорогу до «Зверэкса» он развлекал барышню историями о глистах у животных.
Я молчал и так скрипел зубами, как будто меня самого донимали солитеры.
Глава пятая
Вечеринка в подземелье
Компания у Даши Блюменфельдовой успела уже здорово принять на грудь и потому встретила появление барышни Серебряной в белом платье для коктейлей почти с восторгом. Из своего заграничного источника Даша выловила столько тузексовских бон, что ничего хуже «Блэк энд Уайт» тут не пили, и беседа уже воспарила в сферы между реальностью и фантазией. Весьма органично вплетался в общий разговор голос Даши, выдающей редакционный секрет, который представлял интерес явно не только для нашего небольшого коллектива.
Мы уселись в смехотворные креслица, тоже несомненно валютного происхождения, и стали слушать (я терпеливо, а барышня Серебряная с широко распахнутыми глазами) подробности, касавшиеся перенабора в новом романе известной писательницы. Неизлечимый романтик, она адресовала несколько слишком уж приязненных слов человеку, которого только что велено было забыть, и потому по приказу шефа из каждого экземпляра пятидесятитысячного, уже переплетенного тиража пришлось вырывать по одному авторскому листу (что равняется двадцати четырем страницам) и вручную – после внесения исправлений в две фразы – вшивать туда новый. Народному хозяйству данная операция обошлась в шестизначную цифру, и тем не менее шеф на нее решился. И как всегда, оказался прав. Я не сомневался в том, что выход в свет двух несвоевременных фраз стоил бы лично ему столько, что госказна оказалась бы бессильна.
Барышня Серебряная молчала в изумлении. Она привыкла к обществу знатоков зоологии, а не к людям из культурного закулисья.
Но здесь ее окружали именно они, а она не знала о них ровным счетом ничего. Зато я знал их очень близко. А они меня. Слишком хорошо они обо мне не думали, но в прежние времена я был среди них своим, а мое поведение во времена совсем уж новейшие отличалось такой осмотрительностью, что меня не записали – во всяком случае безоговорочно – в ряды тех людей, при появлении которых надо немедленно сменить тему разговора.
Скорее всего меня считали безобидным засранцем и терпели, во-первых, по старой памяти, а во-вторых, потому, что иногда я подкидывал то одному, то другому денежную работенку. Недавно, к примеру, я подкинул ее тому самому Коцоуру, который сейчас так старательно поглощал Дашино виски. Я договорился о том, чтобы ему заказали перевод южноафриканского поэта, творившего на языке кхоса. Поскольку этим языком в Праге владел только доцент Бублик – академический ученый и знаток поэтики Врхлицкого[20], – то шеф решил доверить ему всего лишь изготовление подстрочника и поручил мне уговорить какого-нибудь здравствующего поэта довести перевод до ума. Я выбрал Коцоура, шеф мой выбор одобрил (Коцоур в свое время сидел и был поэтому своего рода живым укором всем тем, кто не сидел никогда, а совершенное им преступление совершают сегодня и ежедневно тысячи тех, на которых не стукнули), и Коцоур задолго до срока превратил выдержанный в духе парнасизма подстрочник в почти джефферсовские строфы. Гонорар, полученный за изнасилование кхосского поэта, он потратил – несмотря на то, что ему не хватало даже на кофе, – на инсталляции, детали для которых были отысканы им на помойках; своим собственным поэтическим творчеством Коцоур в последнее время пренебрегал.
Таким же, а иногда и куда более существенным, образом я поспособствовал обогащению и многих прочих. Брейхе, который уже до нашего прихода несколько перебрал и теперь, весь скрюченный, неподвижно сидел на бамбуковом стульчике, я, например, когда-то давно устроил более чем выгодный заказ – изготовление тридцатиметрового Начзоны, который украсил собой Вацлавскую площадь. Брейха как художник эволюционировал от сюрреализма к изображениям, напоминавшим потрескавшиеся стены, однако наиглавнейшего нашего сановника он нарисовал почти реалистически (с помощью бригады лакировщиков) всего за два месяца. У него получился неуклюжий сверхчеловек, чьи пуговицы равнялись в диаметре с ковригой хлеба, и в таком виде Начзоны очень понравился не только себе, но и своему ближайшему окружению. Брейха уже распределил мысленно полученные барыши, но ему не повезло: вскоре после этого сановник был предан быстрому (и искусственому) забвению – и Брейха за компанию с ним тоже, хотя было ясно, что он не выбирал натурщика добровольно, а был к нему прикомандирован. Чтобы политически реабилитироваться, он по моему совету нарисовал Маршала.[21] В этой картине, опять же по моему совету, он использовал излюбленный прием замковых живописцев: где бы ни стоял зритель, Маршал непременно заглядывал ему в глаза. Холст (по моему совету) он преподнес товарищу Крпату, отвечавшему за художественное убранство улиц в дни госпраздников. Художественный вкус товарища Крпата был мне хорошо известен, и я знал, что Маршал, преследующий всех взглядом, ему понравится. Но стоило товарищу Крпату повесить картину над своим рабочим столом, как Маршал тоже был предан забвению, а Брейха опять остался ни с чем. Однако же он понял, что за развитие политического процесса я не отвечаю, и сохранил ко мне признательность.








