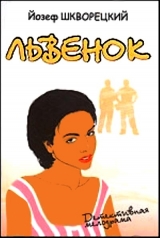
Текст книги "Львенок"
Автор книги: Йозеф Шкворецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Чем дольше листал я страницы, покрытые волнистыми чертами Брата, тем больше утверждался в мысли, что автор наверняка закончила специальное учебное заведение для девушек-нарушительниц общественной морали и что мне надо с ней познакомиться.
И тут я вспомнил о барышне Серебряной. Телефон был под рукой, и я снова набрал номер. В сердце кольнуло, желудок сжался. Барышня Серебряная явно возвращала меня во времена моей юности. Желудочные колики давно уже возникали у меня вне всякой связи с любовными приключениями.
Занято больше не было. Несколько гудков, а потом, словно стаккато сладкой и опасной музыки, уверенный голос барышни Серебряной приятно отчеканил у меня в ухе:
– Зверэкс.
Чтобы сделать голос еще слаще, фоном ему служил клёкот какого-то попугая. Стоило мне услышать эти звуки джунглей, как я позабыл, что молчу, и фантазия добавила к ним видение загорелой обнаженной девушки с взлохмаченной головкой. А она тут же не преминула напомнить о себе:
– Алло! Зверэкс!
– Здравствуйте, – сказал я. – Повторите это, пожалуйста, еще несколько раз.
– У вас телефон разбит, или вы глухой? – спросила барышня Серебряная. Беззлобно спросила, явно меня не узнавая.
– Ни то, ни другое. Но я люблю музыку. А вы говорите так, словно играете на гобое.
– Да это же господин редактор, – произнес крохотный голосок в трубке, и одновременно с этим раскрылась дверь и на пороге возникла Даша Блюменфельдова.
Дашин голос, заставляющий вспомнить об игрушечной жестяной трубе, создал поразительный дуэт с отдаленными звуками гобоя.
– Привет! – сказала Даша, а голос в телефонной трубке подхватил: «Зверэкс, Зверэкс, Зверэкс…» Я закрыл микрофон ладонью и рявкнул Блюменфельдовой «Минуточку» таким тоном, что другая бы на ее месте тут же ретировалась. Но только не Блюменфельдова. Она шагнула к моему столу и уселась на угол.
– Зверэкс, Зверэкс, Зверэкс… Хватит? – спросила Серебряная.
– Не хватит, – ответил я. – Я должен услышать это своими ушами.
– А сейчас вы слушаете чужими?
– Я хочу сказать: без вмешательства техники. У вас найдется вечером время?
– Найдется, но не для того, чтобы твердить «Зверэкс, Зверэкс, Зверэкс», пока это вам не надоест.
– Мне это никогда не надоест.
– Тогда вам придется примириться с техникой. Я наговорю это на пленку и подарю ее вам на день рождения.
Блюменфельдова вся была совершенно беззастенчиво обращена в слух. Под контролем ее любопытных глаз приятная болтовня с барышней Серебряной теряла свое очарование.
– Ленка, можно я перезвоню чуть позже?
– Конечно. Меня сменит товарищ Бенешова. Я ухожу.
– Чтоб ей лопнуть, этой Бенешовой!
– Но она так замечательно произносит «Зверэкс».
– Куда вы идете?
– В зоопарк.
– Я вас там найду.
– Но у меня консультация.
– Какая консультация?
– У Гурвинека глисты.
– У кого? У Гурвинека?
На пухлом личике Даши Блюменфельдовой заиграла обличающая улыбка. Подслушивает, зараза.
– Антропопитекус троглодитес, или же господин шимпанзе, – пояснила Серебряная. Боже мой! Перед моим мысленным взором возник тубист с ампутированной ногой, и провидение дотронулось до меня своей ледяной рукой. Поразительное совпадение! Неужели несуществующий верховный блюститель нравственности собирается покарать меня за Веру?
– В общем… – звякнул голосок в телефоне.
– В общем, после вашей консультации.
– Я буду занята. – Коротенькая пауза – и потом неожиданно: – Лучше вечером. В семь у Манеса[13]. Я редко прихожу вовремя.
– Буду там на полчаса раньше.
– Зверэкс, Зверэкс, – произнесла барышня Серебряная и повесила трубку. Я сделал то же самое. И с удовлетворением отметил про себя, что барышня Серебряная, как я и предполагал, та еще штучка.
– Извини, что помешала токованию, – сказала Блюменфельдова. Она в своей узкой юбке закинула ногу на ногу и нависла надо мной налитой грудью.
– Помешала чему?
– Токованию. От глагола «токовать». «Т» как тетерев, «о» как обольщение…
– Фи! До чего противный неологизм. И знаешь что, Даша… я между прочим в твои токования не лезу…
– Не гневайтесь, сэр. Ваша тайна – моя тайна, вдобавок я о ней ничего не знаю.
Тем хуже, подумал я. Чем меньше они знают, тем большую волю дают фантазии.
Если судить по Анежке.
– Чего тебе? – спросил я.
– Слушай… начальство ведь дало тебе Цибулову, да?
– Ну.
– И ты будешь хорошим мальчиком, правда? Ты не будешь ее громить? Для меня это очень важно.
Пухлой рукой она погладила меня по волосам.
– А зачем бы мне ее громить?
– Ну, вещица не больно-то кошерная.
– Я не придира.
– Я знаю. Просто ты чуть-чуть слишком осторожный.
– С чего ты взяла? – поинтересовался я. За то время, что она проработала в редакции, у меня не было возможности проявить себя с этой стороны. Стихотворцы и без моей помощи стихотворили весьма осторожно. Впрочем, какая разница: значит, слава человека шефа бежит впереди меня.
– Ах, меня не проведешь! – пропела Даша жеманно и соскочила со стола. При этом ее восхитительные груди мягко подпрыгнули. – А вообще-то ты классный парень, и я тебе верю. Слушай, это и правда написано резковато, но надо же когда-то начинать разбираться со здешним дерьмом.
Ее лексикон был таким же замечательным, как и ее грудь.
– Ясное дело. Тем более если это талант…
– Сейчас я тебя удивлю. Она работает воспитательницей в Доме для девушек-нарушительниц общественной морали, так что отлично разбирается в том, о чем пишет.
Я открыл рукопись и принялся копаться в памяти – издавали ли мы когда-нибудь хоть что-нибудь о нарушителях общественной морали. Мне припомнился только «Пир Тримальхиона»[14], из которого шеф, после совещаний на высшем уровне, убрал все эротические сцены, так что потом «Пир» пришлось напечатать в нашем внутреннем журнальчике – до того он неприлично скукожился. А в любом произведении о нарушительницах общественной морали обязательно будут эротические сцены. Да взять хотя бы первую фразу – «Ганка знала уже наверняка: половая связь с Франтой обошлась ей слишком дорого. Она в положении.»
– Ну да, натурализма тут хватает, – прервала мои размышления Блюменфельдова, которая заметила, куда я смотрю. – Но то, что здесь написано, – это правда.
– Что за прокол у нее вышел в «Факеле»?
– Ерунда. Там и было-то всего одно спорное предложение, но как раз его и выловили.
– А почему она его не заменила?
– Уперлась рогом.
– Понятно, – сказал я. – Так…
– Так это-то мне в ней и нравится, – перебила меня Даша.
– Мне тоже. Но ни ты, ни я не являемся последними инстанциями и…
– Да, но если мы будем в них это постоянно пропихивать, то в конце концов они обязательно проглотят, – сказала Даша и потом повторила в более приличном варианте свою идею-фикс: – Пора начинать пробивать достойные вещи.
Пробивать! Я с ностальгией подумал о тех библейских временах, когда от нас требовались только «да» или «нет». Тогда мы ничего не «пробивали».
– Ладно, поглядим. Говорят, ты получила положительный отзыв от Брата?
Блюменфельдова оживилась.
– Точно. А Цибулова сейчас уже не такая упертая, как в «Факеле». Она учла его замечания..
– Вижу, – ответил я и процитировал один подчеркнутый отрывок: – «В темноте она прижалась к нему, взяла его руку и положила на свои груди». Исправлено на «свою грудь». Это она издевается или честно не знает, кто такой Брат?
– Не волнуйся. Брат уехал за границу и запретил посылать ему рукописи, так что этого он больше не увидит.
– А зачем он вообще туда поехал?
– Разобраться, откуда ветер дует, – объяснила Блюменфельдова. – А когда он разберется, то не станет возражать против Цибуловой, потому что ветер дует вполне подходящий.
Она сказала это с абсолютной уверенностью, которая поражала меня в ней с самого начала и которая была ей свойственна во всех сферах деятельности. У меня-то ее не было, этой самой уверенности. Я уставился в рукопись, ничего там не видя. Как, значит, говорил шеф? «Молодая женщина… жизни не нюхала… одержимая… обработает нам половину редсовета…» – а что ее на это толкает? Что, черт побери, она с этого имеет, зачем пробивает рукописи о девушках аморального поведения? Будет биться за какую-то там начинающую писательницу так, точно от этого зависят судьбы мира! Одним писателем больше, одним меньше – да какая, черт побери, разница?! Вселенная стремительно приближается к тепловому взрыву, а если даже и нет, то жизнь все равно коротка и полна неприятностей… По спине у меня пробежал холодок. Какой-то ты будешь, опасная новая эпоха без техники безопасности?
Так что же все-таки движет Блюменфельдовой? Сама она не пишет, что сегодня почти анахронизм. Даже предисловия. Все свои литературные амбиции она концентрирует только в аннотациях. Да еще продвигает эти свои донкихотские книжки.
Хотя выглядит она скорее как Санчо Панса в женском обличье. Невысокая, пухленькая, не то чтобы красивая, но привлекательная, влюбчивая, с прекрасными еврейскими глазами. Она стояла прямо надо мной – ее благословенные груди вызывающе выставляли вперед свои соблазнительные соски, выпирающие из-под купленной в «Тузексе»[15] блузки; загорелой рукой Блюменфельдова опиралась о мой стол. На руке виднелась татуировка: цифры 8394771283. Жизнь она нюхала, тут шеф был неправ. После войны Даша провела три года в Норвегии, в каком-то пансионе для спасенных еврейских детей, там она в совершенстве выучила норвежский, что совершенно не пригодилось ей в редакции, и завоевала приязнь богатой бездетной еврейской супружеской пары, непрерывно снабжавшей ее тузексовыми бонами. Даша безоглядно ими спекулировала, так что жаловаться ей было не на что. В общем, жизнь наша Дашенька уже нюхала.
– Я это прочитаю, – сказал я. – И если все обстоит так, как ты говоришь, то буду рекомендовать.
– Золотце ты мое, – засмеялась она.
– Я осторожный. Тут ты права. Но иногда действительно лучше пробивать нужное поэтапно и не слишком торо…
– Да-да, я все поняла. У тебя это под стеклом. – И она ткнула своим замызганным пальчиком в латинскую надпись на моем столе, вырезанную из старого учебника. – Но теперь у нас начинается новая эпоха. – Она направилась к двери и оттуда еще раз мне улыбнулась. – Да, чуть не забыла. Я завтра свой день рождения праздную. Сколько стукнет, неважно. Приходи, компания подбирается что надо. И прихвати с собой ту девушку, у которой шуры-муры с шимпанзе.
Дверь захлопнулась. Барышню Серебряную. Ах, барышня Серебряная, вы вошли в мою жизнь как раз тогда, когда над ней вот-вот грянет буря гнева. Что ж, возможно, вы – доброе знамение. Возможно, грозовые тучи опять рассеются.
Я взялся за Цибулову. Пора было приступать к рецензированию.
Спустя десять страниц я и думать забыл о рецензии. Я просто читал. Об издании и речи быть не могло, это определенно, и Брат, какие бы там ветры ни дули, явно страдал приступами временного помешательства. Но текст впился в меня, как пиявка. Это не литература, твердил я себе, вот эта вот история девушки из семьи передовиков производства, на которую у родителей вечно не хватает времени. Сюжет был мне знаком: наш редакционный лауреат Жлува уже разрабатывал нечто подобное. Вот именно что «разрабатывал». У него в конце концов на сцену являлся коллектив со своим благотворным влиянием.
Здесь же мог явиться разве что ангел-хранитель. Наклонная плоскость, и девушка, скользившая по ней со скоростью бобслеиста. У Жлувы – социалистическая разновидность хэппи-энда. Здесь… здесь неважно «что», важно «как». Бесконечный треп ораторов, которые у лауреата Жлувы пережевывали бесконечные постановления, причем литературным языком, с едва заметными вкраплениями сленга. И нить воспоминаний, галерея героев и мест; никто никогда про них не слышал, но тем не менее они обладали силой исторической достоверности. Какой-то Возейк, который ходил в «Дерево» с Майдой отплясывать низкий рок-н-ролл, а эту Майду потом замели, потому что она обчищала дачи и занималась проституцией. И Бейк, снискавший себе славу тем, что пьяным провел ночь в танке-памятнике на Смиховской площади, загадил его и за это загремел в колонию.
И вот читал я это и чувствовал, как во мне, к моему ужасу, начинает шевелиться хилый червячок прежних юношеских амбиций. Черт побери, я тоже когда-то хотел так писать! И что характерно – о том же самом! Прежде чем я вовремя вскочил в лимузин литературы, я тоже знавал одного такого Бейка. Его звали Риша, и он промышлял воровством в универмагах. И я был знаком с Майдой, которую звали Кветуша и которая потом отправилась заниматься своим древнейшим ремеслом в немецкий концлагерь. Я хотел, но не писал. Вернее, я попытался. Но меня на это не хватило. Сначала дело никак не шло, а потом я уверил себя, что дело никак не идет. Я занялся поэзией. Родная земля, генералы, генералиссимусы. Пламя, знамя, революция с нами.
Мне пришлось положить рукопись на стол и заглядеться на бюст Ленина на шкафу со справочниками. Над ним висела на стене ленинская цитата. Тьфу! Ерунда какая-то. Блюменфельдова просто рехнулась. Мы не на луне живем. Так что пускай потом на меня не злится. Нет, но до чего же хороша эта Цибулова, такого просто не бывает. А оно есть. Что есть, то есть. Тут я готов снять шляпу. Хотя, с другой стороны, сколько их уже было, подобных шедевров – и где они сейчас? А мы – мы вот они. Нельзя поддаваться гипнозу какого-то там таланта. Вот товарищ Крал наверняка не поддастся. А если бы я и поддался, мне все равно бы пришлось потом поддаться товарищу Кралу. А я не могу этого допустить, особенно в нынешней ситуации, когда я хочу, чтобы мне поддалась барышня Серебряная.
Даже не произнесенное вслух ее имя придало мне сил, привело в чувство, и я окончательно опомнился. Надо как-то из этого выпутываться. Тут распахнулась дверь, и в комнату, точно наводнение, ворвалась Анежка. Разумеется, на голове совершенно новый «девятый вал», только-только от парикмахера.
– Меня никто не искал?
– Искал. Начальник.
– А что ты ему сказал?
– Что ты вместе с Буковским отправилась в парикмахерскую.
– Дразнишься, да? – Анежка села за стол. – Шеф уже прочел предисловие?
– Что-то там у тебя лежит.
– Точно. – Анежка схватила несколько листочков, которые утром бросила ей на стол редакционная секретарша, и углубилась в чтение.
Я тоже. Нет-нет. Какое там! Если бы этакая вот бомба взорвалась, наша литература оказалась бы в страшной опасности, а все мы, что сидим сейчас на ней, свесив ножки, имели бы совершенно дурацкий вид. Как там сказала о моих стихах барышня Серебряная? То, чего она не нашла в них, есть в этой вот прекрасной жуткописи. Никогда я не умел и никогда уже не буду уметь так писать. Однако милостивая эпоха простила меня и даже наградила за изворотливость. Я предал бы мою милостивую эпоху, порекомендуй я вот это. Да-да, все имеет свой конец, и я никогда не строил иллюзий, как некоторые. Жизнь так коротка. Именно в этом и таится надежда. Замешкаешься – и платишь едва ли не золотом. Коротка жизнь, коротка.
– Проклятье! – воскликнула Анежка.
– Что там?
– Представляешь, он вычеркнул мне Паустовского!
Она протянула мне предисловие поэта Буковского к какому-то сборнику стихов. Текст был гладкий, без шефовой правки. Только в самом конце одна волнистая линия. И рукой шефа на сопроводительном листочке написано: «Предисловие хорошее, политически верное, художественно новаторское. Единственное, что я порекомендовал бы, так это убрать цитату из Паустовского на стр. 3. В ней нет необходимости, текст и сам по себе ясен, а автор недавно был подвергнут критике!»
Адью, Цибулова! Я не могу допустить, чтобы тебя когда-нибудь подвергли критике. Извини, но своя рубашка ближе к телу. Дождись следующей фазы общественного развития.
Я встал и отнес недочитанную рукопись Пецаковой.
Глава третья
Манес
Барышня Серебряная свое слово сдержала: была уже половина восьмого, а я все еще подсчитывал блондинок и брюнеток у балюстрады перед Манесом – кого пройдет больше. Блондинки вели, из «супероктавий» и «фелиций» их извлекали пожилые холостяки, в саду какой-то саксофон заходился в приступах стиля west coast, и под эту музыку мой желудок постепенно сжимался до размеров воробьиного – так переживал я из-за барышни Серебряной. Что-то мне подсказывало, что если уж она так охотно согласилась на свидание, то затащить ее в койку будет трудненько.
А солнце сидело на самой макушке Петршинской смотровой башни, точно воплощение медово-бредовой идеи подвыпившего стекольщика, блондинки и брюнетки маршировали в пастельном освещении возле Манеса, и ни одна из них не походила на барышню Серебряную. Барышня Серебряная была неповторима.
Самое обидное, что я верил в это. Я говорил себе: старик, не сходи с ума, неужто тебе нужно повторять циничные прописные истины, которые мы заучивали из-под палки переходного возраста? Ведь что такое любовь? Элементарная погоня сам знаешь за чем… но никакие брутальные рассуждения не оказывали на меня терапевтического действия, я втюрился в Серебряную, и мысли о не слишком поэтичных проявлениях ее метаболизма мне не помогали. Она сияла перед моим мысленным взором, словно обручальное кольцо… в зеленоватом подводном мире Влтавы, в своей золотой наготе, дважды обвитая скромной бирюзой; трамваи звенели, Влтава шумела под плотиной, солнце, отползая от тени Манеса, карабкалось на вторые этажи кремовых домов на противоположном тротуаре и сексуально ласкало гипсовых ангелов на фасадах; время бешеным аллюром помчалось назад, в год от Рождества Христова 1946, тогда я ждал здесь свою первую пражскую девушку, в кармане – студенческие пять крон, желудок корчится от любви и страха, точно Вашек Жамберк… и тут наконец я увидел барышню Серебряную. Она все-таки сдержала слово: выскочила из подошедшего трамвая – и широкая розово-белая полосатая юбка взметнулась выше колен, и розовые босоножки на длинных, умопомрачительных ногах простучали по булыжникам, и вихрастая головка улыбнулась мне.
– Вы пришли вовремя? – спросила она очаровательно.
– На час раньше, – ответил я. – Время без вас для меня не существует. Вам в «Зверэксе» сотрудники не требуются?
Она засмеялась, я поцеловал ей руку. А потом я возносился вместе с ней на террасу и полной грудью вдыхал исходивший от нее аромат лаванды.
Однако на террасе барышня Серебряная пожелала говорить исключительно о литературе. Мне хотелось бы обсуждать ее глаза, я хорошо и с превеликим удовольствием говорил о подобных предметах; вдобавок ее до абсурдности черные очи вдохновляли меня не хуже алкоголя.
Но барышня Серебряная упорно говорила о литературе.
– Черт побери, да почему это вас так интересует?! – спросил я в конце концов. – Вы же уверяли, что не любите литераторов.
– Я такое говорила?
– Припомните-ка! – И я принялся загибать пальцы, как она вчера: – Притворщиков, обманщиков, литераторов…
Она рассмеялась.
– Действительно не люблю.
– Почему?
Она поглядела через перила на речную гладь, где в ослепительном сиянии волн ополоумевшие мужчины добивались расположения юных женщин. По красивому профилю скользнула тень воспоминания. Барышня Серебряная опять повернулась ко мне и смешно приподняла брови. Мелочь вроде бы, а я вот немедленно оказался в нокауте.
– Потому что научена горьким опытом. Один из них однажды мне кое-что сделал.
Я затрепетал от нетерпения.
– Не могу поверить! Вам просто нельзя сделать никакой гадости!
– И тем не менее это была довольно-таки крупная гадость, – сказала она, сделала глоток – и от конца соломинки внутри травянисто-зеленого лимонада отлетели несколько пузырьков: точь-в-точь несчастные души.
– Что же он вам сделал?
Она молчала. Я продолжал настаивать:
– Ну что? Что? Неужели он вас бросил? Нет, не может быть, иначе бы он умер от тоски.
– Вы так думаете?
– Не думаю. Знаю. Вы – словно Неаполь, только наоборот. Не видеть вас после того, как однажды увидел, означает умереть.
Однако барышня Серебряная и не думала таять от моих подлизываний. Я уже напоминал себе Вашека Жамберка.
– Ну, а он не захотел умирать, – наконец проговорила она. – Вместо него… – И она замолкла.
На маленькой сцене в углу террасы опять подал голос саксофон. Он трубил протяжно, печально, точно покинутый стадом слон. В зеленом Ленкином лимонаде вспыхнули рубиновые искорки. Это лучи солнца, клонившегося к горизонту, собрались в зеленом фокусе.
– Что вместо него?
– Да ничего. Просто эта история послужила ему сюжетом для рассказа. Причем довольно глупого рассказа. Слышите, как замечательно они играют?
– Я бы хотел его прочесть. Еще бы ему не быть глупым – ведь описать истинную вас под силу разве что Шекспиру. Вы мне его дадите?
– Да послушайте же! – И она прикоснулась к моей руке своими пальчиками с розовыми ноготками. Мое тело будто пронзил сильный электрический разряд.
– Вы любите джаз?
– Угу, – она энергично кивнула. – Я люблю саксофоны. Особенно баритон.
Я проследил направление антрацитового взгляда и увидел человека, которого (как мне казалось) звали Конипасеком и который как раз и дул в этот самый баритон. Шея у него раздувалась с двух сторон, на лбу набухли жилы. Музыка выходила странная, грубая, ностальгическая, и барышня Серебряная точно впала в транс. Саксофонист дул, как ветер, как тот ветер, что занес сюда из Москвы профессора Льва Ильича Шубатова, от которого все ждали совершенно другого. Но дедушка Шубатов склонил голову к плечу, послушал-послушал этого Конипасека с его ребятами, а потом сказал: «Хорошо играют, молодцы!» А когда один из товарищей прошептал тихо слово «космополитизм», дедушка замотал головой: «Какой там космополитизм! Это музыкальный эксперимент. Нам нужно воевать против механического традиционализма!» И товарищ Пехачек, которому предстояло на следующий день произносить заключительное постановление, быстренько отполз в сторонку, всю ночь трудился в поте лица и вместо Конипасека, который в первоначальном варианте обвинялся в идеологической диверсии, разгромил коллектив под названием «Академическое общество традиционного джаза», использовавший исключительно народные музыкальные инструменты. Барышня Серебряная стряхнула с себя оцепенение, убрала руку, разомкнула электрическую цепь. Саксофон смолк, и какой-то очкарик принялся лупить по вибрафону. Звонкий, нервический голос инструмента нашего века вернул барышню Серебряную к действительности. Она заморгала смоляными ресницами и улыбнулась мне чуть ли не виновато.
– А почему вы любите именно саксофоны? – спросил я.
– Не знаю. Они разговаривают, вам не кажется? С ними можно вести беседу.
– Мне надо было научиться играть на саксофоне. Моя беседа занимает вас куда меньше.
Она опять рассмеялась, опять положила свои розовые пальчики мне на руку – почти ласково положила. Я прикрыл их пальцами своей второй руки. Тогда она немедленно высвободилась и устремила свой антрацитовый взор на Петршин.
– Рассказывайте о вашем шефе, мне это интересно, – проговорила она.
– Вам это интересно?
– Интересно. Я и впрямь не люблю притворщиков, обманщиков и литераторов. Но зато мне нравится про них слушать. Какими они бывают, эти притворщики и обманщики.
– Может, я тогда лучше расскажу о себе?
– Мужчину украшает скромность, – сообщила Серебряная и вознаградила меня новой порцией звенящего смеха. – Про вас потом. А сейчас меня интересует ваш шеф. Мне хотелось бы узнать его анкету.
– Пожалуйста. – Я откинулся на спинку стула, и на мгновение в глаза мне сверкнули последние лучи солнца. – Итак: Эмил Прохазка, возраст сорок девять лет, главный редактор издательства «Наша книга» и по совместительству писатель. Отношение к государственному строю положительное.
Очередное поощрение трелью переливчатого смеха; воодушевленный, я продолжал:
– Уже в ранней юности обнаружил у себя талант поэта, который с тысяча девятьсот тридцатого по тысяча девятьсот тридцать восьмой год целиком посвятил служению идеям Масарика, с тысяча девятьсот тридцать девятого по тысяча девятьсот сорок пятый – служению идеям Иисуса Христа, а с тысяча девятьсот сорок пятого по сегодняшний день – идеям Маркса, Энгельса и Ленина; до двадцатого съезда – еще и Сталина. Его творчество, отличающееся любовью к родному краю, к которой позднее добавилась ненависть к социальным несправедливостям и империализму, было в 1953 году отмечено государственной наградой. Критика ценит его как одного из выдающихся представителей социалистического реализма, в чьих произведениях всегда присутствуют типично национальные, чешские черты.
По мере того, как я говорил, улыбка барышни Серебряной тускнела.
– Вам скучно, да?
– Что вы, наоборот! – поспешно возразила она. – Вы так интересно и четко излагаете.
– Серьезно? Вот видите… а когда я вчера на пляже упомянул о том, что шеф проверяет анкетные данные своих жен, у вас стало такое лицо, что я испугался, что допустил политическую бестактность.
Она широко улыбнулась.
– Мне стало плохо с сердцем, ваши политические откровения тут ни при чем. А что там, собственно, вышло с его женами?
– Вам и это интересно?
Барышня Серебряная втянула в себя последний глоток зеленого лимонада, и на ее лицо упала тень Петршинского холма.
– Ну разумеется. Женщин всегда интересуют сплетни из семейной жизни. Особенно из чужой. – Она взглянула на меня поверх соломинки, которую зажала в зубах, словно сигарету.
– Ах, вот оно что, – протянул я. – Тогда ладно. Итак, первая его супруга была дочерью издателя по фамилии Ваня. Прохазка женился на ней в начале войны, и они прожили вместе до сорок восьмого года. Ее папа платил налог как миллионер. Потом шеф женился на…
– А до того у него никого не было? – перебила она меня. Официант, пролетая мимо, заметил наши пустые стаканы, затормозил и умильно склонился над барышней Серебряной.
– Еще один, мадам?
Серебряная вздрогнула так, словно ее напугали, непонимающе глянула на официанта и покачала головой.
– Нет. Принесите лучше водки.
– Слушаюсь. Одна водка. А господину?
Я радостно таращился на свою визави.
– Мне тоже водку.
– Два раза водку! – возвестил официант миру и улетел. Со стороны сцены донесся долгий басовой призыв трубы.
– Вы пьете спиртное?
Вид у нее был удивленный. Щеки, только что розовевшие так же ярко, как полосы на белом платье, внезапно стали такими же белыми, как само платье.
– Я? Нет. В смысле… иногда.
– А почему именно сейчас?
– А вы почему?
Я всматривался в ее глаза – но безуспешно. Что должна означать эта водка? Что она хочет сокрушить внутри себя некую преграду? Устроить себе нечто вроде того шока, какой получила Верушка? И все из-за притворщиков и литераторов? Я усмехнулся.
– Потому что вы приводите меня в отчаяние. Вокруг так красиво, и вы такая красивая, и мы сидим на такой красивой террасе возле реки – и говорим о моем шефе. Почему мы не говорим о вас?
Она улыбнулась.
– Всему свое время. А терпеливые получают награду. Так ответьте мне на вопрос, который я вам задала.
– А какой вопрос вы мне задали?
– О вашем шефе.
– Своего шефа я с вами обсуждать отказываюсь. Если он вас так интересует, то могу познакомить. Он очень увлекается юными созидательницами социализма.
Мне это уже действительно осточертело.
– Вот возьму и поймаю вас на слове, – сказала барышня Серебряная.
– Буду рад услужить. С удовольствием погляжу на то, как вы опалите себе крылышки. Только считаю своим долгом предупредить, что девиц он меняет примерно раз в квартал. Внебрачных детей у него штук пятнадцать.
– Я сразу заметила, какой он сексапильный, – вздохнула Серебряная. – Меня к нему точно магнитом тянет, прямо сил нет сопротивляться. А с кем он встречался до своей первой жены?
– С госпожой Ганой Бенешовой,[16] – отозвался я. – Тайком, разумеется.
– Да нет, я серьезно!
– А если серьезно, то зачем вам это?
Официант принес водку, быстро обласкал взглядом барышню Серебряную и умчался заниматься менее приятными делами. Ленка немедленно взялась за рюмку, резко, точно изголодавшись, поднесла ее ко рту – и внезапно замерла и посмотрела на меня.
– За исполнение ваших желаний! – предложила она.
– А вам известны мои желания?
Она сделала таинственное лицо. Я обратил внимание, что на ее виске опять запульсировала манящая жилка.
– Думаю, что известны.
– И вы желаете мне, чтобы они исполнились?
Девушка молча, как-то нерешительно держала перед лицом прозрачную рюмку и пустыми глазами смотрела сквозь нее на Петршин, на кровавое, быстро темневшее небо над ним.
– Я добрый человек, – наконец сказала она. – Я желаю, чтобы все в вашей жизни удалось. Но поручиться, что так получится, я не могу.
– Не надо мне ручательств. – Я широко улыбнулся: ко мне вернулось хорошее настроение. – С меня хватит надежды.
Я поднял рюмку.
– Человека никто не может лишить надежды, – сказала барышня Серебряная, и мы чокнулись. – Вот только часто… очень часто… у него не остается ничего, кроме надежды.
Я собрался было ответить на это какой-нибудь двусмысленной сентенцией, но барышня Серебряная стремительно, по-матросски, выпила водку, и мне пришлось последовать ее примеру. А потом я спросил уже про другое – потому что мне показалось, что атаку стоит прервать как раз на таком вот неопределенно-приятном моменте:
– Но почему вас все же интересует мой шеф?
Она состроила мне глазки.
– Я же сказала: женское любопытство. Обожаю сплетни. А что поделывает ваша девушка? Куда, вы ей сказали, вы сегодня пошли?
– Вы обещали, что мы будем говорить о вас.
– Попозже, – отмахнулась барышня Серебряная и оглянулась на официанта.
Он мгновенно навис над нами черной тенью – даже звать не пришлось.
Гораздо позже она рассказала мне кое-что о себе, но – очень мало. Что с детства любила зверушек, что работала в Брно в каком-то биологическом НИИ – ухаживала за подопытными животными. А я и не догадывался, что за подопытными животными тоже кто-то ухаживает.
– Вы их кормили и…
– Я чистила клетки, проверяла их состояние здоровья и всякое такое, – объяснила она. – А еще я ассистировала ветеринару во время операций.
– Операций? Каких операций?
– В основном собаки и кошки. Но один раз мы оперировали волнистого попугайчика.
– Значит, такое еще бывает? – поразился я.
– А почему бы ему не бывать? – поразилась она.
Действительно, почему? Не знаю… Отчего-то в памяти у меня застряли собачьи санатории как один из важнейших признаков загнивания капитализма. Что там, мол, лечат от желудочных колик пинчеров, а безработные тем временем умирают от голода. Из чего следовало умозаключение, что любовь к пинчерам равнозначна нелюбви к трудящимся.
– А им… – забормотал я, отчего-то сбитый с толку тем обстоятельством, что барышня Серебряная никогда не ставила знака равенства между заботой о животных и реакционностью, – а им тоже дают наркоз, или их оперируют… ну… просто так?
– Что значит – просто так?! Ведь они же могут получить психологический шок и умереть. Нет, им дают наркоз, как и людям.








