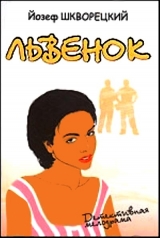
Текст книги "Львенок"
Автор книги: Йозеф Шкворецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Глебкин? – поинтересовался я ехидно.
– Отличный парень, между прочим, – сказала она с чувством. – Доит сейчас, бедняжка, коров на целине. Но долго он их там доить не будет!
Она снова превратилась в отважного еврейского воина.
– Слушай, а ты не слишком большой оптимист?
– Черта с два, – весело откликнулась она. – Это все миниатюрные трудности роста. И я отправляюсь бороться с ними в корректорскую. Счастливо!
Она послала мне воздушный поцелуй и ушла.
Иди-иди, подумал я. Ничему-то тебя жизнь не научила.
А тебя, приятель, спросил мета мой собственный внутренний голос, тебя она чему-нибудь учит? Что если твоя барышня Серебряная вся насквозь фальшивая?
Глава четырнадцатая
Сцена с Цибуловой
И вновь ночь, полная терзаний. И боли в желудке, вызванные жуткими открытиями вчерашнего дня.
Назавтра в нашем редакционном красном уголке состоялась лекция для редакторов: какой-то мужичок рассказывал нам о древнегреческих философах, которых звали Сократ, Платтен и Аристон. Про Сократа мы узнали, что он ничего не знал, Платтен прожил часть жизни в пещере, отбрасывая на стену тени, а Аристон умер от язвы желудка. Рядом со мной сидел Салайка, который старательно вычитывал под столом халтуру – полученную им от вдовы латинского переводчика корректуру «Энеиды» – и вообще не слушал лектора; затем инструктор перешел к еще более любопытной личности – предшественнику Аристона по имени Геркулес, поучавшему, что все течет, что позднее было гораздо более точно сформулировано товарищем Сталиным в произведении «О диалектическом и историческом материализме».
Время от времени этот сильно информированный товарищ заглядывал в записи, сделанные им во время какого-то более серьезного, чем наш, семинара; говоря, он опирался о казенное пианино, купленное шефом на выделенные на развитие культуры деньги – их оставалось слишком много, и потому была опасность, что фонды урежут. Никто и никогда не играл на этом инструменте и даже, кажется, не отпирал его, так что он стоял здесь как материализация добрых намерений, доведенных до абсурда, а на нем возвышалась стопка из семнадцати томов чьих-то Сочинений. Фейербаум, изрекал товарищ, незаметно перебравшийся уже в девятнадцатый век, учил, что человек создал из Бога картину; Салайка как раз дочитал восьмидесятую страницу своей халтуры, Дудек сзади громко захрапел, и инструктор умолк, отпил немного воды и объявил нам, что учение Фейербаума некий Гогель переставил с головы на ноги.
Этот милейший конферанс подарил мне несколько приятных минут забвения: я отвлекся от терзаний и потрясений, и убаюкивающее течение сознания унесло меня на просторы прошедшего времени, которое всегда лучше времени настоящего. Я будто снова очутился в горах, в шикарной вилле, принадлежавшей когда-то богачу и политику Прайссу. Я ел там пять раз в день блюда со сказочными названиями, приготовленные студентками Института питания, которые проходили на кухне обязательную практику; сонный от переедания, я слушал лекции о всех источниках и всех составных частях марксизма, а вечера проводил внизу в баре, где Прайссов патефон наигрывал Прайссовы фокстроты и чарльстоны, где пили вино, подаваемое (по-моему, по собственной инициативе) управляющим виллы, танцевали до поздней ночи, а потом до самого утра блевали в многочисленных туалетах, которые знаменитый миллионер велел понатыкать практически повсюду.
Но все меняется. В память о тех роскошных временах сохранился только этот вот жалкий инструктор, который хотя и рассказывал нам то же самое, что прежние бойкие проповедники из горных шале, но был куда забавнее. Человек, как раз говорил он, произошел, согласно Энгельсу, от очеловеченной обезьяны, и случилось это, когда обезьяна поняла, что большой палец на руке она может отставить от остальных четырех.
А тогда на той самой даче была одна стройная блондинка, очень прогрессивная; я дразнил ее, распевая английские шлягеры, а потом задабривал стишками, которые писал в ее честь. «В сосуде, из которого взяла ты красоту свою, Ирэна, от искры, что еще горела, вспыхнул огонь – и все спалил дотла.» Вот какие я писал стихи – и даже и лучше писал. Потом я включил их в мой первый поэтический сборник и прославился. Именно после этой книги меня стали считать умеренным борцом в рамках закона.
Интересно, а смог ли бы я и сегодня написать что-то подобное… ох, не надо мне было этого спрашивать! Приятные воспоминания отступили, и я очутился в железном объятии мыслей о барышне Серебряной, этой прекрасной и вероломной лицемерке. Моему внутреннему взору вновь предстала сцена в прихожей, и я снова мгновенно поглупел; поглупел настолько, что сказал себе: это невозможно, мы уже добрались до самого конца, и преступником должен оказаться кто-нибудь, кого я знаю с самой первой страницы, кто-нибудь, сыгравший в этом фарсе важную роль; никто новый и незнакомый появиться не может. Но тут я опомнился. А почему нет, собственно? Жизнь не всегда подчиняется четким правилам. Эта девушка полна тайн – сколько еще их приготовлено у нее в рукаве, в декольте, которое я никак не могу забыть и где скрываются полностью загорелые груди – ни у кого я такого не видел и никогда больше не увижу, и это видение завладело мною, подчинило себе, скрутило, видение глаз, ног, страстотерпной улицы, блестящих от дождя крыш, яркого кича на полночном небе, я машинально достал ручку, лектор рассказывал поучительную историю о химике, который создал искусственную мочевину и доказал этим, что человек – венец природы, Салайка перешел к чтению восемьдесят первой страницы, а я – презрев неудачу у башни танка – принялся сочинять стихотворение об этой девушке на фоне луны, об этой змее, об этой Деве, соединившей в себе все католические символы, о барышне Серебряной.
Родились у меня единственная строфа и кошмарное недовольство собой. «Кто ты, и что за тайну ты хранишь – не знаю я, влюбленный менестрель, и оттого, как с серебристых крыш, из глаз моих струится слез Мальстрем». Дальше мне придумать не удалось, я понимал, что это лишь жалкие отголоски элегии Ортена, куда более жалкие, чем то, что написал в подражание Ортену возлюбленный Ленкиной сестры, и что я попросту иссяк. Иссяк из-за неустанного рифмования на любые темы, однако и это тоже совершенно неважно, потому что эта девушка, эта чарующая проститутка, эта манящая головоломка куда прекраснее любых стихов, пускай бы их писал для нее сам Петрарка, а не какой-то там Леден, редактор и рифмоплет… «И вот огнем все выжжено дотла, и красота теперь живая – в тебе одной, и мука злая, как никогда доныне, зла.» Вот что написал я тогда той девушке на профучебе. Но всерьез я прочувствовал написанное лишь сейчас. Когда было уже поздно.
Вот вам и горький конец поэта. Я встал, будто бы направляясь в туалет, и пошел в редакционную библиотеку. На полках выстроились длинные ряды книг, которым мы помогали рождаться на свет. Среди них была и моя. Я вытащил ее, успевшую уже пожелтеть. Она так и осталась неразрезанной, вся целиком – кроме той раскритикованной некогда части, тех семи эманаций, что были посвящены блондинке, столь же активной в постели, как и в работе, Ирэне – теперь я даже не помнил ее фамилии. И того, кем она, собственно, была. Какая-то редакторша из «Сельскохозяйственного издательства». Или из «Областного издательства». Или не редакторша. Я успел позабыть ее; я раскрыл книгу, столько лет никем не раскрываемую и скончавшуюся от желтухи, и мой взгляд упал на стихотворение под названием «Акростих решимости». Текст был набран редко, буквы, стоявшие излишне далеко друг от друга, складывались в слова:
«Рассей вокруг меня угрюмых тьмы теней
и на мои истерзанные раны
излей из нежных, ясных глаз твоих елей.
Ввергай меня в несчастий океаны,
чтобы потом могла из бездн тщеты
меня извлечь, спасительница, ты!
Дай Добродетелью мне научиться звать
то, что на свете не в обыкновенье,
и – Красоты познав прикосновенье —
в блаженстве просветленном пребывать.
Червя тоски в моей душе ты подави;
к вершине по крутым взбираться скалам
решимости мне дай под знаменьем Любви,
не подменив вершины перевалом,
куда проложена тропинка та,
какой влекутся твари без хребта.
Икона звездная ты средь моих тревог!
Радость и всякого источник смысла.
Эллипс, чьи дивно соразмерны числа.
Навзикая житейских всех дорог…
Аминь.»
Я их уже толком и не помнил. Ни блондинки. Ни этого стихотворения. Помнил только, как меня попрекали этим завершающим «Аминь», под которым совершенно ничего не подразумевалось, мне просто требовалось эффектное словечко на «а» в акростих. И тем не менее историю эту я учел на будущее.
Я еще раз перечитал стихотворение. Неужели его написал я? И что, я и в самом деле так думал – или как с этим «аминь»? Это я тоже забыл. Как-то я потихоньку все перезабыл. Почему? Не знаю. Так получилось.
Я сунул сборник обратно в библиотечную общую могилу и вернулся на лекцию.
В пять мы с Блюменфельдовой ждали в кафе «Мокка» Цибулову. Даша была точно на иголках, а я чувствовал умеренное любопытство – какой же она окажется, начинающая писательница, сумевшая погрузить чешский язык в недосягаемые глубины мерзости?
Она пришла с двадцатиминутным опозданием – невыразительная, несколько прыщавая девушка с вислыми прядями светло-каштановых волос. Нервно протянула мне руку, сказала Блюменфельдовой «Привет, Даша!», сняла голубой замызганный плащ-болонью и, оставшись в (ненамного более чистом) розовом свитерке и серой юбке, села за столик. И тут же заказала ликер и закурила.
– Ну что? – жадно спросила она у Блюменфельдовой.
– Плохо дело, – ответила Даша.
Я увидел, как на лице девушки запульсировала непослушная жилка.
– Значит, не издадите?
– Издадим, Ярушка, обязательно издадим, не бойся. Но пока придется подождать. Это все из-за старперов в редсовете!
Нервные грязноватые пальцы стряхнули пепел в закопченную пепельницу, а потом погасили там сигарету. Девушка оглядела кафе, крохотное темно-коричневое заведение, где интимный полумрак входил в цену пирожных и где сидели сплошь парочки, занятые более веселой беседой, чем наша, или же погруженные в молчание. У нее задрожали ресницы, увлажнились глаза.
– Не волнуйся, Ярушка, – принялась утешать ее Блюменфельдова. – Плюнь ты на них. Годик-другой потерпишь, а потом зато – сразу массовый тираж!
– Никогда она не выйдет, – угрюмо прогудела Цибулова. В этих словах прозвучало такое разочарование, что Даша обхватила ее за плечи, и девушка инстинктивно прижалась к ней.
– Ну что ты, Ярушка, что ты! – успокаивающе пробормотала Блюменфельдова, а потом встряхнула всхлипывающего автора. Истеричка какая-то, подумал я. – Хватит, хватит, – повторяла Блюменфельдова. – Да положи ты на этих маразматиков! Чтоб им подавиться этой их «Прекрасной Дортилой»! Твое время придет, Ярушка, верь мне!
Однако упаднически настроенная авторша упорно всхлипывала. Я пришел Даше на помощь.
– Не плачьте, барышня. Если бы не легкие политические заморозки, мы бы вас издали. Ведь все уже было почти утверждено.
– Точно! – вскричала Даша. – А все этот гадина Брат! Чтоб его разорвало, паралитика!
Она баюкала замусоленную голову на самой потрясающей груди Европы, и в конце концов авторша приняла нормальную позу.
– Я так надеялась, – сказала она уныло. – Я так ждала. А теперь меня еще и с работы прогнали, потому что я поверила в Ондрашову, а она взяла и сбежала! У-у-у!
– Прогнали? Тебя?
– Ну да. Я чего хотела-то – чтобы на доверии, понимаешь? А эта самая Ондрашова сделала ноги, и ее поймали на какой-то даче, когда она лямзила там патефон, и они повесили все это на меня! – проговорила она. – Я, мол, экспериментирую на западный манер, вместо того, чтобы…
– Сволочи! – с чувством произнесла Даша, по обыкновению называя вещи своими именами. За соседним столиком вскинул было голову какой-то влюбленный, отвлеченный от поцелуев таким грубым словом, и я увидел свежий алый засос на горле его партнерши. Блюменфельдова же невозмутимо продолжала: – И куда же они тебя засунули?
– В среднюю школу в Беховицах.
– Сволочи!
Тут уж влюбленные переглянулись, и девушка покачала головой. Даша опять ничего не заметила, а Цибулова вытерла слезы.
– А они… – голос у нее прервался. – А им, значит, повесть не понравилась, да?
– Наоборот, – сказал я. – Она им более чем понравилась, барышня! Вот они и испугались.
– Как это – испугались?
– А так – испугались. Того, чего вы не боитесь.
Она, наверное, меня не поняла, потому что сначала посмотрела на пустую рюмку перед собой и только потом – на меня. Влюбленные опять слились в поцелуе.
– А вам… вам не кажется, что моя книжка глупая? С художественной точки зрения?
Блюменфельдова не на шутку возмутилась, причем так громко, что влюбленные даже вздрогнули. Не исключено, впрочем, что в порыве страсти.
– Если ты думаешь, что мы так думаем, то ты дура!
Я быстро добавил:
– Поверьте, барышня, это лучшее, что я прочитал за все время своей работы в издательстве!
Недоверчивые, несчастные, неяркие глаза этой переполненной комплексами девушки поглядели на меня.
– Факт?
– Факт.
– Вот видишь, – проговорила Даша. – Уж если Карел так сказал, то это что-то значит. Ему почти ничего не нравится.
– Я читала ваш сборник… «Здесь и сейчас». Мне пятнадцать было… – Девушка помолчала, слова почему-то никак не шли у нее с языка. – Мне тогда ужасно понравилось, – наконец проговорила она и добавила торопливо: – Ужасно! Факт!
Я улыбнулся. В душе – кисло, внешне – как я, во всяком случае, надеялся – снисходительно. Я отлично понял скрытый смысл словечка «тогда», а Фрейда в своей душе я пока усмирять умел.
– Да что там, грехи молодости! – Я махнул рукой. – Вот если я стану писать, как вы, тогда меня будет с чем поздравить!
И я не кривил душой. Откуда-то всплыл день в начале лета, который я провел, читая рукопись этой вот щуплой грустной девушки. Я исходил тогда ревностью над буквами, потому что от них веяло чем-то таким, что в моих собственных буквах уже давным-давно подохло. Как и во всех тех книгах, что мы печатали тысячными тиражами. Нечто такое, чем все мы любим клясться и на что плюем в своих книжках с высокой колокольни. И называется это «что-то» жизнью.
Цибулова покраснела.
– Ну что вы! Я вообще не умею писать стихи.
– Умеете, – сказал я. – Только в прозе.
Не успела она мне возразить, как заскрипела узенькая деревянная лесенка, по которой надо было взбираться на второй этаж уютного кафе «Мокка», и над полом показалась – с затылка – голова шефа. Она быстро поднималась все выше и выше, пока наконец не обернулась и не заметила меня.
– A-а, привет! – сказал шеф без малейшего энтузиазма и забегал глазами по кафе. Сначала я удивился, чего это он так ими рыщет, а потом сообразил, что ему явно нужны не мы. Закончив инспектирование помещения, он, кажется, пришел к выводу, что объект его поисков сидит во втором зале за углом, украшенным сахарной копией Венеры Милосской. Кого бы ни искал шеф, увидеть этого «кого-то» от нашего столика мы не могли. Он уже совсем было собрался сделать нам ручкой, когда меня осенила совершенно шальная идея.
– Вы ведь незнакомы, да? – произнес я светски и, не дав никому опомниться, представил Цибулову шефу: – Товарищ Цибулова – товарищ Прохазка.
– Ах, это вы! – сурово проговорил шеф, снимая взглядом с прыщавой писательницы ее несвежий свитерок. – Вашу книжку мы отвергли.
Цибулова тут же задрожала снова. Расплачься, Цибуличка, ну пожалуйста, просил я про себя. Пожалуйста, расплачься! Нарочно! Назло!
Но она не расплакалась.
– Слабо, товарищ! – неприязненным тоном продолжал шеф. – Вам следует побольше читать хороших чешских авторов. Старого, Жлуву, Матоуша…
– Мгм, – по-идиотски промычала Цибулова.
– Да и немного теории бы вам не помешало. Вы знакомы, например, с «Теорией отражения в чешской социалистической прозе» товарища Брата? Обязательно почитайте. Вы пока не владеете ремеслом.
У Цибуловой брызнули-таки слезы. Шеф заметил их и смягчился.
– Но вообще-то талант у вас есть. Это бесспорно. Вы умеете наблюдать людей, вот только вам не следовало бы выбирать для своих героев такую необычную среду обитания. Ближе к жизни, товарищ! Если напишете что-нибудь еще, приходите. Всегда с удовольствием прочитаю.
Он протянул ей руку, озарил своей ослепительно-желтой улыбкой и скрылся за углом. Для него проблема была решена. Он опять мог заниматься переизданием классиков и спать спокойно. А Цибулова могла по вечерам сочинять свои натуралистические истории об аморальных продавщицах и прочих отщепенцах. Каждому свое. Jedem as Seine.
Ее так трясло, что я испугался, как бы она чего не выкинула. Прыщавое лицо побагровело, серые глаза, как говорится, метали молнии.
– Засранец сраный! – прочувствованно сказала Блюменфельдова. – Нет, ты слышал?! Ремеслом она не владеет! Можно подумать, шедевры так косяком и прут! Отбиваться от них не успевает!
Цибулова повернулась к ней.
– Даша, скажи: ты правда думаешь, что это хорошая повесть?
– Псих ты, – сообщила ей Блюменфельдова. – Я не думаю, я знаю! И они тоже это знают. Причем лучше, чем ты!
– Так зачем же он так говорит?! – взорвалась Цибулова. – Почему он не говорит правду?! Да я ему глаза выцарапаю! Ишь, плешивец облезлый!
Она сорвалась с места и, похоже, готова была ринуться за угол, чтобы исполнить свою угрозу. Нам пришлось схватить ее за руки и силком усадить обратно. В ее глазах полыхало пламя, по которому я определил наличие у нее маниакальной формы графомании агрессивно-депрессивного типа и почти пожалел, что шеф не поговорил с ней подольше. Неплохо было бы посмотреть, как кто-то наконец реализует угрозы, выкрикнутые уже немалым количеством авторов и непосредственно относящиеся к шефовой физиономии.
Но у него всегда был нюх, так что за углом он скрылся как раз вовремя. Короче, мы проявили себя лояльными сотрудниками и крепко прижали Цибулову к стулу. Даша монотонно нашептывала ей на ухо непечатные слова, и они действовали на девушку, как снотворное. Когда мы напоили ее ликером, вытерли ей нос и утешили, я кое-что придумал и увенчал утешение предложением дружбы:
– Наплюйте на этого нахала и отправляйтесь-ка с нами в субботу потанцевать в Живогошть. Наша редакция устраивает там вечеринку, и мы приглашаем на нее своих авторов.
Приступ уже закончился.
– Но меня же не издадут, – печально буркнула Цибулова.
– Да ведь редсовет поручил нам заботиться о товарище Цибуловой! Даша, ты как считаешь?
Блюменфельдова посмотрела на меня с благодарностью.
– Как ты!
– Тогда я вас приглашаю!
– Факт?
Она подняла на меня свои серые глаза, до такой степени наученные жизнью, что в них всегда плескалось недоверие. Мне бы и в голову не пришло отыскивать там мир, описанный в «Между нами, девочками». И за этими ее словечками и вопросиками тоже ничего такого не скрывалось. Во всяком случае ничего, ради чего следовало бы посылать за границу телеграммы, собирать на заседания высокооплачиваемых мужчин и женщин, писать заумные отзывы, полные иностранных слов, и даже тревожить самого академика Брата и едва ли не предлагать прочитать эту рукопись хорошо информированному товарищу Кралу.
Я улыбнулся и ответил:
– Факт!
– Здорово ты придумал! – сказала Даша. – Мы там все налижемся, и он тоже, и тогда мы надаем ему по морде так, что она у него раздуется, как арбуз!
А потом случилось еще вот что: когда мы уже удалялись от кафе «Мокка», я случайно обернулся и увидел, как из троллейбуса прямо перед кафе выскакивает какая-то девушка, издали страшно похожая на барышню Серебряную. Но я был в обществе двух девушек, по одной с каждой стороны, и вернуться не мог.
В кафе сидел мой шеф. Если это действительно была Серебряная, то что она, собственно, там потеряла? Вашека же там не было.
Хотя я не знал, кто сидел за углом, притаившись за статуей Венеры.
Кроме того, мне казалось, что у меня начинаются галлюцинации.
Глава пятнадцатая
Живогошть
Когда Блюменфельдова опомнилась и поняла, что приглашать Цибулову в Живогошть было не самой лучшей идеей, отменить это приглашение мы уже не могли. Авторша, изгнанная из исправительного учреждения для падших девушек, уехала, чтобы немного «успокоиться», домой, а где находилось это ее убежище, никто не знал. Так что в Живогошть она явилась прямиком оттуда и теперь сидела за столом под олеандром, куда мы из тактических соображений спрятали ее от шефа (все знали, что на таких вечеринках он имеет обыкновение жутко напиваться), и в своем мятом платье из тафты несколько напоминала персонаж из анекдота, который явился во фраке туда, где все были по-простому – в твиде.
За столом подобралась хорошая компания во главе с Копанецем. Маэстро, как всегда, затеял спор – на сей раз с Пецаковой, которая упрекала его за то, что «сатирические выпады» в только что опубликованном им рассказе на военную тему (рассказ читал сам товарищ Крал, который и отправил его в печать, велев вычеркнуть несколько обидных для офицеров в звании старше капитана строк) «ничем не отличаются от клеветы реакционеров на наше руководство». Цибулова уважительно таращила глаза на прославленного писателя, Маэстро время от времени плотоядно поглядывал в ее сторону, в зале висел никотиновый туман (в клубах которого шеф торопливо оправдывал всеобщие ожидания), за широкими окнами поблескивало рукотворное озеро, и все вокруг уже находилось под действием алкоголя.
Я тоже употреблял его в больших дозах, чем привык. За последнее время мои привычки вообще здорово изменились. Так что и спор Копанеца с Пецаковой, в который упорно вмешивался доктор Эрлих, физик-атомщик и муж нашей языковой редакторши, и боевые кличи шефа я воспринимал только как звуковое ассорти, лишь изредка заглушающее громкие жалобные причитания моего сердца.
«Это для тебя что-то вроде барабанов людоедов» – услышал я внезапно слова Маэстро, и столь неожиданное выражение ненадолго отвлекло меня от терзаний; «при их звуках дикари впадают в транс и поедают собственных родителей», вот что вещал Маэстро, и я понял, что спор вертится вокруг темы энтузиазма, который Пецакова полагает «неотъемлемой частью социалистического строительства», а Копанец, напротив, видит в нем «величайшую опасность». Я заметил, как боязливо ежится над своей рюмкой белого вина Эрлихова и как саркастически усмехается Эрлих. А потом я опять отключился, потому что мое внимание привлек коллаж, созданный на глади озера луной, и мне вспомнился другой коллаж, на Влтаве, и другие луны. «Ничто мне так не противно (шел сопровождающий текст Пецаковой к этому изумительному природному явлению), как иронизирующий интеллектуал, который не способен загореться никакой идеей и который своим скепсисом и цинизмом льет воду на мельницу декадентов, реакционеров и хулиганов». Коллаж взрезала серебряная стрела, ее оставляла за собой черная лодка, в ней, повернувшись лицами друг к другу, сидели два человека, мне показалось, что я их откуда-то знаю, да, они казались мне страшно знакомыми, хотя и были очень далеко, на луне, расщепленной бликами черно-серебряных вод. Я опять заинтересовался беседой: на возражение Эрлиха, что, мол, каждое действие требует, согласно диалектике, противодействия, и потому любая социальная группа, выступающая против курса, который выбрало большинство, выполняет необходимую для социума и совершенно органичную функцию, Пецакова ответила теорией о борьбе хорошего с лучшим… а рядом упорно распевал шеф, танцующий с Анежкой… а черная лодка уплыла из моего окна, и я заскучал без нее и услышал, как Копанец бессвязно рассуждает о метафоричности глагола «загореться», указывая на опасность данного явления – в том случае, если оно начнет распространяться со скоростью лавины. Опять появилась черная лодка, опять на нее указывала серебряная стрела за ее кормой, опять возникли черные точки голов, и опять мне показалось – я словно бы обладал орлиным зрением, – что я их узнаю, но лодка пропала, а я погрузился в иные, сокровенные глубины, где в чернильного цвета струях изящно двигалась хорошенькая попка светло-коричневой морской русалки. Оторвал меня от раздумий саркастический голос Эрлиха: «Капитализм с экономической точки зрения просто более жизнеспособен, вот почему социализм становится для меня проблемой…», но вместо Пецаковой возмущенно отозвался Мастер прокола, раздался его громкий рев «Становится? Становится?! Да для меня социализм давно уже сплошная проблема! Как, как сделать, чтобы он из проблемы стал фактом, вот в чем вопрос!»… икота, русалка почти расплылась, чтобы заставить ее станцевать танец живота, я опять влил в себя водку. «Насрать мне на экономику! – голосил Копанец. – Насрать на то, что они больше нашего производят! Но я не могу насрать на то, что мы не более гуманны!.. Вот почему вы не услышите от меня ни слова похвалы в адрес социализма, кто сам себя хвалит, тот вонючка!» А шеф, величавый и пьяный, громко пел что-то партизанское, русалка изгибалась среди водяных струй, ее мир постепенно приближался ко мне, но она ускользала от меня, алкоголь превращался в яд и наполнял болью мою печень, печень отчего-то перемещалась в душу, и черная вода накатывала на белый песок, волна накатывала за волной, черные волны, одна за другой, они выносили на песок скользкие, обглоданные кости… я перепугался, вздрогнул, и это меня разбудило… какая-то слабая боль… я широко открыл глаза, Даша Блюменфельдова держала меня за руку, глубоко впившись в нее покрытыми красным лаком ногтями.
А над нами аллегорической фигурой пьянства высился шеф.
– Вы… вы позволите мне… при…присесть? – пробормотал он и рухнул на стул прямо рядом с Цибуловой. Я все еще боролся с видениями, и держать глаза открытыми стоило мне большого труда. – Вы наш ав…автор. Наш пло…плохой автор. – Зашуршала тафта, я взглянул в ту сторону, из темноты вылупилось прыщавое лицо Ярмилы Цибуловой, на нем уже потихоньку выступал знакомый багровый румянец. Ее рука на столе дрожала. – Ка…Карел, вы в редакции должны научить ее писать! – услышал я слова шефа и заметил другую руку, руку шефа, она обхватывала талию Цибуловой и сжимала ее с пьяной бесцеремонностью… Цибулова приподнялась. – Она… она должна писать хорошо! – бухтел начальник. – А то вы, това… товарищ, пишете про вся…всякие гадости! Вот вы ду… думаете, что умеете писать, а сами не… не умеете!
Я напрягся. Даша тоже, я почувствовал, как ее ногти еще глубже впились в меня.
– Да умеет она! – разъярилась Блюменфельдова. – Уж не хуже вашей Бурдыховой!
Тут мне пришло кое-что в голову, и я решился действовать. Мне вздумалось прибегнуть к пафосу, чтобы закончить этот спор, раньше мне это всегда удавалось, но теперь я не был господином ни своих слов, ни поступков. Я взял бутылку водки, покропил стол вокруг двух рюмок и поднял одну из них со словами:
– Эмил, разреши мне… – Я говорил очень старательно. – Разреши мне…
– Зря… зря ты так, Блюменфельдова! – Я понял, что начальник меня не слушает, рука с водкой упала, я опять опустился на стул. И собрался с силами, чтобы ничего не упустить. – Това…товарищ Бурдыхова – видная писа…писательница! – разгорячился шеф. – И пишет она хорошо, и о хо…хороших вещах. А вот вы, това…товарищ, – повернулся он к Цибуловой, – вы за свою стряп… стряпню никакого зва… звания не получите!
Мой взгляд съехал на талию Цибуловой, на ней появилась смуглая ручка с обкусанными ярко-красными ногтями, которая пыталась эту талию освободить.
– Я… я стараюсь, я пишу, как умею, – звучал голос Цибуловой. – И нечего обзывать мою книжку стряпней! – Голос ее задрожал; чернильные облака у меня перед глазами понемногу рассеивались, я заметил большой кофейник, заказанный для себя Эрлихом, и схватился за него.
– Стряпня и есть! – настаивал шеф. – Товарищ ака…академик именно так и вы-ра…выразился. А он, – ручка оторвала руку от талии, рука взмыла вверх, на ней грозно вздымался указательный палец, – он зря не скажет! Он в этом раз…разбирается! Он уже многое пе… пережил! А вы… что вы такого пережили, что пишете эту га…
– Не говорите так! – гневно зашуршала тафта.
– Гадость! – закончил шеф. Я принял большую дозу кофеина.
– Не говорите так! – взвизгнул срывающийся голосок. Я сделал очередной глоток кофе, и ко мне явилось воспоминание, которого я испугался: схватка в кафе «Мокка», ногти, от которых шеф тогда успел улизнуть за угол; еще один глоток кофе – и шеф, упрямо, пьяно: «А я буду говорить!», и его взгляд перебегает с багровеющего лица на тафту, под которой истерически вздымается маленькая грудь; я снова выпил кофе… «Да и вообще вы не очень-то красивы (тут шеф икнул), так хоть пи…писали бы хорошо. А эта ваша га…» Он не договорил, события развивались, я ощущал, что стремительность движений окружающих приводит меня в чувство, облачко тафты сорвалось с места, голосок взвился до невозможных высот, шеф скатился со стула – в точности так, как рисуют карикатуристы, я даже успел заметить подошвы его ботинок, потом мелькнули тафта и ноги в нейлоновых чулках, блеснули пряжки на подвязках. Клубок тел, Цибулова возит ногтями по лицу шефа, Даша хватает ее с одной стороны, с другой подоспевает Эрлихова, оркестр замолкает, идет сражение с Цибуловой. Внезапно я вижу, как шеф поднимается и семенит через танцевальную площадку, где стоят замершие пары; он прячется за стойкой бара, и растерянные пары снова приходят в движение. Я протер глаза. Напротив меня сидела Цибулова и выбивала зубами дробь, с одной стороны ее держала Даша, с другой – трепещущая Эрлихова.
– Замечательно, мадемуазель, – услышал я скрипучий голос Копанеца. – Жаль только, что вы не выцарапали ему глаз. Он очень в этом нуждался!
Дрожь унималась, действительность приобретала более четкие контуры.
– Не сердитесь, – говорила Цибулова. – Я… такое хамство…
– Ты все правильно сделала, – успокоила ее Даша. В центре зале танцевали фокстрот. Я глянул в сторону бара, увидел, как бармен мажет шефа йодом, а шеф неуверенно косится на наш столик. Какие все это будет иметь последствия? Для меня? Да плевать я хотел! Цибулова сообщила:
– Все вышло так ужасно!
– Ужасно то, что мы к тебе не присоединились, – сказала Даша. М-да.
– М-да, – сказал я. – Получилось как-то даже…
– Символически, – вмешался Копанец.
– Пойдем, – предложила Блюменфельдова. – Тебе надо привести себя в порядок.
Она помогла Цибуловой встать, я внимательно наблюдал за ними, опять глотнув прямо из кофейника. Блюменфельдова пророчествовала:
– Очень скоро он получит по морде от собственных прихвостней. Они же понимают, что он не вечен, и должны отрабатывать свое счастливое будущее! – Сказала – и бросила взгляд на меня.
Я не понял. К чему это она? Кого имеет в виду? Мы же с ней в последнее время держались заодно. Нет, она не могла намекать на меня. Глупости. Когда выпьешь, становишься таким мнительным. Я снова присосался к кофейнику. Абсурд. Ну и ладно. Я провожал взглядом обеих девушек: миновав танцевальную площадку и скорчившегося за стойкой шефа, обе скрылись за распашными дверями. Я выпил кофе. Дверные створки все замедляли и замедляли темп и, наконец, замерли.








