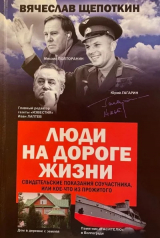
Текст книги "Люди на дороге жизни. Журнальный вариант"
Автор книги: Вячеслав Щепоткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
А там стояли, как стражи у ворот, два современных пожарных корабля. На одном из них вдоль борта, обращённые лицами к бывшему Сталинграду, а теперь Волгограду, стояли ветераны пожарной службы. Среди них – члены команды “Гасителя” разного времени. Их было немного. Нескольких месяцев не дожил почти 90-летний Пётр Васильевич Воробьёв. Сталинградская битва отняла у него сына и любимую дочь. Михаил был офицером и погиб в самом начале сражения. Катя, студентка пединститута, хорошо знала немецкий язык и стала разведчицей. Некоторые из оставшихся в городе жителей помогали нашим, чем могли. В основном доносили о позициях фашистов. Рисковали. Моего деда по матери, Семёна Дмитриевича Бледных немцы хотели повесить, увидев, что он пробирается от наших окопов. Что-то помешало, и он остался жив.
А Катю Воробьёву при переходе линии фронта тяжело ранили в живот и перебили руку. Об этом капитану “Гасителя” рассказал знакомый шкипер, переправлявший его дочь вместе с другими ранеными на левый берег. Смелая девушка, которой едва исполнился 21 год, умерла в госпитале. “Сколько я ни искал её могилку, – говорил мне с болью Пётр Васильевич – даже через годы не утихла эта боль, – так и не нашёл, где можно было бы поклониться”.
Мне удалось разыскать бывшего главного механика “Гасителя”, который теперь работал сторожем на дачах в Краснослободском районе. Именно он заваривал пробоины на судне, когда после Сталинградской битвы впервые поднимали затонувший пароход. 17 сентября 1942 года он зашёл в Краснослободский затон, Волга быстро обмелела, и “Гаситель” не смог выйти. Его приказали поставить на якорь, а команде – сойти на берег. Бои и годы немногих оставили в живых. На поднятый в 43-м корабль пришли вместе с остатками прежней команды новые люди. Они много лет тушили пожары, старились, уходили на пенсию. Теперь с волнением ждали необычной процессии.
И как только буксир приблизился к “стражам” у входа, стоящий на одном из кораблей оркестр грянул марш “Прощание славянки”. А следом из пожарных лафетов обоих судов, на высоту 9-этажного дома поднялись мощные струи воды. Они специально были направлены так, чтобы образовалась большая водяная арка. Все, кто стоял на палубе одного из кораблей, вскинули руки к фуражкам и кепкам. Буксир со стальным корпусом бывшего “Гасителя” медленно подходил к необычной арке. Марш сменился гимном Советского Союза. Несмотря на жаркий день, ветераны стояли в пиджаках. Сверкали на солнце ордена и медали. Старики плакали. Ну, сказать честно, я сам, конечно, не сдержался, тоже горло перехватило – столько дней напряжения, столько надо было организовать! А дома – годовалый сынишка, это тоже требовало забот. Немудрено, что нервы не выдержали.
Вот так встретили и провели на Краснослободский судоремонтный завод то, что осталось от “Гасителя”.
А потом началась волокита. Долго не восстанавливали: шли какие-то согласования. Теперь-то я знаю, какие. При плановой экономике внеплановые порывы энтузиазма не сразу обеспечивались деньгами. А включать народные пожертвования было не принято.
Вдобавок, очень многое зависело от позиции партийного начальства. Я уже уехал из Волгограда в Ярославль, когда узнал ещё об одной, причём далеко не мелкой причине торможения. Мне передали ответ первого секретаря Волгоградского горкома партии на вопрос: почему не делается памятник “Гасителю”? “Ну, вот я сейчас обращусь с этим предложением в Совет Министров Российской Федерации, – сказал он (тогда, в отличие от нынешнего времени, установка любого памятника согласовывалась и разрешалась правительством республики). – А меня спросят: все ли у вас в области хорошо с уборкой хлеба? И хорошо ли, активно ли помогает этому город, которым ты руководишь?”
Когда я узнал об этом, прямо скажу, рассвирепел. В миллионном городе не могут найти не слишком большие средства, чтобы воздать должное тем, кто, по сути дела, был одним из главных участников Сталинградской победы! Я тут же написал статью в газету “Советская Россия”. Это была газета ЦК КПСС. И рассказал о подвигах “малого флота”, о волоките с памятником и позиции первого секретаря Волгоградского горкома партии. Статью напечатали, после чего работа пошла, как нужно. И в 1977 году, к очередному юбилею, памятник был открыт. Он и сейчас стоит в пойме реки Царицы, вблизи главного речного вокзала, в центре Волгограда.
Правда, мне пришлось ещё раз обращаться к судьбе, теперь уже памятника. В чехарде волгоградских губернаторов, назначаемых из Москвы неизвестно за какие заслуги, были совсем случайные люди. Их больше заботило состояние собственного кармана, нежели состояние памятника волжским судам, помогавшим выиграть Сталинградскую битву. Корпус “Гасителя” поржавел, из текста на стеле выпали буквы. Да и текст, честно говоря, вызывает некоторое недоумение. Как говорится, ни слова, ни полслова не сказано о том, что немаловажная, если не главная, заслуга в появлении памятника принадлежит газете “Волгоградская правда”.
Да и нынешнему руководству речного флота можно сделать упрёк. В России ещё со времён Петра Первого существует традиция передавать имя геройского корабля, погибшего или отслужившего свой срок и списанного, новому кораблю. Мне кажется, что на Волге мог бы появиться новый “Гаситель”, принявший имя героя Сталинградской битвы.
Отлив и... отлуп
Теперь, думаю, нужно вернуться к статье “Отлив” в газете “Известия” и к событиям в связи с нею. Когда статья вышла, первый секретарь Волгоградского обкома партии Куличенко тут же позвонил редактору газеты Ростовщикову и отчитал его. “Что это твой Щепоткин позволяет себе? Критикует обком партии... Ты разберись с ним...” Тот взял под козырёк и очередную “летучку” начал со слов: “Кто вам, Вячеслав Иванович, разрешил печататься в чужой газете – “Известия”? Мы должны сделать правилом, что все публикации наших журналистов за пределами “Волгоградской правды” должны быть только с разрешения”. Я вспылил, сказал, что это неправильно, безобразие. Он заявил что-то вроде: если не нравится, можете уходить. Я встал и вышел из его кабинета, где проходила “летучка”.
Потом приходили ребята. Уговаривали не горячиться. “Это всё ерунда, старик. Он, конечно, сморозил глупость, но ты-то будь умнее”. Однако я думал: вот повод уехать в Ярославль. Позвонил Лёне Винникову. Он ещё раз хорошо поговорил с редактором областной газеты “Северный рабочий” Ивановым и сказал: “Приезжай”.
Так у меня получился второй заход в Ярославль.
Глава 3
Репортажи со свалки
Выросший в Сталинграде, я не очень любил этот жаркий, прижатый к Волге выжженной, сухой степью, невероятно длинный город. Между областными центрами Ярославлем и Костромой – 70 километров, а здесь один город – 90. К тому же меня всегда тянуло в леса – леса предсеверной Руси, прохладные, густые.
Термин “Предсеверная Русь” я впервые употребил в одном из сборников под коллективным названием “Любитель природы”. Я обратил внимание на такую деталь: в Ярославле областная газета – “Северный рабочий”, в Костроме – “Северная правда”, в Вологде – “Красный Север”. Все эти газеты основаны в начале XX века. Значит, в то время это был Север. За десятилетия советской власти Север обжитый отодвинулся далеко дальше – на север. Значит, эта территория – предсеверная Русь. Вот такое название я дал ей и продолжаю настаивать, что так оно и есть.
Я приехал в Ярославль теперь уже победителем, крепким журналистом. Тем более что “Волгоградская правда” в рейтинге газет котировалась выше ярославской областной. Редактор “Северного рабочего” Иванов ходил по кабинетам Дома печати и в каждом, раскрыв мою трудовую книжку, говорил: “Вот какие нам журналисты нужны: благодарность вот за эту статью, благодарность за эту корреспонденцию”. Честно говоря, я до отъезда и не знал, что у меня столько записей благодарственных в трудовой книжке. Ну, отмечали на “летучках”, хвалили, приказы вешали “Объявить благодарность...”, но что в трудовую книжку заносили, я этого не знал.
Мне дали квартиру в центральной части города. Лёня Винников женился на той самой подруге Татьяне. Был сын Андрей и у меня. Его сразу устроили в детский сад поблизости – хороший детсад. С ним впоследствии был связан интересный эпизод. Сын уже подрос, по-моему, был в старшей группе. Как– то прихожу за ним. Бегает малышня, а я люблю детей, в молодости говорил: детей будет – футбольная команда с запасными игроками. И в пионерский лагерь поехал вожатым после первого курса университета всё по той же причине: любовь к детям и желание проверить себя как воспитателя. Не буду долго говорить о тех трёх месяцах – лет двадцать, если не больше, не мог быстро остановиться, как только начинал рассказывать: столько нового, интересного, неожиданного для меня втиснулось в эти месяцы. Лагерь был образцово-показательный. Туда каждые выходные приезжали иностранцы, какие-то наши делегации, ну и, естественно, родители. Меня это мало интересовало, а вот сделать третий отряд (второй по возрасту среди мальчишек) дисциплинированной, сплочённой командой – к этому я стремился. Жизнь лагеря была сильно регламентирована. Как отряд утром встал, как вышел на зарядку, как шёл на завтрак и так далее, и тому подобное. А за всё – вымпелы. Как оценка жизни и поведения отряда. Так вот – из 13 вымпелов 12 почти каждый день были у отряда № 3.
После третьей смены я вернулся в общежитие. Ко мне приехала представительница Ленинградского Дворца пионеров с предложением написать книгу об опыте работы: как из расхристанной, неорганизованной толпы пацанов, в том числе трудных подростков (были у меня и такие – изгнанные из старшего отряда), удалось сделать дисциплинированный монолит с интересной жизнью. Я не знал, что назвать опытом? Ежедневные – два-три дня в начале каждой смены – тренировки за пределами лагеря умения ходить строем? Строгим, чётким строем. Проведение каждый вечер отрядной “линейки” после общелагерной. Там третий отряд хвалили, а здесь я отмечал своих героев и порицал своих нарушителей. Да и как вложить в небольшую книжку весь объём страстной жизни, которая была у меня три месяца? Я отказался, надеясь когда-нибудь написать о роли дисциплины для формирования разностороннего человека.
А тогда я пришёл в детский сад за Андреем и, проходя мимо гомонящей пацанвы, спросил: “Ребята, где Андрей Щепоткин?” То, что услышал, поразило меня. “Андрей! Щепота! За тобой папа пришёл!” – раздались крики. Я остолбенел. Двадцать пять лет назад за 1250 километров отсюда так же звали меня, сделав из непростой фамилии такую кличку. Я обижался за неё на старших пацанов, дрался с ровесниками, но отбиться от неё не смог. Помню тёплый сентябрьский вечер, – а в Сталинграде-Волгограде эта пора чудесная: уже не жарко и ещё не холодно. Мы сидим возле нашего из старых досок забора, старшие пацаны играют в карты, мы, кто поменьше, толкаемся, слушаем их разговоры. И мне вдруг так захотелось рассказать обо всём этом многим людям, что я заявил: “Вот вырасту, пацаны, большой, напишу книжку про наше детство. Будет интересней, чем “Васёк Трубачёв”. Была такая хорошая, но, по сравнению с нашей жизнью, благообразная книга: “Васёк Трубачёв и его товарищи”. Колька Бурый, раздавая карты, между делом бросил: “Пиши, Щепота, пиши”.
Мне не удалось сделать книгу. Написал только два рассказа: “Казнь С. Разина” и “Лучше б не было того табора”. Но напутствие Бурого и кличку помнил всю жизнь. И вот за четверть века от моего детства, за тридевять земель от него другие мальчишки нашли те же звуки в фамилии сына.
Получив в Ярославле квартиру, я пошёл посмотреть её. Дом был новый, недавно стал заселяться. Делали его военные строители, а про них молва была нелестная. Настораживающая оценка подтвердилась. Я пришёл в квартиру и не пойму, в чём дело. То ли с глазами непорядок, то ли со стеной что-то не так. Стена, выходящая на лестничную площадку, стояла не прямо, а под углом, под приличным углом. Поэтому я пустил шутку: ребята, приходите, у меня можно на стене поспать.
Ну, отремонтировали, всё сделали. Начал работать. И вскоре после приезда случилось так, что мне пришлось писать фельетон.
“Леший в томате”
На границе Московской и Ярославской областей, в Переславском районе, есть (не знаю, сейчас есть или нет, скорее всего, существует) ресторан “Лесная сказка”. Он знаменит был тем, что там подавались блюда из дичи. Но это, так сказать, открытая реклама. А то, чего не знали люди, было другое. Важные гости из Москвы, попадая на территорию Ярославской области, сразу заворачивали в “Лесную сказку”. Здесь их встречали водкой, коньяком, хорошими блюдами. И уже весёлые и сытые, они ехали в Ярославль. Но расплачивалась за всё это местная птицефабрика. Я этого, конечно, не знал поначалу. Просто пришло письмо, что в “Лесной сказке” сказочно обирают, не доливают, блюда не всегда вкусные.
Я приехал туда. Два дня перед тем не брился. Прикинулся колхозным шофёром. Заказал много всего, мне принесли, в том числе водку. Я попросил официантку позвать завпроизводством. Пришёл мужчина. Я представился ему. Стали изучать, что принесли. Оказался большой недолив водки. А мясо изюбря было настолько жёстким, что я сказал: это у вас пятка лешего, а не изюбрь. Кстати говоря, так родился заголовок “Леший в томате”. Раскрутил я всё это дело. И вдруг слышу: зачем вы наш ресторан трогаете, он у нас начальственный. Так я выявил, что за все эти обеды, ужины для руководящих гостей расплачивается местная птицефабрика.
На фельетон, конечно, обратили внимание в обкоме партии. Говорят, дошло до первого секретаря обкома партии Лощенкова. Ведь, по сути дела, я вскрыл тайную бухгалтерию.
Иванов, прочитав его, сразу поставил в номер. При этом сказал: ну, Вячеслав Иванович, нам с тобой туда ездить не надо пока, а то плюнут в борщ.
Как человеку честолюбивому, мне нравилось, что меня и тут хвалили на “летучках”, отмечали материалы. Но я понимал, что для некоторых моих коллег это неприятно, это вызывает у них ощущение зубной боли.
Ярославщина – край особый. Здесь никогда не было никаких нашествий. В отличие от, скажем, Смоленской земли, через которую прокатывалось каждое нашествие, оставляя следы в языке. Здешнюю губернию только польская интервенция задела краем. Это когда отряд поляков пошёл в Кострому и, как известно, Сусанин завёл их в болото. Будучи закрытым от внешних врагов, Ярославский край, я бы сказал, был очень самолюбивым и даже самовлюблённым. И было отчего. Здесь существовала своя Красная площадь. Здесь был свой Кремль – монастырь, в котором Мусин-Пушкин нашёл “Слово о полку Игореве”. Здесь был открыт первый в России профессиональный театр, созданный Фёдором Волковым. Здесь начал издаваться первый в России провинциальный журнал “Уединённый пошехонец”, благодаря указу Екатерины II и стараниям наместника. Я уже не говорю о том, что в Ярославле и области была высокоразвитая промышленность. И потому в Ярославль, как, скажем, в Москву из других городов страны рвались люди, так и здесь многие мечтали всеми правдами и неправдами из районов области перебраться в областной центр. Особенно журналисты. Работая в районных газетах с их, в лучшем случае, средним уровнем журналистики, эти люди, попадая потом в “Северный рабочий”, привносили с собой и районный стиль, резко отличающийся от стиля многих областных газет. Поэтому, когда меня хвалили, вывешивали материалы на Доске лучших, я видел их “дружелюбные взгляды”. И впоследствии эти серые, тусклые, но агрессивные в своём убожестве “коллеги по случаю”, постарались отомстить мне, когда началась моя борьба против несправедливых обвинений.
Разгром
Отдел быта в каждой газете – это кладезь тем для сатириков и фельетонистов. У одного течёт крыша, у другого разваливается дом, у третьих не работает отопление, четвёртые ездят по разбитой дороге и так далее. Но я не увлекался особенно, по крайней мере старался не увлекаться именно критическими материалами. Писал и о хорошем: о людях интересных, о делах их. Я уверен, что хороших больше, чем плохих. Да и хорошего в жизни, как правило, больше, чем плохого. Правда, смотря в какую эпоху. Нынешнюю эпоху я так оценить не могу.
Я писал фельетоны о том, что плохие бани в Ярославле, о том, что вырубают парк, о том, как ремонтируют дороги зимой и прямо в лужи кладут асфальт, лишь бы деньги списать. Вот так попалась тема, я бы даже сказал, не попалась, а мне её дали, из одного района, где руководители завода стали строить свои дачи из отпускаемых предприятию материалов. Сигнал об этом расследовал областной комитет народного контроля. Факты подтвердились, все виновные признали их. Мне, по сути дела, и проверять не пришлось. В своих объяснительных записках виновники прямо писали: да, мы брали материалы, мы заплатим деньги за них, больше так делать не будем. Я написал фельетон. Факты, изложенные в нём, признал правильными райком партии. Виновные получили взыскания.
Но потом, как мне сказали, на первого секретаря обкома партии Лощенкова вышла то ли его родственница, то ли давняя знакомая, причастная к этой истории, и заявила, будто все герои фельетона не виновны. В областном комитете народного контроля сначала посмеивались над попытками выдать чёрное за белое. Однако увидев желание руководителя области оправдать нужных людей, сменили свою позицию и, как будто не было нескольких папок прежних документов, стали готовить новые. Чтобы доказывать, будто я оклеветал невиновных.
Это было тяжкое время. Я ездил на своём “Москвичонке” в пургу по занесённым снегом дорогам области. Мне помогал найти нужные документы отчаянный старик-правдоискатель Леон Саулович. Были сторонники в редакции, однако, к сожалению, дома поддержки не находил. От меня требовали пойти покаяться, чуть ли не на колени встать и просить прощенья. Такую позицию, наверно, понять можно. Остаться без работы, по сути, в чужом городе – не радостная перспектива. Понять можно, но принять нельзя. Поэтому, разумеется, для меня это было противоестественно.
Дело вышло на уровень центральной прессы. Собкор “Правды” Зоя Быстрова съездила в Москву в свою редакцию к правдинскому фельетонисту Илье Шатуновскому. Показала материалы и фельетон. Он сказал: “Так тут же всё правильно”. Редактор отдела фельетонов газеты “Известия” Владимир Надеин написал справку с приложением всех документов для главного редактора “Известий” Алексеева. Тот прочитал все материалы, фельетон и сказал: “Они же так разворуют всю страну”.
Тем не менее в Ярославле чёрного кобеля, засучив рукава, старательно отмывали добела. Активно толкали колесо неправедного оправдания обиженные мной председатели гор– и райисполкомов. Вносили свою лепту дождавшиеся счастливого часа завистливые коллеги “районного разлива”. Но больше всех, пожалуй, радовался секретарь обкома партии по идеологии Николай Иванович Мялкин, ибо незадолго до моего приезда в Ярославль здесь произошла интересная история, одним из героев которой был как раз Николай Иванович. Там должна была состояться отчётно-выборная областная партийная конференция. На такие конференции всегда приезжал крупный функционер из ЦК партии. А здесь была придворная губерния, да ещё возглавляемая щедрым “царём” Фёдором Ивановичем Лощенковым. Поэтому приехали даже не один, а два солидных партийных туза. Но никто не знал из них, что на этой конференции группа членов бюро обкома партии решила дать бой Лощенкову и попытаться его сместить. Пример Хрущёва, наверное, вдохновлял, да и партийные уставы позволяли такое сделать.
Среди заговорщиков оказались первый секретарь Рыбинского горкома партии, тогдашний председатель областного комитета народного контроля, ряд других членов бюро обкома. Весомым был, конечно, первый секретарь Рыбинского горкома. Его город – второй по численности населения в области, с могучей военной промышленностью, всё время стоял как бы особняком.
Когда началась конференция, оппозиционеры-заговорщики стали выступать. В зале наступила тревожная тишина, ибо такого никогда ещё не было. Оппозиционеры говорили о том, что Лощенков оторвался от масс, что он не знает, как правильно вести партийную работу, что он упускает из виду важные направления хозяйственной деятельности области. И каждый выступающий добавлял свою дозу обвинений. Среди делегатов уже началось немножко волнение. Некоторые засуетились, готовые поднять руку для выступления, чтобы оказаться в числе первых будущих победителей.
Но тут на трибуну вышел редактор газеты “Северный рабочий” Александр Михайлович Иванов, крепкий, коренастый, с крупной головой, на которой дыбом стояли седые курчавые жёсткие волосы. Местный поэт, широко известный в Ярославле такой эпиграммой: “Как увижу ту Галину, сердце бьётся о штанину”, – написал эпиграмму и на Иванова: “Идёт кряжистый, волевой, как будто хочет пукнуть головой”. Иванов был никудышный поэт, его печатали только потому, что он редактор газеты. Зато Александр Михайлович был ловкий царедворец. Он напористо заговорил о том, что критика этих товарищей, которых ему и товарищами трудно называть, огульная и несправедливая. Фёдор Иванович Лощенков – достойный руководитель, он хорошо ведёт область, которая при нём развивается успешно. Ну, и как опытный оратор Иванов разнёс их в пух и прах, называя недостатки у них самих. Оппозиционеры с надеждой смотрели на Николая Ивановича Мялкина, секретаря обкома партии по идеологии, ибо он был их лидером. Он должен был выступить с самыми весомыми обвинениями. Однако Мялкин молчал и пусто глядел куда-то на верх занавеса.
Почему он струсил? А произошло следующее. Незадолго до партконференции Лощенкову пришла анонимка, в которой говорилось о том, что Мялкин за счёт завода “Красный маяк” сделал хороший ремонт своей квартиры и даже вроде бы расписал стены кухни лебедями. Лощенков вызвал его, показал анонимку. Мялкин упал на колени, сказал, что он всё понял и будет дальше исправно продолжать совместную работу. В итоге Лощенков покаялся, сказал, что он учтёт дружескую критику товарищей, что он допущенные ошибки, если они есть, а они есть, конечно, как у каждого, исправит и будет дальше дружно работать со всей командой. Как вы понимаете, в ближайшее время после партконференции все, кто был оппозиционером, кто был даже близок к ним, потеряли свои места и ушли в небытие. На своём посту остался только Мялкин. Но роль свою идеолога области он потерял. Зато возвысился Александр Михайлович Иванов. Он вообще на Мялкина даже не обращал внимания. Так что-то, если по мелочам надо согласовать, то ради бога.
Я однажды был свидетелем его разговора с Мялкиным по телефону. В номере стоял критический материал о филармонии. Мялкину пожаловался, видимо, директор филармонии, и тот позвонил Иванову, сказал, что материал надо снять. Иванов побагровел, а у него это было всегда признаком ярости и гнева, и закричал: “Да пошёл ты...”. И послал его на весь русский алфавит. Один этот факт уже говорил о том, кто кому хозяин.
И тут, пожалуйста, фельетон, который опубликован в газете, и он оказался “клеветническим”. И Мялкину было, конечно, не до ошибки Щепоткина, ему было важно, что ошиблась газета, руководимая Ивановым. И он потирал руки, ожидая, что скоро Иванова удастся сковырнуть. Но заодно Мялкин с удовольствием и наказал бы, разгромил бы меня. Некоторое время назад в одном из фельетонов, не называя его фамилии, я написал: “Это же вам не кухню расписывать лебедями за счёт завода.” Газету ему, конечно, показали. Узнал он, кто это написал. И поэтому заодно и Иванова, и меня решил растоптать.
Иванов, надо сказать, не зря был виртуозом хамелеонства. Он объявил, что я его обманул, хотя он читал и документы, и фельетон ещё до публикации, что я подвёл газету и такое нельзя безнаказанно оставлять. Мне объявили строгий выговор с занесением в учётную карточку, уволили из редакции. При этом многие, в том числе и близкие люди, по-прежнему требовали, чтобы я покаялся, встал на колени. Я сказал: “Нет, этого не будет ни в коем случае”.
После увольнения я пришёл в сектор печати обкома партии. Заведующим там был Валера Тихонов, который до того работал редактором молодёжной газеты “Юность”. У нас были нормальные отношения, мы были товарищами. Я ему говорю: “Валера, а нет ли места хотя бы где-нибудь в многотиражной газете?” Он за столом напыжился, даже как бы поднялся ростом и, глядя куда-то мимо меня, сказал: “У нас для вас места нет нигде”. Полгода потом шла моя борьба от инстанции к инстанции в области, от райкома к горкому, от горкома к обкому. Все оставалось по-прежнему. Но когда в газете опубликовали, что я оклеветал людей, что всё это неправда, начались звонки. Люди говорили: “Вячеслав Иванович, мы не верим этому, не может этого быть”. Я говорил: “Не верьте, всё это ложь, всё это брехня”.
После полугода борьбы мне устроили встречу с главным редактором “Правды” Виктором Афанасьевым. И тут весь процесс остановился.
Пошла команда в Ярославский обком партии: всё прекратить и дать журналисту работу. Мялкин, тот самый Мялкин, позвонил председателю телерадиокомитета Герману Баунову и сказал: “Возьми Щепоткина”.
Герман принял меня. У нас были немножко странные отношения. Мы друг друга знали как Гера, Слава, а тут на летучках, на официальных собраниях пришлось говорить с именами и отчествами. Но это, так сказать, пустяки. Мне выдали диктофон, увесистый такой ящик размерами с приличный чемодан. Я его повесил на плечо и поехал в командировку в Любимский район. Выйдя за городишко, в поле записал голоса жаворонков в небе, потом вернулся и начал знакомство с районом с местного краеведческого музея. Они все, как правило, похожи друг на друга. В каждом есть или кусок бивня мамонта, или ещё что-нибудь ископаемое, есть стенды с древними и старыми деньгами. Особенно много их бывает из Екатерининской эпохи. Я ходил от стенда к стенду, смотрел на портреты известных земляков. Портреты были выпучены от времени. Вдруг на одном стенде я увидел слово “Известия”. И остановился. Читаю: “Иван Михайлович Гронский, бывший главный редактор “Известий”. “Известия” оставались для меня всё время дорогой газетой. Тем более незадолго до этого погрома я уже рассматривался в качестве корреспондента газеты во Владивосток. Теперь, конечно, это дело отодвигалось. На сколько? Неизвестно.
Я прочитал на стенде немного об Иване Михайловиче Гронском. Себе сказал: “Надо будет съездить в Москву, поговорить со стариком. Наверное, что-нибудь интересное он расскажет”. Я тогда ещё не знал, что у нас встреч будет много, что я запишу не один разговор с Иваном Михайловичем, что он будет писать мне письма в Казахстан, что потом я подтолкну руководство газеты к тому, чтобы отметили торжественно его 90-летие.
Об этом человеке надо сказать немного подробнее.
Гронский, Маяковский, Алексей Толстой
Настоящая его фамилия Федулов. Родом он из Любимского уезда Ярославской губернии, той губернии, которую я однажды назвал губернией половых и полководцев. Дело в том, что южные уезды тяготели к Москве. И оттуда шли в половые, то есть в официанты, в рестораторы, владельцы трактиров, причём трактиров не только рядовых типа забегаловок, а элитных. А северные уезды тяготели к Петербургу – к тамошним заводам. И отсюда вышли адмирал Ушаков, генерал Толбухин, другие военные деятели.
Отец Ивана Михайловича, как многие, побывав один, второй, третий раз на заработках в Питере, остался там. Ввязался в революционную борьбу, вступил в партию эсеров-максималистов. Через некоторое время туда приехал и сын, который тоже начал потихоньку втягиваться в революционные дела, тоже вступил в партию эсеров-максималистов, которую покинул в 1918 году, вступив в большевистскую партию. Во время Первой мировой войны Иван Михайлович воевал, был на фронте, за храбрость награждён Георгиевским крестом. Но при этом уже активно вёл пропаганду в войсках, был председателем солдатского комитета. После революции, по его словам, не раз встречался с Лениным. Тот первый раз направил его в Курскую губернию, потом в Коломну. Кстати говоря, в начале 30-х годов популярность Гронского была такой, что его именем назвали колхоз в Курской области и стадион в Коломне. Даже остров в архипелаге Новая Земля имел имя Гронского. Но это до того, как его репрессировали.
В начале 20-х годов он поступил в институт красной профессуры, после которого был направлен в “Известия” заместителем главного редактора Скворцова-Степанова. Когда тот умер, Гронский занял его место. И вёл дело так, что, по его словам, Сталин чаще ориентировался на “Известия” Гронского, чем на “Правду” Радека. Ну, Радек был ещё тот фрукт, ещё та корявая фигура. Я в повести “Разговор по душам с товарищем Сталиным” приводил такой факт. После революции возникло движение “Долой стыд!” Радек активнейше поддержал его и даже лично участвовал в акциях. Однажды он возглавил на Красной площади 10-тысячную колонну абсолютно голых комсомольцев и комсомолок. Эти обнажённые мужчины и женщины несли над колонной транспарант “Долой стыд!” Впереди шёл не отличающийся от других Радек. Судьба этого скверного человечка, по свидетельству современников, вороватого, скользкого, оказалась незавидной. В “Известиях” Гронский встречался со многими известными в ту пору людьми и с людьми, набирающими известность. А за пределами газеты он имел поручения от ЦК ВКП(б) быть как бы связным между руководителями партии и творческой интеллигенцией. Поэтому в его квартире постоянно собирались писатели, художники, артисты. Вот так он часто встречался с Маяковским.
Маяковский писал об “Известиях”: “Люблю Кузнецкий, простите грешного, потом Петровку, потом Столешников. По ним в году раз сто иль двести я ходил из “Известий” и в “Известия”.
Гронский спрашивал меня: “Ну, как Вы думаете, к кому он мог ходить столько раз? Я был главным редактором, у меня был заместитель, который занимался другими делами. Мы часто с Маяковским беседовали, гуляли. Ион мне читал новые стихи. Говорили с Маяковским о жизни”.
В одну из таких встреч с Гронским, когда я приехал к нему в Москву, Иван Михайлович мне рассказал о причине самоубийства Маяковского. Я до того, кстати говоря, и не слышал об этом.
Лиля Брик, злая фурия Маяковского, которая организовала тройственный любовный союз, или треугольник – её муж, Владимир Маяковский и она, – очень не хотела отпускать поэта. Они в общем-то жили за его счёт. Однако её родная сестра Эльза Триоле, которая жила во Франции, однажды познакомила Маяковского с находившейся там российской женщиной Татьяной Яковлевой. Это была красивая молодая женщина, любимица модельера Кристиана Диора, поскольку демонстрировала созданные им наряды. И Яковлева, и Маяковский, по словам Ивана Михайловича, “прониклись друг к другу чувствами”. Проще говоря, понравились друг другу. А Маяковский влюбился в неё. Говорят, когда они входили в какое-нибудь кафе, люди не могли сдержать восторженных улыбок – настолько это была красивая пара.








