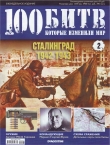Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Глава восемнадцатая
Генерал Горбыч, несмотря на свою грузность, вошел такой легкой и стремительной походкой, что Полине, на мгновение, показалось, будто генерал способен улетучиться мгновенно, как во сне испаряется приятное вам видение. Возможно, что Полина подумала так от волнения, а, возможно, что шныряющие по коридорам штаба молодые, сильные и уверенные командиры создавали вокруг старого и умного генерала атмосферу стремительного, с развевающимися победными знаменами, постоянства.
Она пришла к пропускной будке без пяти девять. Несмотря на то, что возле узкого, как боковой карман в платье, окошечка, стояла длинная очередь, все получали пропуска минуты через две-три. Уже это, казалось бы, маловажное обстоятельство, указывало, что люди здесь приучены к точности и исполнительности, первому закону войны, после смелости. Вдоль стен коридора штаба находились диваны. Ожидающие решений или явившиеся несколько рано, сидели здесь. Некоторые из них спали. Лица их казались померкнувшими от усталости, но это была пленительная усталость боя.
Цеха прельщали Полину, но куда прельстительней были ей комнаты и коридоры штаба, где дело шло как полная повозка, уложенная многоопытным возчиком, ничто-то здесь не упадет, ничто-то здесь не звякнет, все предвидено, все известно – большую тяжесть можно увезти на такой повозке, и увезти далеко-далеко! Словом, выражаясь языком современным, все действовало здесь с максимальной крейсерской скоростью.
– Обычно делается как? – сказал генерал, держа в руках анкету Полины, видимо, затребованную для Заводоуправления. – Обычно, как правило, если у нас нехватка в людях для подобной ответственной работы, мы просим партийные организации, в первую очередь…
Полина сидела подле стола, покрытого сукном, который примыкал к письменному столу генерала, образуя, таким образом, нечто вроде большой буквы «т». В графине с водой отражалась пепельница оранжевого уральского камня с искорками, чернильный прибор с медными медведями, вставшими на дыбы и до блеска песком вычищенными услужливой уборщицей, и за ними кряжистые руки почтенного генерала, который был выстроен прочно, добротно, так что даже сукно на его гимнастерке казалось дубленой на диво кожей.
Пока он смотрел на анкету, Полина думала: «Зачем меня из восьмого отдела послали сюда? Чтобы отказать?» Это маловероятно, потому что не такое сейчас время, чтобы генерал брал на себя всевежливейшие миссии. К тому же, он, видимо, торопился. Полина ждала с нетерпением дальнейшего.
– …но, в данном случае, – продолжал генерал, – у нас есть возможность, товарищ Смирнова, видимо, не беспокоить партийную и иную организацию? Да?
– Вы говорите обо мне?
– [В рукописи пробел.]* Я говорю о вас, – сказал генерал, превосходным немецким языком. – [В рукописи пробел.] Вас, наверное, удивит, что мы, видя вас впервые, хотим дать вам высокоответственное поручение?
– [В рукописи пробел.] Постараюсь оправдать ваше доверие, – ответила также по-немецки Полина.
– [В рукописи пробел.] Вы учились в Баварии? – спросил генерал.
– [В рукописи пробел.] Да.
Генерал опять взял анкету и прочел вслух, что Полина Смирнова знает в совершенстве немецкий и английский, читает…
– Почему же вы, товарищ Смирнова, зная столько языков, поступили простой работницей на завод?
Полина покраснела. Ей не хотелось лгать, а говорить правду ей было немножко стыдно: могло показаться, что она легкомысленна, и тогда ей не дадут ответственного поручения.
– Мне не хотелось покидать родной город, а, будучи актрисой, я боялась, что не принесу большой пользы.
– Или, вернее, вы побоялись секретаря Обкома? – спросил, громко смеясь, генерал.
Полина не поразилась неожиданности смеха. Ей самой хотелось рассмеяться, покажись бы ей, что этот строгий длинный кабинет уместен как обиталище смеха.
– Вы меня не помните?
Полина подумала, что он намекает на свое посещение какого-нибудь концерта ее.
– Нет! Я не смотрю в публику.
– Я тогда еще не был вашей публикой. Я был «дядькой», у которого вы, иногда, качались на коленях.
Полину охватило такое чувство, когда дорога внезапно обрывается и вам нужно спускаться вниз по крутому скату. Она не верила ни своим воспоминаниям, ни своим глазам. А, между тем, она видела за темным, загорелым лицом генерала и за его тремя золотыми звездами безусое, решительное лицо и стройную фигуру, соскакивавшую с коня, веселые приветствия отца, их воспоминания о конармии, для которой отец когда-то выделывал патроны в полукустарной мастерской. Вспомнила она и диван «[В рукописи пробел.]», простеганного рыжего бархата, невесть как к ним попавший. На диване сидит ее отец и этот стройный военный в кавказской рубашке с множеством пуговиц. Громовым голосом он читает стихи Шевченко, Блока, Маяковского… Видение? Это же друг ее отца, «мушка у нашего ружья», как шутя зовет его отец! Затем его провожают. Куда? Кажется, на Дальний Восток или…
– Куда мы вас провожали? – спросила Полина. – Ну да, на Дальний Восток!..
– Конечно! – воскликнул громовым голосом генерал. – Конечно же, на восток!
Он уселся в кресло, откинулся назад и глядел на нее сияющими и довольными глазами:
– Как только я попадал в Москву, я шел на ваш концерт!
– Тогда это просто свинство, что вы не пришли ко мне!
– Конечно, свинство. Но я старик, актеры насмешливы, вдруг думаю, исчезну у вас как видение прошлого и стану пошлым и сюсюкающим…
– Никогда!
Он радостно улыбнулся.
– Тогда жалею, что постеснялся.
Он встал, обошел столы и остановился против нее, всунув широкие руки в карманы.
– Голубушка, а, может быть, вы это зря?
Он указал глазами на анкету.
– Почему зря?
– Смелости, знаю, у вас хватит. Хладнокровия тоже. Вы, вижу, в отца. Да и ребята вас будут сопровождать соответствующие… словом, ваш поход будет обеспечен.
Он присел рядом и, несколько застенчиво глядя ей в глаза, сказал:
– Нам нужен человек, который знал бы баварское наречие. Кроме того, он должен обладать актерской сметкой, мог бы пошутить. Обладал бы хорошим слухом. Вы в танках что-нибудь смыслите?
– Знаю, что есть мелкие и крупные.
– Уже много, – смеясь, сказал генерал. – Но в общем это и не особенно важно. Задача ваша: пройти сквозь танковые колонны и… но, в общем, вас инструктируют. Тут, главное, баварское наречие. Немец сентиментален. Вы в Баварии были ведь?
– Да.
Он встал и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.
– Очень гpустно мне, Полинька, посылать вас в такое дело. Я и по-стариковски спрашиваю вашего отца-покойника: как бы ты одобрил, Андрей? И у меня такое чувство, что в интересах родного города он бы одобрил. Но, с другой стороны, ведь в случае, несчастья, я погублю и талант ваш, и…
Он утер слезы, подошел к ней, поцеловал ее в лоб и, пристально глядя на нее, сказал:
– По-моему, удастся. Психологически: блондинка, нежное лицо, голубые глаза, поет немецкие песни, певица, приехала из Баварии…
Полине все же казалось, что он колеблется. И она сказала:
– Когда нужно выбирать: рисковать ли жизнью одного человека или рисковать жизнью целого города, тyт нечего размышлять.
– Вот и я тоже так думаю, а все же, старый дурак, размышляю. Такая привычка, Полинька! Сколько я вас не видел?
И, не ожидая ответа, охваченный своими мыслями, он спросил ее:
– А туалеты у вас заграничные есть? Есть. Вот хорошо! Львовские? Еще лучше. Будут думать, что вы были во Львове и оттуда к ним… Я убежден, что все сойдет благополучно.
Он волновался. Посылать Полину ему очень не хотелось, но не было другого выхода. Разведка сообщила ему, что немцы хотят направить главный удар танками как раз через тот откос, у которого расположены завод СХМ и мост, выходящий на Проспект Ильича. В бой будут двинуты баварские танковые части. Генерал привык относиться очень критически к данным разведки, как бы тщательно она ни производилась. Во всех армиях мира чаще всего врет разведка – и вовсе не из желания врать, а потому что трудно разобраться сейчас в ежеминутно меняющейся обстановке войны с ее постоянно возрастающим стремлением к маскировке. Генералу казалось, что удар танковых частей будет направлен влево, в обход города, где имелось больше маневренных возможностей, а сюда, к Проспекту Ильича, будут двинуты демонстрационные части с целью обмана. Генерал был убежден, что исходные позиции противника будут находиться в других участках, а не против Проспекта Ильича, но некоторые работники штаба, кажется, думали по-другому. Помимо всего прочего, помимо желания выиграть операцию, генералу хотелось поучить этих слишком самоуверенных командиров. Вот почему он посылал в партизанские отряды, находящиеся в тылу противника, равно как и непосредственно к немцам, несколько новых разведывательных групп и в том числе Полину Вольскую, знаменитую певицу, дочь его друга. Он знал, что ему попадет от секретаря Обкома, когда тот узнает, что он послал Полину, попадет и непосредственно из Москвы… но, он любил этот город! Он родился в нем! Он не хотел отдавать его на разграбление немецкому бандиту!
Он посмотрел на часы.
– Вы отправляетесь в ноль десять, – сказал он.
Глава девятнадцатая
В начале второго ночи, Рамаданов окончил рассказ. В этот вечер они беседовали о разногласиях между Лениным и Плехановым. Матвей не только видел, но и чувствовал тесноту узких комнат гостиниц, где происходили сходки. Ему представлялись возбужденные лица, рассуждающие о социализме так, как будто он наступил уже. Час от часу усиливался и голос Ленина, и его аргументы, и все жизненные условия, которые подтверждали эти аргументы, так же как усиливается и растет ветер, который разгоняет тучи. Споры переносятся на площадь, идет 1917-й, споры оглашают мраморные залы дворцов, которые вот уж никогда не воображали, что здесь будут яростно бороться вера в социализм подошедший и сомнения в нем, словом – большевики с меньшевиками…
Рамаданов встал, потянулся. От обильного курения глаза его несколько опухли и голос охрип. Он проводил до дверей молодого своего друга и пожелал ему спокойной ночи. Матвею нравилось всегда это пожелание. Рамаданов произносил его так удивительно приятно, и с такой, как бы сказать, весенней доброжелательностью, что всегда мерещился Матвею теплый и обильный дождь, листья, развертывающиеся на сирени, и сизые кисти будущих цветов. Он шел по лестнице, повторяя:
– Спокойной ночи! Спокойной ночи!..
А ночь-то оказалась совсем не спокойная! Это он понял, как только вышел на Проспект и вовсе не потому, что ревела сирена тревоги и шли красноармейцы. Сирены как раз не было, красноармейцы не шли, и Проспект, словно завешенный чем-то непроницаемо черным, казался относительно спящим. Его беспокоила Полина. Пришла ли она домой? Что ей сказали в штабе? И какая у нее незаменимая специальность? Не мобилизовали ли ее?
Как раз в это время Полина, держа на коленях чемодан с костюмами и нотами, одетая в крестьянское платье, плыла в дощатке через реку. Неслышно опускались весла. Спутники ее, три сильно пожилых мужчины, напряженно молчали, и Полина чувствовала, что напряжение это вызвано ею: им строго-настрого приказано беречь ее как зеницу ока, и «не дай боже…» – сказал генерал, сжимая волосатый кулак.
Она, ясно, волновалась. Да и как же иначе? Но сквозь волнение ей приятно было думать, что аккомпаниаторша не бросила ее, не эвакуировалась, а, оказалось, переехала на квартирку в две низеньких комнатки, таких ветхих, что даже начальная скорость движений аккомпаниаторши, когда она, увидев Полину, радостно вскрикнула и вскочила, – способна была пробить потолок. Полина не сказала ей, куда направляется, однако тревога и несколько немецких песен, которые заставила Полина проаккомпанировать ей, если и не открыли тайну, то все же намекнули на что-то более опасное, чем сумасбродная идея скрыться на заводе от эвакуации.
Лодка вошла в камыши. Какая-то ночная птица с длинными крыльями, от движений которых заколебались метелки камышей, пронеслась мимо. Перевозчик, погружая шест в ил, сказал, что переправа окончена и что остальные девять километров придется идти по болоту.
– Бо тут шныряют нимцы, – добавил он спокойно.
Как раз тогда же, одновременно с этими словами, Матвей, вдевая цепочку в продолговатое отверстие, спрашивал у Моти, которая открыла ему дверь:
– Ну, как дела?
Свет в коридоре горел неестественно ярко, – Мотя читала рукопись для завтрашнего испытания, а потому ввинтила лампочку посильнее, – бумажки, какие-то щепочки, должно быть, принесенные на подметках с чердака, когда была тревога, обрывки тряпок – весь этот дневной сор был особенно не нужен и даже омерзителен сейчас.
У Моти торжественное лицо, так мало подходящее к ночной обстановке, и вообще вид у нее как у поля спелой пшеницы, когда ее сожнут с одного края, а на другом уже поднимают темный пар…
– Чему радуешься?
– А чему горевать?
– Где Полина? – спросил грубо Матвей, которого раздражал торжественно-самодовольный тон Моти.
– А ушла твоя Полина! Пришла, вишь ты, справиться, как на ней крестьянское платье сидит! Ряженая! Чемодан купила! Я заглянула туда, барахло какое-то на шелковой подкладке!
– В крестьянском?
– А это чтоб ее в эшелон скорее пустили! А там и в городское переоденется, хахаля начнет искать!
– Про меня спрашивала?
– Нет! Ничего.
Мотя говорила неправду. Полина и пришла-то сюда для того, чтобы попрощаться с Матвеем, хотя генерал ей и решительно запретил показываться на Проспекте Ильича. Полина же подумала: неизвестно, куда и в какие дебри закинет ее военная непогода, а здесь она жила среди не чужих, не дальних людей. Ей хотелось сказать Матвею дружеские, хорошие слова, поблагодарить его… она даже уронила слезу, когда услышала, что Матвея нет, и вот эта-то слеза и заставила Мотю, вообще редко лгавшую, солгать сейчас и даже порадоваться тому, что Матвей поверил ее лжи.
– На эшелон, говоришь?
– Да, на эшелон.
Тут Мотя не солгала. Полина, действительно, на вопрос Моти ответила, что уезжает с эшелоном. И ухмыльнулась. В конце концов ведь и лодку с пятью пассажирами можно назвать эшелоном?
– С каким эшелоном?
– А мне надо знать? Пусть уезжает, прах с ней! Одной грязной девкой в городе меньше.
Матвей положил руку на цепочку. Мотя схватила его за плечи и, наклоняя к себе, сказала:
– Матвей! Я за жизнь не стою! Ты видишь, какое горе лежит у меня на сердце?
Дремавшая в ней тоска вся высыпала на ее лице, как иногда вдруг выступает болезненная сыпь. Словно переливы огня и дыма, влекомые ветром от костра, охватили ее. Она вся дрожала, Матвею было неприятно смотреть на нее, – и он, не скажи она этих слов, не дрожи, – кто знает, может быть, и остался. Но он ушел.
Он пересек Проспект, ширина которого угнетала его, и направился к вокзалу боковыми улицами. Восток, если всмотреться, уже напряженно-чутко алел. Казалось, в следующую секунду тучи встрепенутся, расступятся, и в стройной гармонии поднимется неизменно-великое и сладкое солнце.
Однако, то, что казалось приближающимся восходом, было только далеким заревом. Наверное, где-то немцы сбросили бомбы? Не на эшелоны ли, в которых уезжают дети и женщины? Не на те ли повозки крестьян, что заполнили собою все дороги? Ах, горе, горе!
– И месть! – воскликнул Матвей, взмахнув резко рукой и стараясь увеличить шаг, словно он шел за местью.
Месть! Беспощадная, бессонная, горячо сжимающая сердце месть!..
Месть за слезы, за убийства, за надругательства, за все, что претерпевает от этих подлецов наша родина! Месть! Каждое биение сердца должно быть сильно как набат, каждый взгляд должен быть ярко пылающий, как те хаты, которые жгут ныне немцы. Месть!
Бормоча слова о мести и ненависти, Матвей обошел несколько эшелонов. Большинство классных вагонов были открыты, а теплушки, наоборот, плотно закрыты изнутри. Но все равно, пробиться ни в те, ни в другие было невозможно. Матвей заглядывал в окна, раза два окликнул Полину по имени. Какая-то красивая женщина в широкополой, видимо, мужской шляпе, сказала ему, что в их вагоне нет Полин; какая-то старушка вздохнула в ответ, а рядом стоящий старичок, ни с того, ни с чего, назвал его карманником. Полина не показывалась. Где она? Что с нею? Куда она исчезла?
«И почему он ее ищет? – вдруг спросил сам себя Матвей. – Кто она ему? Любовница? Сестра? Племянница? Дочь друга? Нет же ведь ничего! Просто, раз уж он начал добрый поступок, надо его довести до конца. Девушка встала на большой путь, еще два-три шага – и она самостоятельно пойдет. В техническом кружке говорили, что у нее отличнейшие способности к наукам. Кто знает, может быть, она и в университет попадет, или в какой-нибудь институт, станет знающим и толковым инженером, а там, дальше, только не зевай – в депутаты Верховного Совета выйдешь!»
Откуда взялся эшелон? Никогда она не спрашивала об эшелонах, и когда стали записывать желающих переехать вместе с импортными станками в Узбекистан, чтобы там основать филиал завода, она не выразила желания. Встретила мужа, любовника?!
Матвей остановился. Перед ним была та самая улица, на которой он впервые встретил Полину и где она спросила у него спичку. Вон там, через квартал, будет та будка с афишами. Матвей прислонился к палисаднику. Ему не хотелось идти к будке, словно он ждал, что там скажут ему дурное про нее. В палисаднике росла малина. Длинные ветви ее лезли в открытые окна домика, откуда несся храп усталых людей и пахло давно не мытым бельем и непроветриваемыми матрацами.
«Муж?! Значит, что же, ревнуешь? Значит, полюбил?»
Матвей рассмеялся.
«Так не любят!»
Вернулся он домой в шестом часу. Открыла ему мать. Он заснул немедленно, каким-то тяжелым, стекловидным, мутным сном, где почему-то перед ним, все время, вился бесконечный винт.
Вечером он позвонил генералу Горбычу и сказал, что желал бы побеседовать с ним по некоторым вопросам самозащиты завода. Генерал с небывалой охотой обрадованно крикнул в телефон, что ждет его немедленно, что вопрос, который хочет поставить Матвей, несомненно, подготовлен самой жизнью.
Всю дорогу к генералу Горбычу, Матвей думал о дружбе и вражде. «Что такое друг?» – спрашивал он сам себя. И быстро отвечал: «Человек, строгий и одновременно добрый к сподвижникам своим – вот кто им друг. Он должен пребывать в постоянном действии, стремясь отдать за них жизнь, ибо жизнь – сплошная опасность для друга твоего. Что такое враг? Человек, стремящийся уничтожить твоего друга, перерезать нить дружбы; ту самую нить, на которой висит груз, дающий определенное направление нити. Выбивай нож из руки врага!»
И он вздрагивал от ненависти.
И вспоминалась ему высокая, цвета светлого сапожного крема, ограда из лес<с>а, в одном из городков Средней Азии. Он только что вышел из госпиталя, где залечивал сломанную ногу. Демобилизовавшись, он возвращался домой. Последний раз он идет среди дувалов и видит горы и легкий ветерок, бегущий с них. Ветерок колышет садики по ту сторону дувала, к нему доносится запах отцветающего урюка и зацветшей вишни, нежный, чуть уловимый. Всходит солнце. Со дна долины поднимаются клубы тумана. Они медленно ползут по откосам гор. Неопытному человеку может показаться, что вот-вот солнце скроется в тумане. Но солнце, властной и в то же время ласковой рукой, проводит по долине – и тумана нет.
Дружба – это солнце победы!
Глава двадцатая
Начальник штаба, темное лицо которого изредка освещалось трагической улыбкой, говорил медленно и без особого почтения к Матвею. Все эти батальоны истребителей, ополчение, отряды самообороны и самозащиты казались ему красивой, но малополезной выдумкой. Он верил только в кадровые войска. Поэтому звуки его голоса и все его движения напоминали ход сильно уставшего упряжного животного, вола, а скорей всего, буйвола; да и глаза у него были круглые и большие как у буйвола.
– Необходимость установки противотанковых батарей вдоль Проспекта Ильича и в примыкающих к нему районах диктуется: а)… – говорил он медленным, как движение парома, голосом. – Не только тем, что рабочие СХМ, беспокоясь за свои не эвакуированные еще семьи, желали бы видеть противотанковые орудия защищающими их семьи, а их самих, рабочих, защищающими откос и цеха, но и б) – тем, что возле Проспекта и на таковом из-за рельефа местности, скорее всего можно ожидать появления танков противника.
Генерал задал два-три вопроса и обратился к Матвею:
– Вы имеете что спросить?
Слова начальника штаба обвили сознание Матвея, как ползучее растение обвивает вам ноги. Ему трудно было сообразить, столько ему чудилось препятствий, которые не перешагнуть, не оттащить, не отвлечь. В голове – полный беспорядок, тем не менее он сказал:
– Все в порядке. Вопросов нет.
Начальник штаба вышел. Генерал тягуче улыбнулся, словно он долго сдерживал себя.
– Вы на него внимания не обращайте. У него голова обычного хода. Ему на новые методы трудно переходить.
«Зачем же тогда держать?» – хотел спросить Матвей, но сдержался, дабы генерал не подумал, что он – Матвей вмешивается в распоряжения военных властей. Но генерал понял его.
– Держу затем, что человек знающий, спокойный и способен усваивать довольно быстро то, что ему внушишь.
Это понимание друг друга успокоило Матвея, и он осмелился спросить:
– Тут из нашей бригады вызвали в штаб девушку… Полину Смирнову. Что с ней?
– С ней благополучно, – сдержанно ответил генерал.
Он откинулся в кресле, этим движением как бы говоря, что не стоит продолжать разговора на такую тему. Но Матвей был упрям – и генерал знал это. Вот отчего, – да к тому же Матвей ему нравился, – генерал сказал то, что вряд ли сказал бы кому другому:
– Она поехала со специальным заданием. Бригаде своей скажите, что, мол…
– Знаю как сказать, – резко проговорил Матвей.
– Знаете?
Генерал посопел носом.
– Я доволен, что знаете. Очень доволен. Вот если б у вас имелась еще уверенность, что она проберется благополучно, я бы вас приветствовал.
И генерал взялся за бумагу, которую ему только что вручил порученец. Это было обыкновенное командировочное удостоверение на имя какого-то интенданта. Но генерал никак не мог вспомнить ни лицо этого интенданта, ни смысл порученного ему дела. Генерал Горбыч глядел на Матвея и думал о Полине: «Может быть, она из-за любви к этому стахановцу спустилась в завод и из-за желания помочь своему возлюбленному напросилась на опасное поручение?» Мысль совершенно естественная, однако, беглый обзор ума и действий Матвея делал эту обычную мысль умопомрачительно-вздорной. Тогда сразу же вырастал до размеров необычных образ Полины, ее возвышенная душа и ее певческий талант! Имел ли право генерал губить ее столь легкомысленно… Может быть, именно в данном случае начальник штаба и прав: он возражал против посылки Полины.
Порученец ушел.
Генерал малость подумал. Матвей встал. Генерал жестом пригласил его снова сесть и затем спросил решительным тоном:
– Вы ее любите?
Матвей покраснел, поправил воротник гимнастерки, и, когда он поправлял его, шея показалась ему необычайно горячей.
– Нет.
– Как она очутилась в вашей бригаде?
Матвей рассказал. Изумление показалось на лице генерала.
Матвей привел только факты, намеренно сняв свое отношение к ним. Он боялся, что сказав об отношении, он невольно коснется и отношения к фактам сегодняшнего дня. Он боялся этого: во-первых, потому, что считал бессердечным поступок генерала, который, как можно было понять из его намека, отправил Полину в тыл к немцам, не зная ни ее характера, ни ее сил, а просто потому, что Полина по какой-то причине, в данное время не важной, попала в его поле зрения; и, во-вторых, из-за своей физической и нравственной слабости, доведшей ее до «дна жизни», Полина способна погибнуть, а Матвей, как и всякий спаситель, желал благодетельствовать и дальше спасенной им; и, в-третьих, наконец, он опасался за физическую ее чистоту, которую, как ни странно, он тоже теперь считал необходимым защищать и оберегать. Вот почему Матвей совершенно превратно понял дальнейшую фразу генерала, фразу, которая причинила ему множество неприятностей и чуть не уничтожила все то, чего он добился в жизни.
Генерал сказал с иронией, которую Матвей не уловил:
– Да-а… Тогда вам, точно, надо ее беречь и заботиться о ней.
Генерал Горбыч сказал это чуть-чуть улыбнувшись. Он восхищался актерским мастерством, с которым Полина разыграла свою роль «уличной», восхищался ее сдержанностью, из-за которой Полина ничего не сказала ему о своей роли перед Матвеем и рабочими; и, также, восхищался своим выбором и уверенностью, что Полина удачно выполнит порученное ей, крайне важное, дело разведки. Не думай он так, генерал полнее выразил бы свою иронию. Матвей бы спросил о ее причине, и генерал признался бы во всем, и тогда Матвей вряд ли поступил бы так, как он поступил в ту ночь.
А поступил он вот как.
Вернувшись домой, он достал крестьянские «чоботы», в которых, обычно, ходил на охоту; штаны похуже, наложил в мешок пищи и направился к майору Выпрямцеву, в подчинении которого находился. Тому он сказал прямо, о чем, как показалось Матвею, намекал генерал:
– Послали одного товарища в тыл противника. Генерал предложил мне проверить его и поберечь. Имейте это в виду, если завтра не приду на ученье. С цехом у меня улажено.
Майор был поклонником начальника штаба: он смотрел на Матвея свысока. Поэтому, майор обратился за подтверждением направления Матвея только через несколько часов, когда у него появилась надобность позвонить в штаб. Майор был крайне удивлен, когда и начальник штаба и, позже, генерал сам позвонивший ему по телефону, сказали, что они не отдавали приказа о направлении Матвея в тыл противника…
У микрофона в тот час стояла, впервые, Мотя. Она читала на весь завод и ей казалось, что эти простые слова, которые она говорит, возвеличивают и ее, и тех людей, которым она говорит, и того знаменитого фрезеровщика, а ныне мастера, М. Кавалева, который чуть свет ушел в свой цех на работу и теперь слышит ее голос.
– «…Заметных успехов в выращивании кадров, – читала она, – добился не только Матвей Кавалев, но и мастера-коммунисты Погребов, Кисленко, Зубавин…»
В библиотеке, возле стола Силигуры, находился главный инженер Коротков, которому спешно понадобились какие-то справочники по баллистике. Однако же, не обязательно главному инженеру, который, обычно, спит не больше пяти часов в сутки, приходить в свободный час в библиотеку? Он может потребовать книги по записке. Так думал Силигура, глядя на Короткова и одновременно слушая голос Моти, несущийся из рупора.
Коротков пришел, чтобы поговорить о семье Кавалей! Матвей вчера отпросился у него «по важным делам» на три дня. Какие важные дела у Кавалей? Уезжают они, что ли? Одни? Или уезжают вместе с Мотей?..
Коротков видывал Мотю и раньше. Буйная красота ее вызывала в нем изумление – и только. У него не появилось желания встречаться с нею, тем более, что красота ее казалась ему сильно действующей лишь на крайне грубых людей, к которым он себя относить никак не мог… а сегодня он увидел ее в радиоузле, где он должен был прочесть текст договора на социалистическое соревнование между СХМ и рядом городских заводов. И вот, Мотя, среди белых, ничем не украшенных стен, среди портьер из рубчатого бархата и радиоаппаратуры показалась ему невыносимо (он не боялся такого, разумеется, пошлого слова!) прекрасной. Откуда в ней это?
– Сочный голос, слышите? У нас в узле новый диктор?
– Из семейства Кавалей, – сказал Силигура, и глаза его заблестели так насмешливо, что Коротков, опасаясь «исторической записи», не стал расспрашивать дальше.
А Силигура записал: «Был Коротков. Книги взял хоть и толстые, но незначительные, впору себе. Хотел спросить о Моте: „Почему она поступила на радиоузел, что в ней скрыто?“ Он опасается, что, увидев ее у микрофона, способен полюбить – и свершить безрассудное: жениться на ней! Коротков, уведенный ее голосом, который, есть чудо. Кроме того, ему непонятны причины: откуда явилась у нее такая убедительность голоса, откуда и почему звучит он с такой силой и уверенностью? Откуда? Насколько я понимаю, она хочет, чтобы голос ее ежеминутно звучал перед человеком, которого она любит. У нее мало надежды, что он ее слышит иначе, сердцем!..»
Здесь Силигура задумался. Ему представилось строгое лицо читателя, перелистывающего его книгу. В истории прошлого читатель верит, что, наряду с общественными огромными событиями, существовала любовь. «А в настоящем, – ибо, как сказал один умный человек, каждая эпоха считает себя наихудшею из существовавших, – разве люди в состоянии одновременно и воевать, и любить?» И думается Силигуре: встает перед ним читатель его истории и, строго подняв палец, спрашивает: «Что же это такое? Разве любовные истории суть исторических фактов?» И тогда Силигура ответит: «Все, что могуче и страстно, все, что совершенствует человека, его ум и волю, все, что помогает нашей победе, все это – история или ее ответвления. А именно: на ветках-то и цветут цветы, дорогой мой!»
За столом, в квартире Кавалей, сидела Мотя.
Старики Кавали ушли к знакомым, чтобы узнать: как, что и где слышно насчет фронта. Отец Мoти пришел в табор беженцев-крестьян, направляющихся на восток и расположившихся на ночлег возле города. Он встретил знакомого крестьянина и, как старик Каваль, тоже жаждал изустного рассказа о войне. Матвей исчез… только старуха мать слушала Мотю, которая готовила чтение на вечер.
Старуха не понимала того, что ей читает дочь. Старухе хотелось сказать дочери, что на Проспекте большое беспокойство, что ходят слухи, будто немцы опять придвинулись к городу и что нынче на рассвете некий дымно-багровый луч пересек все небо и будто бы прогремел неразборчивый голос, и все увидели в этом дурное, кровавое предзнаменование, и священники в церквах начали опять служить нескончаемые молебны о даровании победы державе российской и ее славному воинству, и сама Агриппина Борисовна видела во сне Сергия Радонежского и ходила советоваться о том с батюшкой…
– «По всей территории завода широко раскинувшиеся цеха гремят по-разному: где слышится лязг многосильного пресса; где гуденье вечно бессонных горнов; где ровный рокот трансмиссий и шум станков. Но дыханье их едино – все для фронта!»
Мотя повторила, глядя на мать глазами, в которых вот-вот могли показаться слезы:
– Все для фронта, мама! А я?
И, уронив рукопись на пол, она положила голову на плечо матери и заплакала.
– Что ты, дочка?
– Ой, страшно ж мне, мамо! Страшно!.. Приехали мы до Кавалей и думали: поедем дальше, вместе…
– Так мы ж одни, можем уехать, дочка?
– Куда? Куда уедешь от войны, мамо?!
Старуха понимала, что дочка говорит не все, что хочется ей сказать.
– От войны, дочка, можно уехать, а вот уедешь ли от сердца?