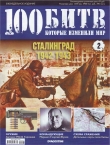Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Глава сорок девятая
Для того чтобы понять все дальнейшие события, стремительные и крупные, необходимо рассказать об изменениях в сознании нашего героя, происшедших вскоре после смерти Рамаданова.
Матвей прежде всего по-особому отчетливо разобрался в том вещественном процессе, который на СХМ назывался созданием пушки. Раньше он не так ощущал пушку, а в особенности последние недели, когда отдельный агрегат ее «Ш-71» был закреплен за станками его цеха и он привык думать об ускорении и улучшении операций этих станков. Теперь-то он видел весь процесс создания пушки и снарядов к ней, – и это поднимало и окрыляло его сознание необычайно! Когда он проходил вдоль конвейера сборочного цеха, ему казалось, что катящиеся медленно к выходу из цеха пушки катятся, впитав всю его энергию, – и он расставался с ними, впитав их прочную силу.
Но, разумеется, он почувствовал остро не только светлые стороны своей новой профессии, но и темные. В каждой профессии, – и чем она выше, тем это опаснее, – таится возможность одностороннего и противообщественного использования своих профессиональных знаний, как и вообще всех преимуществ, связанных с выполнением данных профессиональных функций. Человека иногда охватывает стихийная игра личных интересов, – и тогда конец этому человеку! Одной из сторон таких стихийных стремлений является дурно используемый элемент власти, в особенности когда общество не имеет возвышенного представления о задачах той профессии, которой занимается данная личность.
Конечно, общество, окружавшее Матвея, – рабочие, мастера, инженеры, конструкторы, директора подсобных заводов, работники партии, исполкомов, советов, школ, институтов, клубов, – в большинстве своем не подавляли в себе силу профессионального сцепления, а использовали ее для высших целей, – защиты родины. Между Матвеем и обществом сразу возникло крайне живое чувство взаимной ответственности за общее дело, что помогло ему благоприятно направить те элементы власти, которые очутились в его руках и которые как раз он опасался дурно использовать, – и вовсе не потому, что уж считал себя таким дурным человеком, а потому, что боялся, как бы ему не ошибиться и не спутаться.
Он почти все время спрашивал сам себя: «Есть ли у меня особые психические свойства, необходимые директору? Обладаю ли я социальной функцией организатора, – которой в таком богатстве обладал Рамаданов, что никто даже и не мог объяснить, откуда он ее берет, – и одновременно с этим, смогу ли я проявить культурную роль новатора? И, наконец, смогу ли я уговорить людей в необходимости с почтением относиться к моей власти? Ведь инстинкт неповиновения, – а в особенности к человеку из своей среды, – так неискореним!»
Вскоре он увидел, что людей не надо уговаривать. Они признали его власть. Они почти мгновенно почувствовали его крайне благожелательное отношение к себе, его серьезное внимание к общему делу, а главное, – его способность достигать реальных успехов. Матвей, как директор, признали они, – есть необходимый и важный результат замечательной комбинации социальных явлений. Его деятельность – необходимое условие нормального отправления жизненных функций советского общества. Это – не осадок, который иногда кажется даже неустранимым, а важнейшее бродильное начало!
Матвею удивлялись. Его внутренние возможности преувеличивали. И так как все новое и возвышенное легко принимает таинственный вид, то его даже стали побаиваться. «Надо быть проще, надо быть возможно проще», – твердил себе в таких случаях Матвей, – он чувствовал, что это ему доставляет удовольствие.
Да, у него появилась и проявилась воля к власти. Он желал не только служить народу, но и управлять им. Конечно, помогая. Конечно, будучи слугой народа! Но, помогая, но будучи слугой, он, не отделяясь от масс, – <желал> вести за собою массы, повелевать ими. Разумеется, это трудно, как трудно всякое большое дело, но тут поможет дисциплина Великой Армии, части которой находились в городе и за городом и стройность духа которой проникала всюду. «Да и традиции СХМ не так уж плохи и профессиональный долг не столь уж мал среди нас», – думал он. И думы его подтверждались ежечасно.
Конструктор Новгородцев был ранен во время бомбежки одного из эшелонов завода, ушедшего на восток в день похорон Рамаданова. Конструктора положили в лазарет. Он ослеп. Но, раненый, слепой, он продиктовал сестре милосердия письмо к Матвею, в котором сообщал, что, по его мнению, деталь «З-9», изготовлявшуюся методом свободной ковки под молотами и обрабатывающуюся на чрезвычайно загруженных станках, да еще с применением сложного инструмента, – следует штамповать. И Новгородцев указал, как надо изменить деталь. Попробовали. Теперь деталь штампуется и обрабатывается на простейших станках с применением самого обычного инструмента. Тот же летчик, который привез письмо Новгородцева, отвез раненому благодарность коллектива завода.
– Да, традиции не так уж плохи!
Или возьмем, например, так называемый «обмен опытом». Часть завода, уже начавшая монтаж в Узбекистане, шлет по телеграфу свои предложения по усовершенствованию технологии производства. Телеграммы доходят до конечной станции, а затем их везут в город на самолетах. Так производится, – под взрывами вражеских бомб, – специализация участков и создание поточных линий, которые позволят резко сократить цикл механической обработки и сборки.
– Мечите бомбы! Взрывайте дома! В тысячу раз больше, ненавистнейший враг, намечем мы бомб! В миллион раз разрушим домов! В триллионы раз отомстим за нашу родину!
Требования к увеличению производства пушек возрастали, а завод продолжали эвакуировать. Правда, немцы отрезали город, но тем не менее то оборудование, которое решено было вывезти и которое не успели, погрузилось и стояло в эшелонах, готовое уйти каждую минуту. Это раздражало рабочих и техников, – раздражало и Матвея, – да к тому же им стало известно, что хотя народ и правительство Узбекистана встретили прибывших превосходно, однако же, несмотря на все усилия (много заводов приехало раньше их), СХМ получил едва ли 40 % необходимой производственной площади, не говоря уже о жилищной. База не отвечает самым минимальным требованиям. Надо строить новые корпуса. «Стройте!» – приказывал Матвей, с болью чувствуя, что эшелоны мучаются и тоскуют по работе в Узбекистане. Коротков, с которым Матвей расстался крайне дружески, залетел на несколько дней зачем-то в Москву, а теперь телеграфировал уже из Узбекистана: «Энергетику надо создавать заводу здесь заново! Силовых машин нет. Все воздушное и водопроводное хозяйство отсутствует…» – Матвей ему телеграфировал: «Создавайте!» Вскоре Коротков сообщил, что из вещевого склада они сделали станцию для сжатого воздуха, а из гаража – цех главного механика, а цех падающих молотов стоит под открытым небом, работает, а вокруг него воздвигаются стены… Матвей написал Короткову: «Вижу, дело налаживается. – И, подумав, добавил: – Скоро ожидай остальные эшелоны».
Но – так ли скоро ожидать?
Немцы плотно сжали кольцо своих войск вокруг города.
Хлебный паек уменьшался. В столовых, – сначала в городе, а затем и на СХМ – исчезло сначала третье, затем второе, и первое кушанье становилось все жиже и жиже. О работе говорили меньше, о питании – все время, о деньгах – никогда…
«Сколько же мы выдержим?» – с мучительной тоской думал Матвей.
Но хотя о работе говорили мало, работали все яростно. Эсхаэмовцы сами научились делать специализированные станки, которых не хватало. За короткий срок их сделали 145, а добытых со склада – старинных, в системе которых даже трудно было и разобраться, – модернизировали 466. Производственный цикл полного изготовления машины, – от первой заклепки до последней окраски, – сократили: вместо полутора месяцев стали делать в три недели.
– И мало, – сказал Матвей на одном из совещаний. – Надо две недели!
– Что же, подумаем, – ответил конструктор Койшауров, назначенный теперь помощником главного инженера Никифорова.
– Следовательно, возможно?
– Вообще-то невозможно, но для победы – возможно, – ответил, улыбаясь, Койшауров. – Вам только, Матвей Потапыч, придется поднять соревнование рабочих на большую высоту.
– Сами поднимут, – сказал Матвей уверенно.
Накануне совещания Матвей просматривал оставшиеся после смерти Рамаданова бумаги. Какой мощный ум! Только сейчас Матвей понял выдержку Рамаданова, ни разу не пожаловавшегося на трудности и неудобства, а наоборот, все время утверждавшего, что его работа легка и проста. Где там легка! Посмотреть только на записи. Сколько к нему обращалось людей, какие жалобы, какие требования, сколько сплетен, сколько обиженных самолюбий, сколько негодования! Все это Рамаданов мог так улаживать и утишать, что диву даешься.
Среди бумаг Матвей наткнулся на записи, которые стали ему ясны лишь на заседании. Рамаданов шел в работе из идеи отдельных конструктивно-технологических изменений, предложенных Дедловым, Рамаданов замышлял большое дело: продуманно заменить целые агрегаты пушки новыми агрегатами, более простыми в изготовлении, таким образом, чтобы создать по существу новое орудие, совершенное и еще более великолепное! Рамаданов не успел закончить своей мысли, как и не успел связаться с Дедловым…
Говорил Никифоров:
– Быстро учится молодежь. Семь токарных станков, где шла обработка ответственной детали «4-КЕ», очень трудоемкой, обслуживает два квалифицированных токаря, остальные новички…
Матвей прикрыл глаза ладонью. Сквозь открытые окна врывался свежий воздух осеннего вечера. Матвею почему-то вспомнился Ленинград, куда однажды он ездил с экскурсией рабочих. Вот такой же свежий воздух с Невы обдавал его, когда он торопился к Эрмитажу, боясь, что уже будет поздно и музей закроют. Но, оказалось, не опоздал. Он шел по залам… Удивительно! Никогда позже он не вспоминал этих зал и картин, как и вообще никогда не вспоминал виденных спектаклей, фильмов или музыки. Сейчас он вспомнил залы с отчетливостью поразительной. Он видел натертые паркеты, дорожки, красные шнуры вдоль стен, золоченую разнообразную мебель, золотые рамы… и одна за другой, в его воображении вставали картины.
Он не помнил имен художников. Ему крайне хотелось сейчас вспомнить их – и оттого еще ярче видел он картины! Вот по пояс стоит мужчина в красном кафтане, опираясь левою рукой на стол, покрытый красной скатертью. На столе – часы. Вдали – море и горы… Богиня сидит на морском чудище, повернувшись спиною к тебе. Слева крылатый мальчишка с луком едет на дельфине, а вверху, в облаках, видны мордашки двух детишек. Вдали – пейзаж… Кто писал это? Для чего? Почему?.. Рослый мужчина, совсем нагой, стоит у древесного ствола. Бедра его прикрыты белою драпировкой. Руки его связаны за спиною. Взор обращен вверх. Три стрелы вонзились в его туловище, и одна в левую руку… Да, это другие стрелы, чем у того крылатого мальчишки… да и боль-то, небось, другая!..
Матвей вдруг быстро спросил у Никифорова:
– Узел «Д-3» собирался из скольких отдельных деталей?
– Из трехсот двадцати четырех, – быстро, как ученик, ответил Никифоров.
– Какие предусматривались технологические процессы для его изготовления?
Никифоров, чувствуя, что сейчас произойдет что-то важное, ответил еще быстрее, почти скороговоркой:
– Для деталей «Д-3» предусматривалась клепка, штамповка, применение легализированного <так в рукописи; очевидно, легированного. – Ред.> проката.
– После изменений что произошло?
Никифоров сказал:
– После проведенных изменений узел «Д-3» отливается целиком в виде одной детали из углеродной стали…
– Следовательно?
– Следовательно: а) сэкономили легированную сталь; б) организовали поточное производство узла; в) путем оснащения станков многоместными приспособлениями и сборным инструментом время обработки узла «Д-3» сократили в три раза.
– В три раза?
– Да.
– Экономия?
– Сто шестнадцать тысяч.
Матвей сказал:
– Приказываю: применить эти изменения ко всему производству, с тем чтобы благодаря модернизации пропускная способность оборудования завода возросла в десять раз по сравнению с прежней! Несмотря на то, что больше половины завода уехало.
Матвей возвысил голос:
– Мало того! Приказываю: погрузить и отправить в Узбекистан все новые, созданные нами специализированные агрегатные станки, с тем чтобы нам создать другие. И тем не менее продумать целую систему наращивания мощи на всех производственных участках завода за счет модернизации и специализации станков. Предусматриваю конструктивные изменения девяноста процентов деталей пушки. Я сейчас намечу какие… Ты слушаешь, Койшауров?
– А еще бы, Матвей Потапыч!
Три недели спустя старший бухгалтер завода принес наметку телеграммы Наркому, в которой завод сообщал, что благодаря сокращению производственного цикла и конструктивным изменениям СХМ сэкономил четырнадцать миллионов рублей и в пять раз увеличил количество своей продукции…
Бухгалтер, льстивший не потому, что ему это было выгодно, а потому, что это ему доставляло удовольствие, – знал, что Матвей не любит лести, <но> не мог удержаться. Бухгалтер сказал:
– Что значит хороший директор!
Матвей хмуро ответил:
– Нету и не будет хорошего врача в народе, если народ мечтает о колдунах, как нету и не будет правдивых людей, если верить льстецам и брехунам.
Рассмеявшись, Матвей сказал:
– Впрочем, это к вашей бухгалтерии не относится. Говорите вы одно, считаете вы другое. Дай бог и дальше вам так жить!
И он подписал телеграмму.
Секретарша сообщила, что генерал-лейтенант Микола Ильич Горбыч желает поговорить с Матвеем Потапычем по срочнейшему делу.
– Я слушаю вас, Микола Ильич, – сказал Матвей, поднимая матово-блестящую трубку телефона.
Глава пятидесятая
Матвей сел за стол в кабинете генерала:
– Ну-с, я слушаю вас, Микола Ильич.
Горбыч задумчиво посмотрел на него:
– Вы любите музыку?
Матвей не удивился странному вопросу: это был один из тех вопросов, какие он себе сейчас задавал довольно часто. Кроме того, серьезный тон генерала заставлял отвечать так же серьезно.
– До последних дней, Микола Ильич, я не думал о музыке. Ну, попоешь песню, послушаешь радио, сходишь на концерт – и все. А так, чтобы звенело в ушах, такого не было. А тут… не знаю, разрывы мне, что ли, надоели… я много думаю о музыке. Даже очень много! И хочется музыки. Идешь по цеху, и кажется тебе, он вроде музыки поет… мерещится, конечно.
Генерал молчал, глядя на него пристально. Матвей продолжал:
– И дошло у меня, Микола Ильич, до того, что стал я вспоминать песни и даже… прилепляю их к тем, кто никогда их и не пел. Вспомнился мне один голос…
– Чей?
– Так, слышанный… на грампластинке… я ее в лицо не видал… певица…
– А может быть, видел?
– Нет, не видал. Вспомнился мне этот голос, песня ее вспомнилась. И прилепил я эту песню к одной знакомой, которая, конечно, не поет и которая…
Матвей махнул рукой.
Генерал, глядя на него, думал: «Сказать или не сказать?» Старик погладил ладонью стол и продолжал: «Но ведь если говорить, так я должен был сказать это месяц тому назад, когда поговорил с Полиной. Почему же тогда не поехал и не сказал?» Горбыч испытывал неудовольствие. Ему хотелось все-таки отличиться от тех генералов, которых выводят в водевилях. А помимо этого, «свадьбы свершаются в сердцах, а не в кабинетах генералов». И он решил молчать. Не для свадьбы он вызвал Матвея! «Но с другой стороны, зачем же вы, товарищ генерал-лейтенант, заговорили о музыке? Чтобы узнать: родственна ли душа Матвея сердцу Полины… Ах, какой вздор вмешивается всегда в высокий тон марша!»
Горбыч сказал:
– Мне всегда думалось, что вы преклоняетесь перед музыкой, Матвей Потапыч, а перед военной в особенности.
Лицо Матвея выразило недоумение: он ожидал, видимо, других слов от Горбыча. Генерал недовольно пожевал губами и продолжал, выходя на ту дорогу разговора, ради которой он призвал Матвея:
– Я не люблю говорить патетически, но свершенное вами, Матвей Потапыч, свершенное вами и вашим заводом невольно настраивает всякого на патетический лад. От лица Красной Армии благодарю вас!
Он вздохнул, выпил стакан воды, а затем спросил спокойно:
– Сколько у вас на складе «дедловок» нового образца?
– Шестьсот одиннадцать.
– Черт возьми!
– А что? Мало? – с гордостью спросил Матвей.
– Какое мало!
– Да, заказчики довольны. Только как их, орудия эти, доставить заказчикам, не знаю. Вы должны мне помочь, Микола Ильич! Я раньше хотел к вам обратиться, но неудобно мне вмешиваться в военные дела. Опять, думаю, мне влетит, как раньше…
Генерал рассмеялся.
– В чем же вам помочь?
– Вы мне скажите точно: выгружать мне мои эшелоны или же их отправят когда-нибудь? Пробьются к нам части Красной Армии?
– Нет.
– Значит, надо выгружать. А то ведь сидят, едят хлеб, досадуют, обидные выражения всякие слышишь.
– Нет, и выгружать не нужно.
– Как же?!
– Да так же.
Генерал сложил руки, помахал ими перед своим лицом. Все его движения указывали, что он скажет сейчас нечто необыкновенное. Матвей ждал с нетерпением.
– Стало быть, пушечек шестьсот одиннадцать? Много. Если, допустим, каждая пушка способна задержать три танка, то, выходит, мы задержим тысячу восемьсот танков генерала фон Паупеля…
– Полковника, – поправил Матвей.
– Нет. Его уже произвели в генералы. Мне теперь лестно бороться, – сказал, громко смеясь, Горбыч. – А то что ж такое? Против полковника стоял генерал-лейтенант! Итак, мы способны задержать одну тысячу восемьсот?.. Превосходно!
– И больше задержим.
– И больше? Верно!
Генерал, прищурив веселые глаза и поигрывая пустым стаканом, глядел на Матвея загадочным взором.
– А ведь дальше-то вы подобными темпами не поработаете? Не выделать вам дальше-то столько орудий.
– Почему же?
– Металла нет. Стали мало осталось, знаю.
– Все ножи, вилки, все гвозди выдергаем. Весь город оберем! Снимем замки, кровли, дверные ручки. Топлива не будет, дома деревянные сожжем, двери, рамы… вагоны, в конце концов.
– Верю. И одобряю. Жечь мы любим. Но ведь есть еще выход.
– Какой же?
– Поставить все шестьсот одиннадцать орудий вдоль линии железной дороги и пробиться к нашей Красной Армии, которая идет навстречу, к металлу, который вам везут, к хлебу, которого нам недостает! Пушки ваши уважают, – да не мы, мы что? – враги уважают, и я думаю, расступятся перед ними…
Глава пятьдесят первая
Силигура получил приказ об эвакуации. Он собрал остатки своего читательского актива – судьба раскидала его и помяла так же, как и пожар книги, – и с помощью актива на тачках, на носилках, на плечах перетаскал уцелевшие книжные сокровища в эшелоны. Он распихивал книги всюду, куда только можно, – и с огромным удивлением позже, в Узбекистане, разгружая эшелоны, узбеки находили под станками, среди частей, закрытых толем и фанерой, толстые тома «Русской мысли», или том «Теории исторического знания», или «Древний Вавилон и его культура».
Мимо Силигуры, – на металлических катках по железным листам, системой блоков, помогая себе трактором, – тащили, волокли и грузили в вагоны и <на> платформы новые станки, материал, трос, тащили чемоданы, узлы, плакали, прощались, встречались. Силигура тоже пролил не одну слезу.
А завод по-прежнему работал. В металлическом цехе в тот день рабочий-стахановец Кожебаткин, обучающий вместе с тем пять учеников, дал 73<0> % нормы. Сборщик Андрианов, стоящий у своего дела только две недели спустя после выхода из учебного цеха, дал – 365 %! Клепальщик Данилова, учившаяся всего восемь дней, – 420. Какая-то особо красивая жизнь!
Силигура знал, что и там, в Узбекистане, его ждет не менее эффектная жизнь, но все же расставаться ему с городом не хотелось. Помимо других соображений, ему надо было, – для завершения его «Истории» на данном этапе, – увидеться с Матвеем Кавалевым, теперешним директором.
Все директора трудноуловимы, но Матвей особенно. Силигура бегал даже к нему на квартиру, мало надеясь, что встретит там его. Двери квартиры были раскрыты. Серенький котенок осторожно ходил среди осколков стекла и, увидев Силигуру, замяукал. Силигура сунул его за пазуху и, прикрыв дверь, ушел.
Тощий старичок, встретивший его на лестнице, сказал, указывая на мяукавшего котенка:
– Обождали бы, гражданин, есть. Передают, что наши соединились и нонче эсхаэмовские эшелоны уже уходят.
В кабинете директора конструктор Койшауров читал агитаторам доклад «О стахановце военного времени».
Уже смеркалось, когда Силигура отыскал Матвея.
Матвей стоял возле могилы Рамаданова, опустив голову и глубоко засунув в карманы руки. Он думал о Рамаданове, Горбыче, Стажило… Сегодня трое, они соединились в своих мыслях, чтобы, наконец-то, направить своего ученика в погоню за полковником фон Паупелем! Месть, месть!.. Догоню, догоню!.. Шестьсот одиннадцать орудий пустятся сегодня за тобой в погоню, – и, думаешь, не догонят? Догонят непременно!
И еще Матвей думал о Полине. Ему нисколько не было неловко у этой святой для него могилы думать о человеке, которого он любил. Да, несомненно, любил! Теперь совершенно очевидно, что ее образ незримо присутствовал во всех его замыслах, во всех его мыслях, так же несомненно, как то, что он непременно найдет ее. Ему даже почудилось, что генерал Горбыч знает кое-что о Полине, когда тот завел разговор о музыке. Но, кажется, он ошибся. Во всяком случае, намек Матвея на «одну знакомую» генерал обошел.
Только сейчас, – именно у могилы учителя и друга, – Матвей понял, как он ее любит. Нет, «старик», так обожавший жизнь во всех ее проявлениях, не осудит своего ученика! К тому же не грубая кровяная чувственность, избыток здоровья, влечет Матвея к Полине. Его присоединяет к ней мучительнейшая загадка красоты и великой женственности, которую он видит и в картинах художников, что мерещатся ему непрестанно, и в аккордах музыки, колышущихся где-то за картинами, – и во всем прекрасном ходе прекрасной жизни. Она – воплощение всей этой красоты! То низкое, которое он некогда думал о ней, – прямо надо сказать: его ревность к ее прошлому, – все отошло так далеко, что и вспомнить невозможно. Красота, неотразимая, вечная и возвышенная, как гимн, стоит перед его очами.
Любовь? Да, любовь! А как же бы посмотрел на эту любовь «старик»? Очень хорошо! Он-то, как никто, знал, что плечи у человека не слабы. Он снесет и битву с врагом, и любовь с любимой. Он, «старик», – воплощение и символ прошлого нашей страны, ее нетленное сердце, он, друг Ленина, знал, что родина не ревнива к своим сынам, ибо верит, что они способны воплотить в своем сердце и любовь к родине, и ненависть к врагу, и нежность к любимой.
И Матвей мысленно издал тот возглас, который до него издавали миллионы влюбленных:
– «Но, любимая, где же ты? Где ты меня ждешь? Куда ты ушла?
И со скорбью величайшей, добавил:
– И любишь ли ты меня?»
Он взглянул на Силигуру таким странным взглядом, что Силигура растерялся и сказал:
– А как же некролог, Матвей Потапыч?
Месяц тому назад Силигура попросил Матвея написать некролог о покойном Рамаданове. Матвей обещал и передал ему вскоре. На небольшом листке было написано: «Рамаданов – боец социализма. Группа товарищей». Силигура сказал: «Это эпитафия, а отнюдь не некролог». На что Матвей резонно сказал ему: «Никаким некрологом не скажешь лучше того, что здесь сказано. Длиннота не дает качества». Сейчас он, видимо, погруженный в мысли о Рамаданове, спутал дни и, забыв, что уже говорил это однажды, повторил:
– Никакой некролог не скажет глубже. Рамаданов – боец социализма!
Он сжал кулаки. Ненависть опять нахлынула в его сердце, терзая его. Лицо его изменилось и потемнело. Силигура, угадывая его мысли, ужаснулся.
– Ну да. Я засыплю вот этой землей глаза полковнику фон Паупелю. Я убью его!
Он наклонился к земле и стал наполнять ею карманы, как будто хотел засыпать глаза не только фон Паупелю, но и всей немецкой армии.
– Засыплю. Живому! Не мертвому!
Силигура посмотрел ему вслед. Он шел сгорбившись, прихрамывая, карманы его куртки оттопыривались от земли. Что-то страшное и в то же время привлекательное чувствовалось в нем. Силигура подумал: «Во-первых, история уважает красивые слова, но того более – красивые поступки, заключения которых я еще не вижу. Во-вторых, разве недостаточно в Узбекистане библиотекарей?»
И он пошел за Матвеем.
Матвей миновал Заводоуправление, подошел было к своему дому, но, обернувшись, посмотрел на Силигуру и сказал:
– Да, ведь котенок-то мой у тебя, Силигура?
– У меня, – сказал Силигура, ожидавший, что Матвей сейчас отнимет котенка и прогонит бедного библиотекаря.
– Ну и держи!
Силигура обрадовался:
– У меня, Матвей Потапыч, даже молоко найдется!
– Скажи, пожалуйста, какой богатей! Только ты его на нонешнюю ночь спрячь куда-нибудь. Он тебе иначе помешает. Ты пойдешь рядом со мной.
– Чем же он мне может помешать?
– Неизвестно еще, как он отнесется к залпу из шестисот орудий. Вдруг да поцарапает!