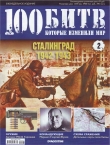Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Пулеметчик Лубский глядел на скат, среди пыли, взрывов и воронок стараясь разглядеть фигурки немцев. Камень, на котором он лежал, был горяч, и волны воздуха, плавающие вокруг него, слепили глаза, так же как и слепили и сжимали веки отсветы солнца, плывущие от реки. Пулеметчика волновала та бездна, над которой он висел, и волновала его еще мысль – как будет держаться пулемет на камне, когда он откроет огонь. А вдруг соскользнет?!
На правом фланге танки что-то суетились, явно стараясь прикрыть пехотинцев. Лубский привстал на локтях – и этим словно заглянул за танки. Он разглядел немецких солдат, ползущих к Дворцу культуры.
– Огонь!
Глава тридцать седьмая
Майор Выпрямцев пришел в блиндаж, где находился Матвей и рабочие – истребители танков. Лицо у майора было вытянутое, пыльное и небритое. Его контузили в бок, и иногда, думая, что другие этого не замечают, он хватался за бок, и лицо его передергивалось гримасой боли.
– Ждем приказаний, – сказал Матвей.
– Еще не прорвались.
– Как еще? – воскликнул кто-то позади Матвея пискливым голосом.
– Я думал, вы люди взрослые, – сказал майор, – знаете, что всяко бывает, а в особенности если враг ваш немец. На танках-то не только окраска под тигровую шкуру, он и сам тигр.
Он протянул вперед руку с растопыренными длинными пальцами и сказал:
– Однако лев побеждает тигра!
Держа руку на весу, он повернулся к Матвею всем своим корпусом и сказал с волжским выговором:
– Нонче, парень, важная ловля. Сколько мы этих осетров по берегу накидали. Богатая путина, парень. Полковнику фон Паупелю сегодня очень большая неприятность причинена, у-ух! Боюсь, что у него волосы на… поседеют.
Никто не рассмеялся. Майор Выпрямцев дотронулся до плеча Матвея и вывел его из блиндажа.
Упоминание о фон Паупеле окрасило все происходящее вокруг Матвея, если можно так сказать, в паупелевый цвет. Слова майора добавили тон к размышлениям, который он не мог подобрать, стоя в блиндаже. Да, чтобы победить, весьма важно видеть врага таким, каков он есть! Полковник фон Паупель враг сильный, хотя бы потому, что, несмотря на все его заслуги и желания, ему все еще не дается звание генерала. Немецкому командованию думается, что слова «полковник фон Паупель» сейчас для слуха врага звучат грознее, чем «генерал фон Паупель».
– Жду приказаний, – сказал Матвей и, думая, что майор не понимает его, добавил: – Имею личное желание встретиться с полковником фон Паупелем.
– Как два поезда врезались мы друг в друга, – ответил майор, быстрым голосом отдав приказание послать резерв к одной из батарей. – Они дали предел насыщения: до двухсот штук пустили на квадратный километр.
С майором поравнялся Арфенов. Связки гранат, отпечатываясь на его гимнастерке, как соты, заполняли всю его неимоверно широкую грудь. Он дышал ровно и спокойно и, видимо, наслаждался этим спокойствием.
– Вот мое приказание, Арфенов, – сказал майор, глядя на Матвея. – Ты пойдешь по ходам, в шестом секторе замолчала батарея… какой там наводчик есть: Птицкин. Просто – алмаз. Да ты кури, кури, – сказал он, увидев в руках Арфенова трубку. – Кури. Теперь, парень, неизвестно, когда второй раз закуришь…
Матвею нравилось то, как майор ведет разговор. Это было совсем другое, когда майор учил бойцов или рабочих-истребителей. Тогда голос у него был неестественно-строгий и повелительный, а в сегодняшнем голосе звучало другое повеление, – его можно было б назвать повелением сердца. Он не торопился, выбирал время, когда возникала небольшая пауза, и угадывал вместить в эту паузу как раз то количество слов, которое было необходимо ему для передачи его мысли.
Нельзя было не полюбоваться и Арфеновым! Он стоял, выпятив грудь, расставив ноги, красивый, со слегка влажными на висках курчавыми волосами и матово-серыми, прищуренными глазами, – и казалось естественным, когда кто-то сбоку сказал, обращаясь к нему:
– Дай трубку, затянуться… – словно просил не затяжки табаку, а затяжку смелости.
– В шестом секторе замолчала батарея. Поручаю провести к ней смену. – Майор помолчал, давая понять, что расчет у орудия перебит. – Если кинется танк, прикроешь людей.
Арфенов пересчитал людей, которых он должен был провести, и махнул прямо рукой:
– Напрямки быстрее, товарищ майор? – спросил он и, не дожидаясь ответа, выскочил из окопа и, распластавшись по земле, пополз с такой ловкостью, что казалось лицемерием то, что он прежде ходил на ногах.
– Ковер, а не человек! – сказал майор одобрительно.
И как только он сказал эти слова, остальные красноармейцы вылезли из окопа.
– Правильное у Арфенова настроение, – сказал майор. – Пятеро али семеро немцев ползут, чтобы передать сообщение головному танку, Арфенов их в дороге и перехватит.
Совершенно спокойный за то, что Арфенов перехватит связистов и доведет новый расчет до орудия, майор занялся другими приказаниями. По этим приказаниям можно было понять, что откуда-то из-за прикрытий выскакивали за брустверы красноармейцы и бросали связки гранат, бутылки с горючим или мины под гусеницы приближающихся танков. Людей мяло, жгло, разрывало, гусеницы танков были в крови и мясе, – а люди все выходили и выходили, не пуская танки дальше воображаемой теперь изгороди, – недавно еще совсем состоящей из тонких и гибких прутьев смородинника. Слушая короткие сообщения, Матвей дрожал, несколько раз подбегал к майору, прося, чтоб тот назначил его в дело, но майор грубо отталкивал его и кричал на ухо:
– Твое время придет. Ты жди!
Матвей оглядывался. По окопам пробежали, сгорбившись, рабочие, держа в вытянутых руках винтовки или гранаты, и глядя в их лица, Матвею было стыдно думать, что именно эти люди прозвали его «полковником», ожидая от него помощи. «Ну, какой же я полковник? Стою здесь, как сыч, и хоть бы один разумный совет подал майору?.. Дурак, дурак!..» – твердил он самому себе, стараясь тем не менее сделать такое выражение лица, которое говорило бы, что он занят крайне важным и нужным для обороны завода делом. Раза два пробегавшие мимо на смерть крикнули ему:
– Ничего, выдержим, полковник!
И это слово хлестнуло его по лицу как кнутом. «Полковник?! Вот он сыплет с неба снаряды и бросает их с земли, вот он – полковник! – думал с горечью Матвей. – А я? Чего я добился? Ради чего работал? И не командую, и сам не бьюсь. Стою как дурак. Дурак!..»
Майор подошел к нему и крикнул в лицо:
– Ты что такой хмурый? Немцы-то пятятся! – И он с удовлетворением хлопнул себя по ляжкам. – Знаю, пустят еще эшелоны! А самое главное, первому дать по морде! – И он пояснил: – Если, предположим, скат наш имел бы пять ступенек, террас, то немцы теперь, бывши почти на пятой, отошли на третью…
Видимо выражение это понравилось ему. Он улыбнулся и решил про себя, что так и передаст его целиком генералу Горбычу. Он повторил:
– Попятились на третью… Малость их прорвалась вверх, к Дворцу, да это мелочь, пехота. Я на нее и резервы не пущу танковые, я ее гранатами выбью, если прорвется во Дворец…
– Прорвались уже, сволочи, прорвались! – услышали они возле себя истошный голос Силигуры.
Без шапки, с длинными волосами, облепившими его лоб, с трясущимися бледными губами, с расстегнутым воротом выцветшей и много раз штопанной рубашки, открывавшей костистую и жалкую шею, стоял он перед ними, высоко подняв руки.
– Как же вы, работники культуры, позволяете себе глядеть? – ведь они прорвались! Они к библиотеке прорвались, к статуе Ленина! Они дворец его имени взорвут, зажгут, поймите!..
И не веря, должно быть, что слова эти могут быть поняты Матвеем, он закричал ему:
– Как раз в том крыле, где радиоузел! А там и Мотя, и Полина. Молодые девушки, поймите, Матвей Потапыч! Неужели вы позволите?!
Он опять, вздев руки, кинулся к майору, которого явно раздражал проповеднический, неистовый голос Силигуры.
– Противник какой численности? – спросил строгим, военным тоном майор.
Силигуру нельзя было пронять никаким военным тоном. Хватая всех, кто пробегал мимо, он вопил о культурных ценностях, которые зажгут немцы, о ста тысячах томов библиотеки, что гибель этой библиотеки подорвет репутацию всей армии Горбыча… Майор наконец сказал:
– Товарищ Кавалев, возьми взвод и выбей этих немцев.
И добавил, строго глядя на Силигуру:
– Только вы, товарищ, поведете…
– А как же? Я с радостью. – И Силигура кинулся жать руки майору. – Я все места укажу!
Майору некогда было любоваться или негодовать на странного библиотекаря. Майор сказал Матвею:
– Два взвода. Одного мало. Но чтоб в полчаса локализовать противника, и вернуться сюда. Немцы набиваются плотно. Кажись, вторая волна танков идет. Ты мне еще понадобишься, товарищ Кавалев! Снарядов! – закричал он не своим голосом в телефон. – Почему не дали на седьмой сектор снарядов? Под суд!
Но это уже не относилось к Матвею. Майор занялся разрешением другой задачи и забыл о Матвее.
Глава тридцать восьмая
Рамаданов хотел пойти по цехам, как только началась артиллерийская подготовка. «Успею везде побывать, – уговаривал он сам себя. – Я старик, и когда бы я ни вышел, всегда для меня получится рано». И, рассердившись на воображаемого собеседника, который как бы упрекал его в частых ссылках на слабость и старость, Рамаданов, стукнув кулаком о стол, крикнул сам про себя: «Нет! Я все-таки старик. И по милости этих идиотов немцев мне придется ходить по цехам и делать вид, что у меня не устали ноги. Я пойду, милостивый государь, когда найду нужным!»
Все предчувствовали, что на этот раз после артиллерийской стрельбы последует атака. Рамаданов решил: «Пойду, когда они пойдут». Однако же «старик» не усидел в кабинете и часа за два до атаки немцев, собрав вокруг себя виднейших инженеров и конструкторов и пошутив, что «хоругви подняты», жалуясь на слабость и старость, пошел по цехам.
Едва он прошел два-три пролета, едва вгляделся в лица стоящих за станками, как ему стало неловко, и он подумал: «А я собирался вдохнуть в них дух бодрости и доблести». Лица рабочих были такие же, как и всегда: сосредоточенные, углубленные в свое дело до такой степени, словно они не понимали, что происходит, или же словно они желали подсмеяться над «стариком». Но стоило ему переброситься с ними парой слов, как он почувствовал, что они превосходно сознают ту опасность, которая идет к ним из-за реки, ждут ее, и винтовки, стоящие возле каждого станка, стоят недаром. Один рабочий, пожилой, лет пятидесяти, на прямой вопрос Рамаданова ответил:
– Да ведь как не бояться? Боишься. Но ведь рассуди: бросишь станок, убежишь, тогда еще страшней будет.
Второй, шедший мимо, с длинными, закрученными вверх седыми усами, остановился и сказал:
– Сынок у меня, с бутылкой, в окопе стоит. Хм! Непьющий. Всегда, вишь, думал: отброшу бутылку и спасусь. Хм-м!.. Не знаю, Ларион Осипыч, надолго ль нас хватит, а хватит – мы его (вероятно, врага. – Ред.) хватим!..
– Человек не бутылка, хватит подольше! – сказал Рамаданов, который входил в цех с тем чувством, когда в лицо тебе повеет переменный ветер, – наверное, жди потепления. Слова седоусого принесли большое и светлое тепло на его сердце. Усталость, которой ждал он, не приходила. Он шел от станка к станку, от машины к машине, радовался на цифры, отмечающие успехи стахановцев, радовался улыбкам, и сам улыбался такой улыбкой, что рабочие вслед ему весьма одобрительно кивали головами, как бы говоря: наш старик не подведет, бой-старик!
Рассветало.
Скатали черную бумагу. Окна открылись. Хлынул свежий воздух. Солнце явилось уже чуть поврежденное началом осени, словно оно состарилось в эту ночь яростной бомбежки. Бумага трепыхалась от взрывов. Отрывались и, надувшись, летели вдоль рам обрывки ее. Сыпались остатки недобитых стекол.
Рупор радио остановил Рамаданова:
Омерзительный хорек,
Отвратительный хорек…
Рамаданов узнал терзающий голос Полины Вольской. Ему не нравилась ее манера, ее тембр, но племянницы его, у которых он часто бывал, каждый раз пытались доказать ему, что Полина Вольская – «Орфей наших дней», на что Рамаданов обычно возражал: «Орфей в переложении для цыганского хора. Нет! Беллетристика, а не поэзия!» Поэтому, хоть он ее и замечал на заводе, и Горбыч отзывался о ней одобрительно, Рамаданов мешкал встретиться с нею. Ее появление здесь казалось ему надрывом, «цыганщиной и беллетристикой, от которой отвернулась бы даже любая, самая юная, курсистка». К сожалению, племянницы его уехали в Москву, а то с каким бы наслаждением он сказал бы им: «Вот-с, до чего доводит ваша хваленая беллетристика!» Как и все, как и всегда, он, – не сознавая этого, – признавал истиной, что теперешние люди стали более трезвыми, чем, скажем, во времена Бальзака, и положения, подобные положению Полины Вольской, суть положения неестественные и потому нетерпимые. Беллетристика!..
…И оружьем, и огнем
Его встретит каждый дом!
Рамаданов с удовольствием слушал пластинку. Не оттого ли, чтобы доказать Полине Вольской нелепость и детскость ее положения? Он как раз находился в том цеху, где начальником был Матвей. Рамаданов взглянул на станок его, за которым должна была сейчас стоять Полина Вольская. Вместо нее у станка суетился какой-то розовый юноша в черных коротких штанах и рубашке с галстуком-бабочкой, очевидно, до смерти влюбленный в Полину.
Значит, в радиоузле-то пела сама Полина? Смело! Правда, цеху и рабочим сейчас не до пенья, да и то сказать – нашли гимн битвы… Но пение входило в душу. Такое пение не повредит доброй славе Полины Вольской, а наоборот… Рамаданов вынул платок, очень растроганный, и спросил сменного инженера:
– Где начальник цеха?
– Ларион Осипыч! Он в окопах, на откосе.
– Кавалев на откосе?
– Ларион Осипыч! А как же? Он у нас ответственный за обучение отрядов самозащиты. Он у нас – полковник, Ларион Осипыч!
– Кто теперь за бывшим кавалевским станком?
– Смирнова.
– Полина?
Сменный инженер поглядел на мастера. Инженер по именам знал только стахановцев. Но раз директор знает ее по имени, значит, она сегодня, может быть, успела создать рекорд? Мастер, некрасивый, рыжий и веснушчатый мужчина, тем не менее пользовавшийся у женщин большим успехом, преимущественно из-за неколебимой уверенности своей, почти профессорской, успокоил инженера. Приятным и ровным голосом он объявил, что П. А. Смирнова на полчаса отлучилась в радиоузел и не возвращается, – мастер поглядел на позолоченные ручные часы, – уже два часа, надо думать, из-за каких-либо «повреждений» в пути. Мастер пробовал поухаживать за Полиной. Она отвергла его. Сейчас ему хотелось подложить ей «свинью», хотя он и не был злопамятным, – просто бомбежка раздражала его: он должен был в тот вечер, пораньше окончив работу, пойти на свиданье. Но мастер понимал, что проницательный «старик» все поймет, и посему он только сыронизировал.
– Как она выполняет норму?
– Хорошо, Ларион Осипыч. Иногда и до полутораста доходит. Я чувствовал, в ней бродит идейка, но волнения последних дней помешали ей производственно оформиться! – И мастер добавил спокойно: – Немца отобьем, Ларион Осипыч, тогда она производственно оформится.
Мелкими шажками, закинув назад красивую голову, подошел Коротков. Инженеры почтительно расступились. Коротков, которому казалось, что «старик» долгим пребыванием в цеху Кавалева излишне «поднимает» его, с подчеркнутыми подробностями, дабы показать, что «старик» стоял здесь и ждал долго его, Короткова, стал рассказывать, как идет демонтаж гидравлического пресса «Болдвин».
«Старик», действительно, очень интересовался демонтажем «Болдвина».
Пресс «Болдвин» – дорогая громада в четыреста пятьдесят тонн весом. Чтобы погрузить его целиком, надо шестнадцать больших железнодорожных платформ…
– Шестнадцать? – Рамаданов скорбно всплеснул руками. – Да ведь из шестнадцати у одной непременно буксы сгорят, и ее отцепят и угонят в какой-нибудь чертов тупик…
Рамаданов устремился в штамповочный цех, где стоял «Болдвин».
Не желая делать обхода, он присел, набрал воздуха – и перепрыгнул через окоп, огибавший цех!
– Здоров старик!
– А все жалится.
– Это чтоб молодые не жалились! – слышались голоса позади Рамаданова, и ему приятно было слышать их.
Пресс «Болдвин» привезли из Америки года четыре тому назад. Для его монтажа американские инженеры назначили срок в четыре месяца. Монтаж взялся сделать в два с половиной мастер Никифоров, ныне инженер. И он смонтировал пресс! Рамаданов помнил дождливую осеннюю ночь. Прибежал счастливый Никифоров. У Рамаданова, как всегда в непогоду, ныли суставы и ему не хотелось выходить из теплой и светлой комнаты от мудрейшей книги. Но оказалось, что жизнь иногда веселит больше, чем самая высокая мудрость. Никифоров зашептал, что «надо не дожидаться американцев, Ларион Осипыч, надо самим попробовать, я и форму приготовил: герб наш, понимаете, Ларион Осипыч!» И они пошли по лужам под густым и нестерпимо холодным дождем. В цеху на белой известковой стене висел транспарант с приветствием монтажникам. Лица у всех были торжественные и таинственные, словно они готовились насмеяться над всей Америкой, и еще таинственнее стали они, когда Никифоров положил на широкую и тусклую поверхность, «под» пресс, форму, изображавшую серп и молот в пятиконечной звезде. Оператор нажал кнопку. Пресс медленно и торжественно стал опускать свою верхнюю челюсть…
Как изменилось все!
Какие иные лица! Какая иная таинственность! И как по-иному Никифоров, теперь уже просто советчик, смотрит на демонтаж пресса «Болдвин».
Пресс был строен, легок и похож был на трость, которую какой-то великан воткнул в бетонный пол цеха. Вокруг него всегда весело блестели детали, приготовленные для штамповки, вспыхивали красные и синие лампочки, на стапелях возвышались «заделы» – детали, перевыполненные по плану, а теперь – тросы, блоки, цепи, какие-то катки на длинных железных полосах и великое множество громоздких, пыльных и кое-где даже уже подернувшихся ржавчиной частей, всего того, что недавно составляло эффектную громаду пресса «Болдвин».
Стараясь отогнать грусть, Рамаданов стал выспрашивать – почему так много блоков и при чем тут катки, хотя он и знал великолепно, почему все это здесь. Выдумщик, песенник и плясун, молодой стахановец Привалов, руководивший демонтажем пресса, стал пояснять:
– Заводы, наши поставщики, Ларион Осипыч, почти что все погрузились и все тяговые средства с собой погрузили…
Рамаданов спросил Короткова:
– Куда они так торопятся?
– На всякий случай.
– Город не возьмут!
– Не в том дело, Ларион Осипыч, что город немцы возьмут, – вмешался в разговор Привалов, – в том дело, что СХМ-то во всяком случае вывезут, а их могут оставить…
– Мы никого не оставляем!
– Не оставляем, верно. А остаться можно. Оборудование все-таки и у них ценное…
– Вот мы своими перевозочными средствами и собираем у них то, что, они думают, останется. Металл, главным образом, – сказал, ухмыльнувшись, Коротков.
Коротков, несомненно, улыбался над суматохой заводов-смежников, которые, зачастую почти без расписок, – а без накладных как правило, – отдавали СХМ весь ценный цветной металл, все тросы, кабеля… Рамаданову не нравилось короткое чувство превосходства! Желая обрезать его, он сказал:
– Если заводам-смежникам откажут в вагонах или составах, прицепляйте к нашим. Там, за линией фронта, разберемся.
– А если из-за них влипнем? – недовольным голосом сказал Коротков. – Если застрянем, Ларион Осипович? Не вывезем агрегат?
– Пробьемся!
И Рамаданов добавил:
– Поручим Матвею Кавалеву сопровождать эшелоны. Он пробьется! Как вы думаете, Коротков, он пробьется?
– Не будем доводить себя до такого положения! – сдержанно ответил Коротков.
– А все же?
Коротков поднял на него глаза. Они говорили: «Между нами, Ларион Осипыч, уже нет вражды. Что-то произошло, я еще не знаю, что, но ни вражды, ни ревности между нами нет! Причина этого, мне думается, выяснится в ближайшие дни, а возможно, и часы. Поэтому с открытым сердцем я могу сказать: если поручите, Кавалев выведет эшелоны. Но давайте не доводить оборудование до подобного риска».
– Итак, доведет? – со старческим упорством спросил Рамаданов.
Глава тридцать девятая
– Доведет Матвей Кавалев эшелоны, в случае чего, или не доведет?
Коротков опять вскинул на старика красивые и ясные глаза. «Ну чего ты влюбился в этого Кавалева? – опять спрашивал этот взор. – Зачем ты даешь лишнюю пищу любопытству и толкам? Да, в Матвее есть ум, отвага, великодушие, но нельзя же, Ларион Осипыч, быть до такой степени сентиментальным!»
На этот раз от взора Короткова старику стало не по себе. «Пожалуй, я, действительно, старею», – подумал он. И дабы Коротков не огорчался и решил, что вся предыдущая настойчивость старика – лишь подчеркнутое указание: «мол, не один ты, Коротков, умный человек на СХМ», Рамаданов громко сказал:
– Я говорил нынче по телефону с Наркомом. Заводу, на его узбекском филиале, нужен молодой, крепкий и толковый директор. Местной общественности необходимо втолковать, что к ним переселяются не только люди… Переселяется большая техническая культура! Если Узбекистан осознает такое положение – мы не удвоим, мы учетверим продукцию. Ведь что получается: удваиваем здесь и удваиваем там… Как вы думаете, Коротков?
– Здесь удвоим, а там: не знаю.
– Вот вы поедете туда директором и узнаете. А узнав, удвоите продукцию?
Коротков побледнел и весь выпрямился. «Ну и честолюбив же, дьявол», – с удовольствием подумал Рамаданов. И ему понравилось, что Коротков не стал ломаться, говорить, что он не сумеет, не справится, а просто и ясно заявил:
– Трудность там та, что у них плохо с металлургической базой.
– Другого подходящего места, куда направить наш завод, нету. Металла не хватит? Создайте металл! Металлургов нет? Научите! Мы же рабочие. Мы, дорогой мой Коротков, робинзоны на этом острове, который называется планетой…
В ворота цеха словно кто ударил тяжелым молотом.
Ворота упали.
Ливень осколков, щебня, волны земли – ринулись в цех, калеча и ломая людей, засыпая грязью и пылью части пресса.
Рамаданова ударило о какой-то ящик, перевернуло и снова ударило. Колющая, нестерпимая боль пронеслась по всему телу. «Нет, не конец, – подумал Рамаданов. – Не может быть, чтоб такой больной конец».
Он привстал на локте. Над ним склонились лица Никифорова, Короткова, мастера Привалова, конструкторов. По железной лестнице сверху из кабинета начальника цеха бежал врач, размахивая санитарной сумкой. Луч солнца, освещавший лестницу и игравший на ее отшлифованных ступеньках, упал на эту сумку и осветил узенькую медную застежку.
– Ранен? – спросил Рамаданов.
Лица отступили.
Теперь Рамаданов видел только лицо Короткова. Оно было смертельно бледно, и на эту бледность было крайне неприятно смотреть, потому что она проступала сквозь пыль и сор, брошенные на Короткова взрывом, который он, видимо, не успел стряхнуть.
– Ранен?
– Слегка, Ларион Осипыч, – сказал, глотая слезы, Коротков. – Сейчас перевяжут.
Рамаданов закрыл глаза. Боль все увеличивалась и увеличивалась, Рамаданову хотелось, пока боль не захватила все сознание, сказать самое главное. Но позади, словно какие-то плывущие смутные острова, наплывали совсем ненужные мысли, превращаясь то в камыш с сухими длинными метелками, то в длинную, режущую ноги траву… Куда он идет? Куда он торопится?.. К Матвею? Да, Матвея надо выручить!..
– Осторожней поднимай, осторожней, – услышал он вдруг, и он подумал, что эти заботливые люди напрасно, кажется, стараются поднять его, лучше, пожалуй, поскорее поднять пресс «Болдвин».
Глаза слипались. Рамаданов с трудом открыл их, и сразу же сознание его прояснилось, и он вспомнил то самое главное и важное, что ему хотелось сказать Короткову. Движением бровей он придвинул к себе его лицо и, глядя не на лицо, а на руки врача, которые с невероятной ловкостью и проворством шныряли где-то у его живота, сказал:
– Самое главное?.. Да… Чем все это кончится?.. Да… Я знаю… победой… но как?.. где?..
Боль стихала. «Да, кажется, теперь конец, – подумал Рамаданов. – Раз такое, значит, конец. Он не бывает больным…» Глаза слипались в медленной, неодолимой слабости, Рамаданов открыл их. Теперь он глядел в мокрое и молодое лицо Короткова. «Чего это он? Чему, чудак?» – подумал Рамаданов, и ему стало немного, но совсем немного, жалостью величиной с пушинку, жаль Короткова. Поэтому он, до того желавший сказать: «Несите меня к нему…», подразумевая Матвея, – потому что это был самый близкий человек на заводе, теперь сказал:
– Несите меня… домой…
Он закрыл глаза. Кто-то осторожно дотронулся до его ног, и он почувствовал, что они отяжелели. Мир отдалялся, но был еще близок, и ему очень не хотелось расставаться с ним. С усилием он открыл глаза и увидал теперь перед собой лицо парторга Бронникова, его короткие, подстриженные усики, белесые глаза, двойной подбородок и потный лоб в глубоких морщинах. Настойчивый, но тугой человек! Рамаданов часто ссорился с ним, потому что Бронников, как думалось Рамаданову, постоянно стремился все сделать по-своему и постоянно плохо. Вот теперь, наверное, понесет директора в партийную организацию, устроит прения… А как дела на откосе? Должно быть, не так плохо, раз они все здесь?..
Рамаданов твердым, как ему казалось, голосом сказал:
– Несите меня домой.
На самом же деле слушающие его видели только чуть пошевелившиеся губы, темные и сухие, и строгое движение бровей. Тем не менее парторг Бронников понял его и приказал:
– Несите его домой!
Он схватил большими руками крошечную головку врача и, обжигая ему уши дыханием, прошептал:
– Операция нужна?
Врач ответил:
– Нужно исполнять последнюю волю. Ни операция, ничто не поможет. Он умрет через час, самое большее.
Бронников сказал, берясь за ручку носилок:
– Он хочет домой. Домой, Ларион Осипыч?
Рамаданов открыл глаза:
– Да!