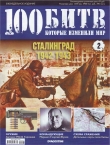Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Глава шестнадцатая
Тишь стояла так долго, что, казалось, она распространилась на всю землю. Шлепающие шаги прохожих по мягкому, словно хлебный мякиш, асфальту доносились сюда, в библиотеку, словно из звукоусилителя. Слышно было не только то, о чем говорили встречные, но даже и то, как ложились ладонь к ладони их руки. Девушки, возвращающиеся с окопных работ у реки, восклицали так молодо и так сильно, что голоса их казались подслащенными и неестественными.
Но затем подул ветер и, словно исполняя чье-то поручение, снял всю тишину. Проспект наполнился гремящими, стонущими, звякающими и ревущими звуками. Ветер будто объединил их и понес возбужденной и стремительной массой.
Пришлось закрыть окна.
Владислав Силигура вернулся к столу. Гудящий и жужжащий город остался за двойными стеклами, – вплоть до воздушной тревоги. Но немедленно же в сердце зашумел огромный город его чувств. Он вспомнил семью, троих детей, бабушек, двух дядей… Все это теперь пробиваясь сквозь жару и ветер, едет к далекому Узбекистану, в глубь нашей страны. У каждого свои заботы, тревоги – и все они, вместе, помещаются вот здесь, в сердце Силигуры, библиотекаря. Он рассматривал каждого из них в отдельности, и каждый из них встречал у него хороший прием…
Глядя на закапанную голубую чернильницу с широким, как блюдечко, дном, он думал: отправить им вдогонку все семь томов, которые он написал о жизни СХМ, или не отправлять? И он опять повторил то же самое, что сотни раз в последние дни повторял самому себе: «Значит, те сто тысяч томов, которые стоят вокруг тебя и которые эвакуируют в последнюю очередь, ты считаешь менее ценными, чем твои семь?» И он ответил самому себе тем же, чем отвечал раньше: «Недостойно! Родные увидят трудности там, где их нет. Пусть тома лежат вместе с остальными ста тысячами».
Он развернул восьмой, – самый яркий том истории, – и стал из него переписывать в письмо, которое отправлял вдогонку своим родным. Но, переписав несколько строк, он решил их зачеркнуть с тем, чтобы ими закончить письмо; вначале же решил изложить свои личные переживания, с которыми, кстати сказать, редко соглашалась его жена.
«…Это ваше мнение, а не мое…» – писал он, предвидя все ее возражения. Из уважения к его знаниям, из любви к его высоким чувствам, жена часто преувеличивала его достоинства, и теперь, когда смерть могла посетить его каждую минуту, он признавал особенно вредными эти преувеличения.
Смерть? Он держал перо в руке на весу, переводя взор с чернильницы на лампу, завешенную плотной бумагой. Глаза у него маленькие, пожалуй, их можно было б назвать крохами глаз. И тем не менее, он совершенно отчетливо видел смерть – эту «иностранку» с ее историей, которая всем отвратительна и омерзительна. Она буравит и сверлит сознание, спиралью страха скручивает сердце, – и как же велик тот человек, который может победить ее и презреть во имя родины и счастья человечества? Он глядел на нее тусклыми и крохотными глазками и шептал: «Презираю!»
И это не было ни притворством, ни упоением запахом славы, мокрые ветви которой, как распустившаяся черемуха, били его по лицу. Нет! Силигура не преувеличивал своего значения. Поэтому-то он, желая, чтоб его родные приняли возможную его смерть с достоинством, писал им, даже слегка унижая себя:
«Зайцы тоже имеют острые зубы. Но это только травоядные животные, хотя, с моей точки зрения, и смелые. Однако, мне хотелось бы, чтоб ты меня считала зайцем, а не пантерой. Заяц защищает своих детей. А у меня их двойное количество: вы, семья и еще гигантская семья моих книг, тоже требующих защиты. Вот почему, я стараюсь, насколько могу, быть и смелее, и крепче…»
Жара сгущалась исподволь. Силигуру, таким образом, жарило как бы на медленном огне. Он снял с плеч неизменный плащ и расстегнул ворот, обнаживший тощую веснушчатую шею. Надо спешить. Ему еще предстояло отобрать книги для выставки об Отечественной войне 1812 года. Помощников у него осталось мало. Библиотекари, – они, преимущественно, страдают мигренью, – оказались у него все на диво сложенными мужчинами: до одного их забрали в армию! Женщины-помощницы частью эвакуировались, частью ушли в цех. Словом, Силигуре приходилось теперь работать за пятерых, и он налетал на полки как коршун на цыплят.
Сегодня он встретил на Проспекте крестьянскую девушку Мотю. Он однажды уже упомянул ее имя в своей «истории». Теперь он считал своим долгом следить за ее душевным состоянием. Тоска в ее глазах не нравилась ему. Он остановил ее. Она его знала. Она заговорила с ним робко. И предки ее и прапрапредки считали книжников колдунами и знахарями. Что-то осталось в ней от этого суеверия. К тому же и странный вид Владислава Силигуры заставлял думать, что он знает много таинственного. Он предложил ей поступить в библиотеку.
– В библиотеку? – повторила она с таким почтением, что Силигура умилился. И она обещала прийти в восемь вечера, как назначал библиотекарь.
Стрелка приближалась к восьми. Библиотекарь писал торопливо. Но внезапно он положил перо. Ему вспомнились мемуары. Чем больше человек воображает о себе, тем длиннее тома его воспоминаний. А что такое письмо, как не воспоминание о вчерашнем и сегодняшнем дне? Следовательно, чем больше ты пишешь о себе, тем сильнее выдаешь свое тщеславие и рисовку. И, улыбнувшись, он написал:
«Таково, насколько хватает глаз, обозрение моей личности. Перехожу к тому, что творится на заводе». – И он стал переписывать из «Восьмого тома». – «На СХМ нарастают крупные события. Ходят слухи, что… – Он подумал о военной цензуре, но затем махнул рукой: какая там цензура может быть в истории? В истории один цензор – истина. И он продолжал: – Ходят слухи, что немцы приближаются к той стороне реки и находятся едва ли в сотне километров. Дорожные люди передают, что полковник фон Паупель, командир танковых войск, располагает едва ли не тысячей танков. Этот факт, конечно, привлекает к себе внимание, и поэтому начальником оборонных отрядов СХМ назначен известный вам стахановец, прозванный „полковником“ Матвей Потапович Кавалев. С моей точки зрения, хотя он и личность популярная, шаг – рискованный. Встреченный мною сегодня Матвей на вопрос, один ли он командует, – ответил, что он больше инструктор, чем командир, командует отрядами майор артиллерии Выпрямцев. Я расспрашивал об этом майоре. По всей видимости, знающий человек. Но, конечно, нашим рабочим мало знающего человека, им необходим человек со взлетом, голос которого был бы как удары колокола, следующие один за другим. Все эти данные, как будто, у Матвея есть, но в то же время есть у него… как бы сказать, некоторые поступки, которые кажутся иногда стремлением плясать на канате, словом, человек с причудами…»
К столу своим твердым и звонким шагом подходила Мотя.
«Отныне события буду записывать, – торопливо водил пером Силигура, забыв о том, что недавно упрекал другого в причудливости в „Восьмом томе“ своей истории, – нерегулярно, так как я сам записался в отряды обороны завода, в отряды самозащиты. Конечно, если б кому из библиотечного архива удалось бы осуществить продолжение моих записей, я был бы весьма признателен…»
Он зачеркнул слова «я был бы» и вставил вместо того «история была б». Он поднял глаза на Мотю. Желание, чтоб она писала продолжение его «истории» светилось в них. Кроме того, она близка к семье Кавалей, а Матвей сейчас, именно волею истории, принял приглашение и дал торжественное обещание участвовать в ближайших ее замыслах.
– Обязанности ваши, Мотя, – начал было Силигура.
Мотя прервала его:
– А у меня от книг голова кругом, Владислав Николаич!
– Люди привыкают к пропастям, сулящим смерть, а к пропасти мудрости куда легче привыкнуть.
– А мне бы в другое место…
И она посмотрела на Силигуру такими молящими глазами, что он смутился. Ему захотелось помочь ей, и он опасался, что не сможет. Он проговорил как мог суше, чтобы тем легче было ей перенести его неуменье помочь:
– Какое ж другое место почетнее?
– Мне не почетнее, а полегче.
– Книга не тяжесть.
– Книга не тяжесть, а у меня на буквах глаза запинаются.
– Куда же вы желаете?
– На радио, – быстро сказала она, густо покраснев.
Силигура ожидал, что она попросится в Заводоуправление, в какой-нибудь сложный цех или на какую-нибудь мужскую работу… но никак не на радио.
– Почему на радио?
– Да голос у меня… говорить я люблю… читать я умею. Я у нас на селе десятилетку кончила, хотела в институт, а – война…
– Сейчас даже легче поступить в институт. Вы в какой собирались?
– Да не хочу я в институт! – воскликнула она, сводя и без того сросшиеся брови, так что они образовали теперь над ее глазами сплошной черный свод. – Я хочу на радио! Я у нас в селе выступала в радиоузле, читала…
И она засмеялась:
– А раз даже пела!
Силигура, слушая этот развевающийся, как флаг, смех, искренне пожелал ей счастья. Ну что ж, если она считает действительно способной себя к работе на радиоузле завода, почему не попытаться устроить ее? Ему хотелось узнать причины, по которым она стремится на радио, но, в конце концов, разве он их не узнает? Человек, отдавшийся истине, всегда узнает истину.
Матвей столкнулся с Мотей у подъезда, когда она возвращалась от библиотекаря, а он с военного ученья. В ста шагах от него на Проспекте еще темнела толпа рабочих, из которой он недавно вышел. В ушах отдавались слова команды, звякали падавшие на асфальт связки гранат, мерещились модели танков. Ученье не было совсем таким легким, каким воображали его многие, да и, пожалуй, Матвей в их числе. К тому же и учителя и ученики нервничали. Обходя отряд, маршировавший на площадях, на стадионе и на заводском дворе, Матвей как бы собирал в себя всю эту нервность. Он желал противостоять ей и знал, что проявить себя в этом можно только в бою. Следовательно, он должен бы желать боя? Желать его на территории завода? Ни за что! Вот почему нервность рабочих казалась ему и близкой и понятной, и довольно трудно уничтожимой.
Когда он, окончив работу, пошел по отрядам, его догнала Полина.
– Вы домой? – спросила она.
– Из отрядов, зайду домой.
– Я вас попрошу, Матвей Потапович, скажите, чтоб не беспокоились. Я, наверное, вернусь попозже. – И она сказала с неудовольствием: – Меня вызвали в штаб.
Матвей понимал ее неудовольствие и испытываемую неловкость – разве она должна давать отчет, куда направляется? Она теперь и в квалификации и в уважении! Вся остальная надежда только на себя.
– В какой штаб? – спросил он, не желая спрашивать.
– В штаб командования участком фронта, – ответила она. – Вот повестка.
– Ладно, – сказал он, мельком взглянув на повестку.
И он отошел. Этот разговор быстро исчез из его памяти, пока он ходил по отрядам. Но, сейчас, увидев Мотю, он вспомнил его. Почему в штаб? Зачем? К кому? Может быть, какая-нибудь прежняя любовь? Но почему же тогда повестка за подписью начальника 8-го отдела? И что это за отдел? Матвей пытался вспомнить сейчас, – чем занимается этот отдел, – и не мог. На мгновение шум автомобилей и мотоциклетов прекратился, рабочие разошлись и Проспект опустел. Тогда от моста послышался смех лесорубов, восклицания… очевидно, валили какое-то большое дерево. Так и есть! Послышался треск ломающихся сучьев.
Матвей строго поглядел на Мотю и сказал:
– Ты вот что, Мотя! Ты брось обижать Полину! Ты с ней помирись. Ты об ней зря думаешь, что я с ней путаюсь. Я если и путаюсь, так в военных делах. А голову мне надо держать трезвой.
Мотя от радости улыбнулась и даже закрыла глаза. Исчезнувший блеск глаз и неподвижная неистовость ее лица были ему очень неприятны.
Мотя, ожидавшая, что он возьмет ее за руку и не почувствовав его пожатья, открыла глаза и сказала:
– А ты держи голову сколько хочешь прямо. Я тебе голову не закружу. И Полину я буду видеть мало. Я теперь на радио поступаю! Хочешь, чтобы я здесь осталась, ну я и останусь!
– Ну, какой тебе сосед радио? – сказал Матвей с неудовольствием.
– Такой близкий, что ты и не понимаешь, – ответила Мотя, едва ли зная сама, какую она сейчас высказала истину и о себе, и о Матвее, и о Полине, которая в эти минуты пересекала улицу Кирова, чтобы войти в будку пропусков и затем в штаб командования участком фронта.
Глава семнадцатая
Сирены проревели отбой. Матвей сложил пожарную кишку; поверх ее, несколько наискось, водрузил длинный латуневый брандспойт и вышел из чердака на лестницу. Хлопали двери квартир. На улице слышались возбужденные голоса возвращающихся из бомбоубежищ.
Часы показывали десять вечера.
– Вовремя отбили, – сказал, смеясь, отец. – Авось, даст выспаться. Как бы чайку устроить, мать? Выпьем, Матвей!
Матвей присел к столу, молча выпил три стакана, стараясь изо всех сил придумать такое, о чем бы могла говорить и семья, и все живущие в квартире. Но люди, от усталости и духоты в бомбоубежище, не испытывали надобности в обмене мыслями. Кто-то рассказал, что в школу, квартала через четыре от них, попала бомба… детей, к счастью, в школе не было… Разговор затих.
Матвей развернул книгу по математике. Не понимая не только ее смысла, но даже и надобности в ней, он просидел над нею полчаса… час… Полина не приходила. Он взял фуражку.
– Если кто по телефону… – сказал он, – я буду у Лариона Осипыча.
Последние дни он часто посещал Рамаданова. Сначала он приходил к нему под предлогом совета: какую почитать книгу или «протолкнуть» чье-нибудь рационализаторское предложение, которое, по мнению Матвея, неизбежно должно было застрять в канцелярии. Но затем он привык приходить без повода, а просто наполненный желанием видеть и слышать «старика». Если он не заставал Рамаданова, он садился на ковровый диван, брал один из художественных альбомов, которые так любил «старик», и раскрыв его, долго сидел с ним, и видя репродукцию и не видя ее. Иногда перед ним вставал молодой человек с русыми волосами, как пишется «на ¾ вправо, смотря на зрителя». Это был портрет работы Якопо Пальма Старшего. На молодом человеке – белая сорочка, черный камзол и черная шуба, подбитая серым мехом. Правую руку в перчатке он держит на столе… «Откуда он? – думал Матвей. – Кто он был такой? Чем он мучился и чему веселился и думал ли он о том, для чего он живет? Какие у него были друзья? С кем он встречался? Кого любил?»
Входил Рамаданов, потирая поясницу и семеня ногами в мягких кавказских сапогах. Он здоровался кивком головы и, судя по тому, что он угощал кофе «своей варки» только особенно приятных ему гостей, вид Матвея доставлял ему удовольствие. Он приносил кофейницу, сам молол кофе, склонив голову набок и время от времени нюхая размолотую массу, похожую на мокрый песок. Затем он поднимал тонкую фарфоровую чашку с пурпуровым ободком, под которым мутно темнела густая влага, и говорил:
– Война закрывает пути. Когда-то провезут к нам новые партии сей аравийской снеди? Поэтому, пейте много его, дружище! Память удерживает только множество, и в особенности это относится к пище и питью.
Он закидывал нога на ногу, показывая голенища сапог, и, щурясь, отхлебывал крошечные глотки. Кофе напоминало ему Йемен, Сирию, камни, высохшие источники, холмы крупного песка и щебня. Затем, словно на волшебном ковре, он переносился через Средиземное море – и пред ним вставала Греция! Будто сказочные испарения, из-за вершин аметистовых волн виднелись острова Архипелага, то поднимаясь, то опускаясь как волны воспоминаний; они проплывали перед ним как волны молодости, в которой, некогда, он посетил эти острова…
Эти острова все время просвечивали сквозь ту беседу, которую он заводил и слушать которую доставляло Матвею наслаждение удивительное. Красота и вечность этих островов, их мифы, добавляли особую нежность к тому ужасу восторга, который охватывал Матвея обычно к концу беседы.
После особенно длинной фразы, старик, как правило, прокашливался и выпивал глоток кофе. И тогда Mатвей видел перед собой Платона, очень пожилого, длиннолицего, загорелого, в сандалиях из потрескавшейся кожи. Он сидел на камне в саду Академии, в предместьях Афин. За невысокой каменной оградой слышались голоса погонщиков, которые вели тяжело нагруженных ослов на базар; крики ругающихся торговцев или визгливые сплетни парикмахеров, или часто срывающаяся песня пьяницы. Платон, ожидая, когда наступит приблизительная тишина, подносил ко рту длинный кувшин с холодной водой, только что принесенный одним из его учеников. Затем, он брал рукопись с колен и оглашал какой-нибудь отрывок из «Политейя». И сердца учеников и сердца приехавших издалека путешественников – искателей истины содрогались от счастья! «Справедливость, здравствуй!» – говорили их восхищенные взоры, которыми они обменивались. И они как бы видели перед собой «золотой век на земле», который лился в строках Платона; и воображение их наполнялось желанием рассказать об этом веке своим соотечественникам. И они спешили и в Египет, и на таинственный Кавказ, где, говорят, жили орлы величиною с мула, и на Оксус, где всадники срослись с туловищем коней, и вдоль берегов Африки, острых и высоких, где в каждой расселине гнездились змеи и львы…
…Рамаданов ставил чашку на стол и поднимал высоко кофейник с длинным изогнутым носиком, в конце которого постоянно блестела капля кофе. Ложечка позвякивала о блюдечко.
– А вам, Матвей? – спрашивал Рамаданов, – добавить?
И Матвей протягивал свой стакан, из которого он не отпил и глотка. Рамаданову, видимо, нравился такой слушатель, и он начинал говорить с еще более горящими глазами…
…Перед ними вставали города Малой Азии в те времена, которые мы сейчас называем первыми веками христианства. Под неутомимым солнцем, по белым и раскаленным дорогам шли проповедники равенства и справедливости. Они останавливались у входа в города, в предместьях, где-нибудь на полузасохшем винограднике, и проповедовали против богатых, мечтая о равномерном распределении благ земли, которых и без того-то не так уж много. Гремели речи Варнавы из Кипра и Климента Александрийского. Они поднимали руки, благословляя труд рабов, и впервые здесь, среди оборванных и истощенных людей со шрамами от ударов плетей и палок, прозвенели слова: «не трудящийся да не ест!» Карпократ, ученый гностик из Александрии, высокий и мощный мужчина в зеленом плаще, взбирался на возвышение и проповедовал оттуда общность имущества и идеи равенства. Всадники в шлемах, на длинноногих лошадях, с цветками роз, заткнутыми за уши, смеясь, проносились мимо, на игры. Рабы мрачно смотрели им вслед, и этот взгляд, казалось, проникал сквозь тысячелетия, чтобы вот так же пылать ненавистью к притеснителям и богатым, как он пылает сейчас, устремленный на запад с Проспекта Ильича.
Так как рядом еще существовало греческое искусство, то в голосах проповедников можно было уловить нотки могучего смеха Аристофана, и отцы церкви цитировали Аристотеля и Софокла. Эти времена, по сравнению со средними веками, казались влажным горным лугом перед сухим осенним предгорьем. Но стоило вглядеться и тогда становилось ясным, что и средние века наполнены мечтами о справедливости, что человеческую мысль нельзя задавить и она переливается из века в век, как переливается вино из одного сосуда в другой, чтобы попасть на пир к избранным.
Они видели перед собой готические церкви, похожие на темные щели в голубом и вечном небе. Перед церквями горели костры и смрадный дым высоким облаком, как бы напоминая о свободе, поднимался к небу. Это сжигали еретиков: донатистов, циркумцеллионов, аскетов, вступающих всюду в борьбу с неправдой в защиту обиженных и угнетенных; всех тех, которых называли «катарами», то есть чистыми; богомилов в Болгарии; апостольских братьев, ткачей-гумилиастов в Ломбардии; вальденсов, лионских бедняков, альбигонийцев во Франции; лоллардов в Англии. Разжиревшие попы и рыцари шли на них крестовыми походами. Еретиков убивали, топили и вешали столько, что не хватало деревьев у дорог и приходилось вкапывать большие столбы.
Вот крестовый поход направляется в горы тенистой Чехии. Здесь недовольный народ поднялся против богачей, заодно убивая и немцев, которые хотят уничтожить чешский язык и чешскую веру. Полки гуситов бесстрашно двигаются навстречу крестоносцам! Гуситы, чешские мужики, одеты в рваные одежды, копья их с короткими наконечниками, так как не хватает железа, а мечи, зачастую, представляют просто короткие куски грубой стали, вправленные в обломок дерева. Мужиков не ведут Ян Жижка, Прокоп, Мартин Гycкa. Золоченые немецкие рыцари, бахвалясь богатым богом и выносливыми конями и женами, ожидающими победы, приближаются к гуситам. Что произошло? Почему рыцари валяются в придорожных канавах? Почему на рыцарских конях сидят гуситы? Почему плачут кони рыцарей? Почему полки гуситов, распевая победные псалмы, идут по Австрии, Бранденбургу, Силезии, Баварии? И почему горят рыцарские замки и немецкий король не прочь заключить мир с гуситами? Откуда возвращаются чехи, отягощенные добычей и славой настолько, что кажется, будто они взяли ее за все века, за всех погибших еретиков? Почему, всей Европе, а, может быть, и всему миру, известен небольшой по величине, но великий по славе, чешский город Табор?
Потому что нельзя потушить пылающие в веках идеи равенства и справедливости!
…И еще они сидят в тесной комнате Томаса Мора и читают вместе с ним «Утопию»: евангелье мечтателей, меч революционеров.
Эта книга, как головной полк. Она ведет за собой «Новую Атлантиду» Бэкона, «Заступника бедняка» Петра Чемберлена и множество других книг о справедливости, то горячих, то холодно-расчетливых, то крупных, то тонких, но наполненных одной мыслью, одним стремлением: правда и торжество ее! Пламя справедливости горит не только в одной Англии. Им наполняется Италия.
…И думается им, что при свете догорающей свечи и при отблесках поднимающегося из-за итальянских гор рассвета, сидят на скамье рядом два человека, беседовавших всю ночь. Это – Томазо Кампанелло и русский странник и турецкий раб, бежавший в Италию, Болотников. Томазо читает ему «Город солнца», и Болотников видит Москву, деревянную, с серыми улицами, напоминающими рвы, бородатых людей, жалкие рубища и пышных бояр в собольих шапках. И, Болотников сжимает яростно кулаки, и клянется, именно, в Московии, в лесной стране, куда трудно добраться крестоносцам, основать сей Град Солнца, дабы он, как солнце, осветил справедливостью своей весь мир!
…И видится им сражение под Тулой, когда войска царя Василия Шуйского осаждали рать Болотникова и много дней бились с нею. И вот подошел последний час битвы, как он подходит всегда и всюду. Пали мечтатели, желающие построить Град Солнца. Наемные татарские сабли и шведские стрелы пронзили их сердца. Тесными рядами, сжимая мечи и глядя в небо мертвыми очами, без упрека и жалобы, а с верою, лежат они вокруг кургана, где бьются последние остатки бессмертной рати Болотникова, русской рати справедливости и равенства! Меньше и меньше людей. Ближе и ближе наймиты – татары и шведы. Вот уже осталось их только пять человек, да еще около них бочка с порохом, наполовину пустая. Надежды на спасение нет. Кто там, не царь ли Васька, рыжий, подслеповатый предатель и обманщик, кричит им, призывая к сдаче? Нет! Пять бородатых мечтателей и бойцов переглянулись. Сдаться? Никогда! Они посмотрели на бочку, вложили мечи в ножны и, не глядя на подбегающих татар, достали огнива и выбили искру в трут. Один из них закурил трубку с еретическим зельем-табаком – и все они, разом, бросили искры в пороховую бочку и все они, разом, взлетели на воздух! Никогда не сдастся и не будет побеждена справедливость и равенство! Слава!.. Слава!
– Ну что ж, покурим? – спрашивал Рамаданов, прерывая рассказ и доставая из стола коробку с табаком: здоровье не позволяло ему много курить, и он прятал сей древний соблазн.
Они закуривали.
За окнами шумел и гремел Проспект Ильича. Передвигались в темноте войска. За ними везли снаряды и продовольствие, погрохатывали кухни, издавая запах борща и каши. У реки скрипели экскаваторы. Металлические надолбы из распиленных рельс звенели перед тем как погрузиться в бетон. Завод наполнял железнодорожные платформы противотанковыми орудиями с длинными дулами, окрашенными вперемежку зелеными и синими пятнами. Орудия, новенькие, ловкие, скорострельные, всем своим видом говорили, что они, вместе с людьми, выполнят принятые на себя обязательства по защите справедливости, равенства и братства, что завещано всему честному от века.