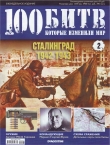Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Глава тридцатая
Матвей шел к Рамаданову.
От цветника, заканчивающегося высокой алой клумбой и серым бетонным бассейном фонтана, пахнуло запахом травы, особенно трогательным в охватившем заводской двор дыхании асфальта, удушливом и вязком. Чтобы так цвести цветам, надо их усиленно поливать и полоть. Какой броней обшит садовник? Что он думает, когда тащит шланг к фонтану, ибо струи фонтана не бьют, а вода в бассейне его высохла и бетонное дно покрылось дымчато-голубой пленкой ила и пыли?
Запах травы оживил в Матвее уже заглохшие было картины поездки за фронт. Он подумал о Полине – и тотчас же увидел ее. Или, может быть, он, увидев ее, вспомнил о товарище П., своих странных учениках, чудовищной их понятливости, каменоломню, широкую дорогу, грузовик…
Полина подходила к нему. Сквозь загар, покрывавший ее лицо, пробивался румянец. Голубые ее глаза казались оттого особенно милыми, веселыми и упорными… Матвей даже пожалел, что давно не был дома и не видел ее. И тут же пришли на память старики родители, которые от любви к нему все просят отложить отъезд – и откладывают от эшелона к эшелону… и ушло так шестьдесят семь эшелонов!..
Она держала в руках эскиз плаката: мина разрывает вражеский танк. Несколько девушек с ведрами клеевой краски сопровождали ее. Силигура, в переднике и с корзиной малярных кистей, нес на плече лестницу. Увидев Матвея, он положил лестницу на асфальт и достал из-за пазухи книгу.
– Кажется, вы желали ее прочесть? – сказал он, подавая Матвею «Утраченные иллюзии».
Матвей, глядя на Полину, испытывал странное смущение. И ему казалось, что сквозь глубокое уважение к нему, которое светилось в ее голубых глазах, он мог рассмотреть нечто другое. Ему и хотелось рассмотреть это – и он стеснялся рассматривать. Почему? Кто знает!..
Перелистывая книгу и пытаясь вспомнить, – когда же он высказал желание прочесть ее, он спросил, глядя на плакат:
– Куда его?
Она указала. Поодаль, за цветником, ближе к каменной ограде завода, теперь окрашенной в камуфляжные цвета, а некогда белой, стоят зенитки.
– Возле батареи?
– Да вы на плакат взгляните, Матвей Потапыч!
За каменным забором, который был весь в камуфляжных провалах и желтовато-зеленых пятнах, опережая, таким образом, осень, Матвей увидел на плакате громаду Дворца культуры.
Вдоль стены, обращенной к заводу, стояли высокие лестницы. Матвей посмотрел на лестницу, которую нес Силигура, на плакат, – и тогда только узнал, что плакат изображает стену Дворца, возле нее разбитый танк и белую надпись по стене:
«ТЫ ВЗЯЛ ФЕРМОПИЛЫ, А НАС НЕ ВОЗЬМЕШЬ!»
– Ты взял Фермопилы, а нас не возьмешь! – повторил с удовольствием Матвей. И он взглянул в глаза Полины. То чувство, которое ему чудилось в ее взоре, исчезло. Ему стало легче. Плакат понравился ему. Ему показалось даже, что немец, вываливающийся из танка, слегка напоминал полковника фон Паупеля.
Полина поняла его и улыбнулась:
– Правда, похож? Я нарисовала…
– Надо бы вам в живописный класс идти, – сказал Силигура.
– Не всегда творишь то, что хочешь, – ответила Полина фразой, древней, как мир.
И она испуганно взглянула на Матвея. Понял ли он смысл этой фразы? Едва ли? Да и сама Полина не совсем еще разбиралась в глубочайшем и крайне утомительном значении этих слов: «не всегда творишь то, что хочешь!» Что значит – не всегда? Выходит, что иногда-то ты творишь, что хочешь?! И, может быть, эти «иногда» и есть твои самые счастливые минуты, и, может быть, иных ты и выносить не в состоянии? Она вспомнила, – с каким удовольствием писала этот, в сущности, примитивный плакат, и с не меньшим удовольствием она показывала его теперь Матвею и видела его ставшее мгновенно темным лицо. Лицо, увидавшее полковника фон Паупеля. Какая-то частица ее искусства оказалась тем семенем ненависти, которое взнесло цветок злобы.
Как мало о себе знает человек! До прихода на завод, она считала, что высшее призвание людей, высший смысл жизни – искусство. Придя на завод, она подумала, что заблуждается и что любой труд, который полезен и необходим человечеству, – и есть искусство. Теперь искра искусства, вот этот плакат, вновь воскресил перед нею все прежние мысли об искусстве, придал им былой блеск, заставил с любовью вспоминать людей искусства, возродил в голове и сердце каждую нотку, когда-то пропетую ею… сегодня, например, ночью она пела во сне… и проснулась, испуганная!
Испуганная? Почему? Чего ей пугаться? Кого ей пугаться? Перед кем она провинилась? Перед секретарем обкома? Да разве ему до нее? И разве он не улыбнется снисходительно, когда она скажет ему: «Я согласна и петь и уехать…» Уехать?! Но почему же это слово таким чугунным корнем поворачивается в ее сердце, отрешая ее от всех мыслей?
Девушки говорили об атлете Арфенове, красавце, песеннике, стоявшем у ворот. Силигура приводил какие-то общеизвестные факты о Бальзаке. Матвей глядел в землю, словно перед ним рыли могилу полковнику фон Паупелю…
А Полина отвечала на вопросы, смеялась, встряхивала кудрями, отделявшимися от косы и закрывавшими ее уши, – и продолжала думать о себе и о Матвее. Она могла очень почитать, почти благоговеть перед человеком, свершившим что-нибудь великое и полезное для людей, но она была все же далека ему, если он не понимал искусства. Но вот Матвей – далек от искусства и совершенно не понимает его и, надо признаться, не поймет! И тем не менее Полина глядела в его, немножко широкое внизу, лицо с выпуклыми губами, редкими бровями, особенно казавшимися редкими оттого, что волосы их выгорели от солнца, на его узкий лоб, несмотря на молодость, изрезанный морщинами забот; на длинную шею, уходящую от широкого подбородка в ворот рубахи, потную, покрытую мельчайшими частицами металла; на его манеру скрывать свое прихрамывание, – словом, Полина глядела на него с чувством, далеко превосходящим даже благоговение, не говоря уже о почтении или уважении, короче говоря, – Полина любила!
Чувство, охватившее ее, тревожило ее: и потому, что она считала его малоуместным для теперешнего времени и потому, что предвидела в дальнейших встречах и разговорах с Матвеем много неожиданного и, наверное, неприятного. Уж в чем в чем, а в любви люди чаще всего грубы и пошлы!
Поэтому она очень обрадовалась, когда поняла, что Матвей все еще думает о полковнике фон Паупеле, а не о ее мыслях.
Он сказал, указывая на окровавленную фигуру немца, падающую из горящего танка:
– Нету к нему жалости. И не будет! Гори он на моих глазах и будь у меня в руках ведро, я лучше цветы вот эти полью, чем его страданья!
Он стоял, угловато приподняв плечо, дыша с трудом. Полиной не могла так долго и так мучительно владеть ненависть. Однако же чувство ненависти, владевшее Матвеем, не казалось ей напыщенным, и она сочувственно кивнула головой, когда он повторил слова, придуманные Силигурой:
– Ты взял Фермопилы, а нас не возьмешь!
Видно было, что эта фраза вела его к источнику ненависти, как погонщик ведет стадо.
– Пишите покрупнее, – сказал Матвей. – Чтобы каждая запятая была с могильную плиту.
И он пошел было. Но, не сделав и двух шагов, вернулся и пожал руку Силигуре, а затем всем девушкам и под конец, несколько смущенно, он протянул руку Полине. Чуть ли не впервые он брал ее руку… она положила свою в его с большим опасением, чем неопытный работник вторично прокаливает металл. И когда, – только одно мгновение находилась ее рука в его широкой и горячей ладони, – она взяла свою руку обратно и затем ею подняла эскиз плаката, она подумала, что именно то вторичное прокаливание стали и укрепляет ее, закаляет металл!
Матвей, видимо, боясь показаться перед нею навязчивым и дурным, спросил у Силигуры:
– А как Мотя в радиоузле?
– Слышишь? Слушай!
– «…воспитывая новые кадры, – несся по заводу голос Моти, наполненный страстью и тоскою, словно заклинание, – завод изо дня в день работает над увеличением программ выпуска. Много сделано партийным, техническим руководством, много сделано рабочей общественностью, но старики помнят о недостатках…»
Голос будто почувствовал, что его слушает Матвей. Он стал ниже и глуше, словно Матвей явил свою страсть перед нею, а она, Мотя, – отступала и уступала ему! Матвей взглянул в лица слушавших. Разве только глаза Полины понимали его, и это понимание было крайне неприятно Матвею. «Надо ей уезжать, Моте», – подумал он. Но вслух он ничего не сказал и, лишь сильнее припадая на ногу, направился к заводским воротам, где виден был, тоже разрисованный в камуфляжные цвета, «ЗИС» Рамаданова.
Глава тридцать первая
Сверх ожидания, Рамаданов, поздоровавшись приветливо с Матвеем, не ведя никаких разговоров, предложил сразу же Матвею и стоявшему возле «ЗИСа» силачу Арфенову сесть в машину.
– Мы вас, Арфенов, завезем. А по дороге вы с начальником цеха договоритесь. Моторный, что, на вас броню имеет?
Старость и хрупкость Рамаданова словно бы увеличивали рост Арфенова. Да и то сказать, ростом он был головы на две выше, а в плечах раз в пять шире. Вот почему Арфенов говорил с директором, сильно наклонив туловище и так сокращая голос, что даже отсекал половину каждого слова; а некоторые и вообще выбрасывал:
– Ка… да я не на… бро… мне бро… а мне… при… зна… – Что значило: «Какая тут броня? Да я не на броню надеюсь! Мне броней должно служить мое уменье, сейчас необходимое. Мне сейчас необходимо, Ларион Осипыч, вполне применить свое уменье и знанье».
– Вы по…
Как ни удивительно, но Рамаданов все понимал, что говорит ему Арфенов. Он сказал:
– Думаю, что в цеху Кавалева вам удастся применить ваши знания, Apфенов.
– И в бo…
– И в боевом деле? У меня, как и у вас, такое впечатление, что если немец полезет в наш город, то первым делом в мой курятник.
– А мы е… по зу…
– И по зубам, и по ногам! – смеясь, сказал Рамаданов, усаживаясь в машину, рядом с шофером.
Рамаданов повернулся назад. Смотрел он на Арфенова – и не смотреть на него нельзя было: так иногда к вашему окну наклоняются цветущие ветви, и хотя за ними видны и небо, и облака, и поле, тем не менее нельзя оторваться от них. Отчаянной, необычайно свободной, стройной силой так и веяло от Арфенова! Думалось, глядя на него, что никакая чужая воля не доберется до корня его силы, как не пробиться руке через шиповник, спутанный ежевикой. Сразу же вспоминались все легенды о нем. Он брал, например, рельс, клал его между двух столбов – и гнул, а затем с такой же легкостью выпрямлял. Железо обвивалось вокруг него как плющ, и при забаве, и при работе! Жизнь он вел, не в пример прочим русским богатырям, весьма добродетельную: не пил, не курил и страстно обожал свою семью, и весь город знал об этом. Однажды он увидел, что пять пьяных хулиганов смеются над какой-то женщиной. Арфенов схватил их в охапку, сложил в канаву и только погрозил пальцем: «Я вам!» – хулиганы часа три лежали безмолвно в канаве, да и в дальнейшей жизни находились притихшими и задумчивыми.
– По зубам и по ногам, совершенно необходимо! – повторил Рамаданов, не отводя взора от Арфенова.
Яркая полоса света упала через дверцу в машину. Она пересекла руки Арфенова, лежащие на перегородке, отделяющие шофера от седоков, осветила седую голову Рамаданова и словно бы приоткрыла тревогу, наполнявшую его глаза, тревогу, которую он, несомненно, хотел рассеять беседой с двумя молодыми людьми, разными по качеству, но одинаковыми по количеству силы, обитающей в них.
Однако, как ни ласково улыбался Рамаданов, как ни просто старался говорить он, беседа не клеилась.
Тревога, наполнявшая город, казалось, широкой волной вливается в машину. Почти непрерывные бомбежки очень изменили улицы, – в особенности если смотреть на них с такого непривычного места, каким для Матвея был «ЗИС». От быстрой езды обгорелые дома походили на бурые прутья, торчащие осенью на грядах и перепутанные остатками стеблей растений. Деревья бульваров были погнуты и забрызганы штукатуркой, осколками стекол, щепами. Словно чья-то рука повела сучья в сторону, и они прилипли к стволам. Шаги и голоса прохожих казались приглушенными. Иногда машина проезжала в проходе, оставленном в баррикаде. Тетраэдры в деревянных клетках бросали на нее решетчатую тень.
– Здесь?
– Да. Так, стало быть, Матвей Потапыч, мне завтра являться в цех? – сказал полным голосом Арфенов, вылезая из машины. Должно быть, картина города, увиденная им из машины, так встревожила его, что он забыл об осторожности, с которой прежде он обращался со своим голосом.
– Завтра.
Арфенов с удовольствием захлопнул дверцу, раскланялся, – он был щеголь и ходил в шляпе, – и очень солидной походкой пошел в дом, где жили все мастера спорта. О том, как тревожно настроен город, можно было понять из того, что даже ни один мальчишка не остановился и не указал пальцем на Арфенова. «Ну, у нас на СХМ куда лучше», – с гордостью подумал Матвей, и ему стало понятно, почему Арфенов именно к ним явился с предложением своих услуг.
– Мы поедем к Горбычу. Не возражаете?
– Нет, – ответил Матвей, чувствуя, что голос у него упал и что он очень боится генерала Горбыча.
Рамаданов склонил подбородок на грудь и словно бы задремал.
Как в природе, когда повиснет над горизонтом сизая туча, предвещающая грозу, так и в штабе генерала чувствовалась тревога. Правда, она была особенного свойства, от которого уже минут через пять пребывания ее в сердце чувствуется особенная настороженная приподнятость, все же каждому было ясно, что городу угрожала большая опасность. Даже часы в кабинете генерала били так возбужденно, что Матвей не смог сосчитать, сколько же они пробили.
И здесь, так же как и при встрече с Рамадановым, произошло совсем иное, чем ожидал Матвей. И от этого тревога еще более захлестнула Матвея.
– По всем нашим выкладкам, – жестким голосом сказал генерал Горбыч, не садясь в кресло и не приглашая их сесть, – по всем нашим выкладкам, дорогие мои…
Он взял стакан чаю, принесенный порученцем. Желтая влага качалась в стакане как при качке.
– …по всем выкладкам выходит, что демонстрация танков противника будет направлена на СХМ, а основной удар таков…
Он помолчал, давая этим понять, что нет нужды называть им пункт, представляющий военную тайну. И он добавил:
– …на пункт, нами предвиденный.
– Иная демонстрация стоит сражения, – сказал Рамаданов, оглядывая стол и как бы ища глазами стакан.
Генерал кивнул головой, дескать, будет сделано. И точно – вслед за кивком по-прежнему осторожным и в то же время воинственным шагом вошел молодой, розовый порученец и подал два стакана и тарелочку, на которой лежало несколько вафель и что-то завернутое в толстую серую бумагу.
Как часто позже вспоминал Матвей этот кабинет, стены, окрашенные в светло-зеленую краску с белыми кубиками наверху, неуклюжие и совершенно ненужные здесь портьеры рытого бархата, двух умных стариков, пьющих чай, который им совсем и пить не хотелось и который они пили лишь потому, чтобы показать, что они сохраняют абсолютное спокойствие и полностью уверены в удачном отражении немецкой атаки. Милые, удивительные старики!..
И как часто вспоминал Матвей эту фразу Рамаданова: «Иная демонстрация стоит сражения!» Что, он уже предчувствовал свою смерть? Или даже более, чем генерал Горбыч, был осведомлен о тех огромных силах, которые бросит полковник фон Паупель на СХМ? Или просто старик вспомнил о демонстрациях, которые он вел в 1905 и 1917 годах? Кто знает!..
…Горбыч взял с тарелки сверток в серой бумаге. Он разорвал бумагу. Перед ним лежал черный и вязкий, даже на взгляд, кусок невиданного хлеба. Матвей содрогнулся.
– Отломите и съешьте, – сказал генерал.
Они взяли в рот по небольшому кусочку. Сначала хлеб показался чуть сладковатым, но затем горечь наполнила рот и вязкость, какая-то тупая и тесная, заставила их головы сделать движение назад.
– Переброска войск по железной дороге, – сказал генерал, – помешает доставке зерна и муки в город. А весь хлеб в городе или сгорел, или обгорел, вроде того, который вы видите. Это – хлеб из обгоревшего зерна, – с военной грубостью подчеркнул генерал. – Как быть? Что вы скажете, вы, первые предложившие СХМ остаться и эвакуироваться частично?
– Мы – потерпим, – сказал Рамаданов просто. – Имеют ли войска достаточно хлеба? Ради нас ни в коем случае нельзя уменьшать рацион войск. А что касается населения, мы уж как-нибудь… Нарпит изобретет какое-нибудь кушанье…
– Ваш Нарпит способен только калькуляцию изобретать, – со злостью сказал генерал Горбыч. – На эвакуации это не отразится? Слушайте, – сказал он, глядя на Матвея, – я буду говорить прямо! Я знаю, все мы любим советскую страну, все готовы ее защищать. Но вот мы не успели еще эвакуировать всех детей… И я представляю себе, получает мать двести грамм хлеба, вот такого… на ребенка! Советская власть – советской властью, а мать ведь есть мать. Думаете, ее стоны у меня на фронте не будут слышны? И особенно ропот?
Матвей сказал:
– Программу выполним.
– Что? – спросил генерал, не поняв.
– Я говорю, что, несмотря на хлеб, программу выполним. Есть приказ Нapкoма: несмотря на частично проводимую эвакуацию, СХМ обязан выполнить программу пушек вдвое.
– Где? Здесь или в Узбекистане?
– В Узбекистане пока выгружаются первые эшелоны. Там неблагополучно с площадью, – сказал Рамаданов. – Там между жилой площадью и нежилой явная асимметрия.
– Следовательно, здесь? – повторил Горбыч фразу, видимо, сказанную им для себя, ибо в ней прозвучала нежность, возможная только как результат длительного предварительного рассуждения или мгновенной внутренней вспышки, вообще-то трудно выявляемой наружу у людей, настаивающих всегда на сдержанности и дисциплине, каким и был генерал Горбыч. – Благоприятный факт!..
И он разъяснил:
– Нам отделили тоже часть ваших пушек. И что любопытно: именно ваши пушки будут стоять на откосе и у моста…
– Да и на передней линии обороны, за рекой, – сказал Матвей.
– А вы откуда знаете?
– Инженеры хотят утром завтра поехать, проверить. Одна деталь там нам сомнительна…
– Завтра? – прервал генерал. – Ну что ж, поезжайте завтра. Хотя б я это и не рекомендовал.
Рамаданов спросил:
– А что?
– Выкладки, выкладки, дорогой! Вот вас деталь беспокоит, а каково-то мне, когда у меня людей да машин, может быть, миллион, да в каждом – по миллиону самых сложнейших деталей. Вот тут и поорудуй с выкладками!..
Вошел командир и, наклонившись к генералу, стал что-то тихо, но с заметным негодованием говорить ему. Рамаданов и Матвей отошли в другой конец кабинета. Когда командир ушел, генерал подумал и сказал:
– Вот жалко, что мы холостяки.
– Почему? – спросил Рамаданов.
– Я все о выкладках. По всем выкладкам сходится, что немцы начнут демонстрацию с СХМ. А немецкие журналисты не хотят этого подтвердить.
– Но если они и подтвердят, – сказал Рамаданов, – то это вовсе не значит, что фон Паупель такой дурак и будет придерживаться своего плана, когда у него из-под носа похитили журналистов, которые могут выдать его план.
– Не один план, а все варианты плана! – воскликнул генерал. – И я их предвижу. Мне только хочется проверить, все ли варианты наступления я предвидел или какой-нибудь упустил?
Глава тридцать вторая
– Варианты бесчисленны, упустить не трудно, – продолжал генерал. – Тем более что полковник фон Паупель очень неглуп, очень. Я бы не побоялся назвать его умным…
– Ну-у?! – сказал Матвей с яростью.
Горбыч пересек комнату и остановился перед Матвеем:
– А вы бы помолчали, молодой человек, – сказал он. – Я бы вас за самовольный и глупый переход через фронт должен бы отдать под суд. Но я вас простил! Думаете, потому, что вы там металл хорошо строгаете на своем станочке? Нет! Это чепуха. Над всеми вашими рекордами через пять лет мальчишки смеяться будут.
Он откинул назад тяжелое туловище. Жилы на его шее надулись, и он неожиданно фальцетом закричал:
– Я вас простил за то, что неизвестный и не знающий вас мужик отдал за вас свою жизнь и не испугался умереть перед немцами самой мучительной смертью, а вы испугались!
Он топнул ногой и, не давая Матвею открыть рта, закричал:
– Да, испугались! Почему вы не пристрелили полковника Пayпеля? Что, у вас револьвера не было?
– Был.
– Стрелять не умеете?
– Умею.
– Так почему же?
Матвей молчал.
– Потому что рядом с ним стоял человек, которого вы послали в разведку, человек, несший документы и сведения, – сказал Рамаданов. – Кажется, ясно и нет смысла оскорблять человека.
– Вздор! – закричал генерал уже совершенно невыносимо противным голосом. – Глупая девчонка! Черт меня сунул послать ее! У нее знание языков и отец порядочный человек был. Как я мог предположить! – воскликнул он, бросая на пол ручку, которой размахивал. Перо вонзилось в паркет, и генерал ударом сапога откинул ручку дальше, в угол. – Как я, старый идиот, мог думать, что у нее хватит уменья и силы воли…
Он сжал кулаки и задрожал. Нижняя губа его отвисла. Он был глубоко омерзителен Матвею.
– А она повела с собой! Нашли место, где нюхаться?! – крикнул он в лицо Матвею.
– Товарищ Горбыч, – сказал Рамаданов с достоинством. – Мы – коммунисты. И я, как старший в нашей партии, запрещаю вам говорить таким возмутительным тоном. Кроме того, разве товарищ Смирнова не доставила вам нужные факты?
– А черта мне от этих фактов! – опять закричал Горбыч. – Они либо выдуманные, либо ее немцы обманули.
И забыв то, что он говорил только <что >перед тем, генерал сказал:
– И вообще, кто она такая? Как она ко мне попала? Как ее угораздило пробраться через фронт? – Он ткнул в сторону Матвея. – Может быть, она этого олуха тоже завербовала?
Матвей вытянулся и спросил:
– Разрешите уйти, товарищ генерал-лейтенант?
– Конечно, только и остается, что уйти, – сказал Рамаданов, беря кепку.
Генерал Горбыч с яростью взъерошил волосы, окаймлявшие его лысину, и волосы образовали нечто вроде загнутых кверху полей шляпы.
– Ну, куда вы побежите? Писать заявление на старого дурака? Оросимов! – закричал он как <на> параде. – дай товарищам чаю!
Когда порученец принес чаю, генерал сидел за столом, двое посетителей – против него, и говорил тихим голосом:
– И журналисты у них оказались умными. Знают, сволочи, что мы не пытаем, и играют на этом. И как играют! Как на рояле. Пищу не принимают, спать не ложатся, сидят в струнку и все спрашивают: «Когда энкавэдэ придет и палач вынет свои инструменты?» Каково?
– Да плюньте вы на них!
– Зачем плевать на умного врага? У него надо учиться. Хотя, признаться, всякий наступающий враг кажется умным. Вот ты попробуй отступить, сохранить свои войска и дух армии и ударить в нужный момент – вот это военный гений! Я убежден, что когда Кутузов узнал, как позорно бежал Бонапарт из Египта, бросив свою армию, старик уже видел свою победу над Наполеоном.
Он улыбнулся в лицо Рамаданова:
– И я убежден, что немец будет нас считать очень умными, непередаваемо умными. Тысячу лет будет считать нас такими умниками, что и к порогу нашему не подойдет, и десять тысяч лет будет корчиться при одном лишь упоминании имени Сталина. Помяните мое слово!
Глаза его молодо заблестели.
– Так, значит, холостые? – повторил он свой странный вопрос.
Он попросил Рамаданова подождать минутку, дал ему номер только что полученной «Красной звезды» и «Большевика» и, взяв за руку Матвея, пошел размашистой походкой.
Они прошли коридор, спустились по лестнице и мимо дежурного, проверяющего пропуска, вышли на улицу.
Генерал прошел два дома и остановился, прислонившись к тополю.
– Увидите женщину с двумя малолетними, скажите мне.
Мимо них валила толпа. Кое-кто узнал Горбыча. Лица их прояснялись, и можно было прочесть совершенно отчетливо их мысли: «A говорили!.. Когда я сам вижу генерала Горбыча, абсолютно спокойного и не бежавшего!»
Они остановили трех женщин с детьми. Генерал вглядывался в личики детей, затем делал под козырек, давал детям по конфетке, – и отпускал мать.
Наконец он нашел, видимо, тех ребят, которых искал. Одному из них было полтора, другому – четыре года. Он расспросил мать: где она служит, чем питает детей. Муж ее оказался капитаном, военнослужащим, и она с особой почтительностью и внимательностью отвечала генералу. Не удивилась она, когда он попросил ее зайти на минутку в штаб. По дороге он хвалил ее детей за привлекательность, и лицо женщины, очень интеллигентное и тонкое, стало положительно красивым. Эта ее красота как-то сразу отразилась на детях и на их доверии к генералу, и когда генерал предложил детям, что он покажет им фашистов, живьем взятых в плен, дети заулыбались такой же доверчивой и прелестной улыбкой, как и их мать.
Генерал взял их на руки и пошел вверх по лестнице. Матвея он оставил внизу. Удачно взятый тон разговора Матвей, к удивлению своему, продолжал так же удачно. Он расспрашивал о фронте, рассказывал, что делается на заводе и даже описал, со слов бывшего там товарища, те места, куда должна была эвакуироваться стоявшая перед ним мать и ее дети.
– Ну и я преуспеваю, – услышал он рядом с собой веселый голос Горбыча.
Он стоял, весь красный и запыхавшийся. Усталый пот катился по его лицу. Дети держали по большому яблоку. Генерал сказал, смеясь:
– Самым тяжелым оказалось нести эти два яблока.
Он передал детей матери. В глазах ее искрилось любопытство. Но генерал молчал, и она, ничего не спросив и только вежливо ответив поклоном на его благодарность, удалилась.
Они прошли мимо большой красной карты, на которой тонули тоже красные флажки, и по темному прохладному коридору вернулись в кабинет генерала.
Рамаданов дремал в кресле. Генерал, с плавностью удачи, не подошел, а причалил к столу. Признавая за Рамадановым преимущества мыслителя, генерал несколько сконфуженно сказал:
– Последний раз, Ларион Осипыч, вы, помнится, говорили мне, что, предполагая поймать нас в ловушку, придуманную со всей жестокостью, немец ненароком и сам очутился в этой ловушке. Я увидел сегодня этим вашим словам удивительное подтверждение! Опираясь на них, я подумал: человек суть большое дитя, и таким он, за небольшими исключениями, останется всю свою жизнь. Дитя? Да! Дитя вы можете истязать, оно только разве поплачет. Но дитя, выросши, вспомнит свое детство и так или иначе отомстит вам за вашу жестокость. Оно промотает ваше состояние, сопьется, убьет родителя, да мало ли что? А целые народы, эти сонмища детей, еще ужаснее мстят тем правителям, которые с ними жестоки…
– Истины простые, хотя и сильные.
– То есть вы хотите сказать усмешкой своей, что я банален? Но ведь это посылка, а сейчас вы услышите вывод! Я говорю: жестокосердный наказан сердцем своим. Жестокость создает внутри палаческого сердца сентиментальное, плаксивое настроение, которое, едва прикоснувшись к миру, уже извращает взгляд на него. Оно привлекается тем, что не должно привлекать внимание, а быть естественным.
И, плюхнувшись в кресло, он рассказал, что произошло только что с фашистскими журналистами.
Оскорбляло не молчание журналистов, – черт с ними, пусть молчат и едут в лагерь! Оскорбляло, что они считают нас дураками, которые ошеломлены их силой. Так вот, надо показать, что перед ними сила гораздо большая и гораздо умнейшая. Если вы твердите, что ждете палачей, то, сколько бы вы ни лгали, вы все же думаете, что палачи могут и явиться! И когда внезапно, словно бы по дороге, невзначай, к вам входит в комнату, где вы заключены, генерал с двумя детьми на руках, вы видите, что генерал этот не только не бежит, а отражая ваше наступление, находит еще время нянчиться с детьми. И тотчас же журналисты вспомнили, что у них есть дети, что надо их увидеть, что эти сильнейшие могут простить откровенность, а если понадобится, то и раскаяние, – и журналисты заговорили!..
«У, хитрый журавель», – думал, глядя на генерала с восхищением, Матвей. Он уже забыл злость, которая вспыхнула в генерале, когда Матвей попробовал возразить ему. Он понимал, что генерал думает не совсем так, как он кричал в злобе. Это не более, чем перебранка, и если б генерал действительно так думал о Матвее и Полине, то он бы не пригласил его, Матвея… Короче говоря, Матвей искал все доводы, чтобы оправдать генерала, забыв самый главный – тревогу генерала за судьбу города, откуда и проистекала горячность его.
Обоим, и Рамаданову и Матвею, приятно было видеть изменившееся лицо генерала. Он стоял над полированным и большим столом, задумчивый и уверенный, как рыбак над безмолвной и полноводной рекой, забросив в нее тенета. Рыбак-то знает, что рыба пошла, что невод крепок; сеть длинна, как сеть наших дней… Они видели лицо изобретателя! Он способен не только на мелкие выдумки, вроде разговора с фашистскими журналистами, но силен и в большой. Ему хочется только одного: передать и им эту уверенность с тем, чтобы успокоили народ, город, СХМ. «Да, друзья, надо побеседовать с народом, это уже ваше дело, – говорил его взгляд. – Ночная буря немало взволновала людское море. Но, помните, именно это море повергнет своими волнами того заклинателя, который вызвал бурю!»
И чтобы подчеркнуть эти свои думы, генерал на прощанье сказал Матвею:
– Всяко бывает, и в мое сердце может ворваться пуля противника. Однако прошу передать: и тогда противник не ворвется на Проспект Ильича!
У порога еще раз они посмотрели друг другу в глаза. Генерал хмуро, слегка стыдясь своей выходки, спрашивал этим взглядом: «Нехорошо я поступил? Но ведь и вы, дорогой мой, согласитесь, были довольно глупы, когда отправились за рубеж!» Матвей, тоже взглядом, ответил ему: «Конечно, нашему генералу лаяться не след. И попозже, после войны, я вам напомню это. Сейчас же, имейте в виду, я совсем иной, чем тот юноша, который переходил фронт!» И генерал, казалось, воскликнул: «Боже мой, да разве я не понимаю! Вы полагаете, небось, что нести детей командира, вот сейчас, я дал вам чисто случайно? Нет! Хотелось вам сказать, но стеснялся я, генерал Горбыч, всяко случается, возможно, уйду из мира, но вам, Матвей, вмеряется та мера, которую только ты способен унести. Так неси же ее с честью!» И Матвей сказал про себя, глядя прямо в глаза генерала: «Постараюсь исполнить ваше приказание, товарищ Горбыч, как бы трудно ни оказалось мне…»
– Ну пока, Горбыч, – со штатской развязностью сказал Рамаданов, который не любил долгих проводов.
– Заходи и ты, Ларион Осипыч, – ответил Горбыч. – Какая книга?
Рамаданов ответил за Матвея:
– «Утраченные иллюзии». Читает по моей рекомендации, дабы не искать ему потерянного.
– Утрачены, дорогой, не иллюзии любви, они-то для молодости кажутся вечными. А утрачены иллюзии таланта, который не кажется, а действительно вечен. Вот в чем трагедия Люсьена.
Чувства Матвея работали так напряженно, что он немедленно нашел слова из книги, если не отвечающие смыслу слов генерала, то звучности их. Это были слова, которые он прочел в машине, когда мельком заглянул в книгу: