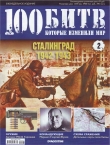Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Глава двадцать третья
Немцы проведали о путях, по которым партизаны держали связь с городом. Грозные народные мстители были страшны на каждом куске территории, занятой немцами, и что ужасней всего – как есть особый привкус вина, зависящий от свойства почвы в виноградниках, так и гнев народный принимал на каждом куске земли особую, свойственную ему форму; и сколь немцы ни старались найти тоже особые формы борьбы с партизанами, они не могли их найти. Поэтому, усиленные немецкие патрули, расставленные на путях связи, были для партизан только временным препятствием, обойти которое они надеялись в ближайшие дни.
– Придется еще подождать, – отвечал на все требования Матвея и Полины командир отряда. – Ваши сведения в город переданы, чего вам еще? Не могу рисковать вашей энергией. Да и куда вы торопитесь, вы на ребят посмотрите, когда теперь увидимся?
Но желание скорее попасть в город мешало теперь Полине, а, особенно, Матвею, видеть отчетливо все происходящее вокруг. Матвей инструктировал слесарей, токарей, кузнецов, стоял возле станков, и, однако, когда он пытался вспомнить, что же сделано им, это сделанное вставало перед ним в какой-то тусклой, бесцветной дымке. Не стесняясь в выражениях, он и передал свои чувства начальнику отряда товарищу П. Начальник посмотрел на него так, как смотрят на пловца, про которого думают, что он может потерять берег из виду:
– Ну что ж, раз настаиваете. Есть дорога. Только опасна. Вы из этих мест родом?
– Из этих.
– Вдвойне опасна.
– Можно бороденку приклеить.
Товарищ П. ухмыльнулся. Он презирал маскарады, переодевания – «предпочитаю брать сведения боем», говорил он в таких случаях. И, пожалуй, он говорил это не без оснований: тактика неожиданного боя, боевой разведки, часто удавалась ему, наводя ужас на немцев.
– Ногу, может, приклеишь? – И он добавил очень серьезно: – Богом тебя прошу, Матвей, не ходи селом, а тем паче ночью. Если заметишь, что подозрительное, лучше остановись. Человек ты видный, а у видного как раз и видней все его физические недостатки. Кто про меня знает, что у меня левая рука короче правой на пять сантиметров, а прославься я, вся область меня прозовет «краткорукий».
Матвей смотрел на его умное лицо и думал: знает он или не знает, что его уже именно Kpaткоруким прозвала вся округа. И Матвей дал слово слушаться советов товарища П.
Хороший совет словно земляная насыпь: и защищает, и помогает далеко видеть. Но стоит лишь наступить ненастью, как насыпь разбухнет, станет скользкой, да и дождь закроет перед тобою даль. Таким ненастьем был в жизни Матвея его, как он признавался в горькие минуты, «сверлящий характер». И точно, когда перед ним вставала темная стена неизвестности, ему мучительно хотелось пробуравить в ней отверстие и заглянуть в него. А дальше – будь что будет! Для того чтобы «сверлить отверстия», он прибегал к множеству уверток и уловок, увиливая от самых резонных возражений трезвого разума.
Например, здесь. Куда ловчее, дожидаясь ночи, сидеть в норе, вырытой под корнями дуба, а не идти к селу Низвовящему, где ему и в юности, и взрослым, приходилось бывать частенько. К тому же, проводники говорили, что немцы собираются гнать через село какие-то орудия или автомобили, или войска… разве их толком поймешь?..
– Так ты ж ради сведений и пошла! – убеждал он Полину.
– Сведения уже получены и отправлены.
– Получим дополнительные.
– Виселицу получим дополнительную!
Матвей сказал с живостью:
– Вот что. Ты тут сиди, а я схожу. Я и хромой, и волосищем оброс, сойду за инвалида, а мне – надо. Надо! – повторил он, колотя себя кулаком по колену. – Честное слово, надо!
– Зачем?
– Как зачем? Простая причина. Если они погонят через село войска, нам уже не пройти. Тогда и надо искать обходный путь. A то сидим мы в логовище как крысы, и как крыс нас тут и удушат проходящим танком.
Разговор происходил к вечеру. Нора была тесна. Трое: проводник, сонный старичок крестьянин, Матвей и Полина с трудом умещались в ней. Как Полина ни старалась, но постоянно или ее нога, или ее рука соприкасались с телом Матвея; и каждое прикосновение цепко удерживалось ее памятью. Это не могло нравиться ей. Кроме того, она упорно думала, что точно такие же ощущения наполняют Матвея – и тоже не нравятся ему. Как ни странно, но это обижало ее, хотя она, разумеется, меньше всего желала терзать себя или Матвея, или создавать между собой и им натянутые отношения. Ей нравилась та дружеская нежность, с которой он обращался с нею в эти дни, и она не хотела терять ее. Вот почему она согласилась на его предложение:
– Действительно, а вдруг, вы правы, Матвей?..
У холма, близ села, лежит мелкая и тонкая, словно голубая пелена, речушка. Белые пески плоских ее берегов похожи на подушки. В воздухе разлита такая тишина и благость, что кажется – деревья и кусты благодарят речушку за тишину, склонившись на колени. Тут же, возле холма, словно мудрец, опершийся на посох, стоит возле деревянного моста древняя сосна. Курчавые облака в небе словно свитки какой-то удивительно умной и вечной поэмы, великого сонма мифов… Так думала Полина, когда они увидели издали этот холм, село за холмом, и белую шатровую колокольню!
В детях любопытство часто превозмогает любой страх.
Толпа ребятишек лежала в кустах, глядя на провалившийся мост, возле которого много селян и несколько немцев в темных, отсвечивающих машинным маслом на солнце, комбинезонах суетились возле широкого танка, упавшего с моста в речку.
– Чего это они? – спросила шепотом Полина у ребятишек.
И хотя до моста было далеко и полный голос едва ли долетел туда, тем более что к мосту, шляхом, подходили танки, тоже с черными, отороченными белыми полосами, крестами на боках и длинными зелеными надписями готическими буквами.
– Да, застрял, – ответил с охотой мальчик, – ему, видишь, дорогу загораживает, он и велел пригнать мужиков и тащить…
– Веревки, веревки несут, – быстрым шепотом подхватил другой мальчик. – А какие веревки его вытащат, в нем, небось, тонн двести. Тетенька, пойдем ближе кустами, а?
Любопытство мало понятно и очень заразительно. Полина и Матвей, не глядя друг на друга, поползли вместе с мальчишками по кустам. Несмотря на листву, ветви у кустов были теплые, и когда Матвей раздвигал их, остатки влажной прохлады, державшейся у корней кустов, овевали его лицо, а затем опять сухие лучи солнца особенно почему-то паля щеки, охватывали его, мешая напрягать слух, держать себя настороженно и вообще принимать в расчет опасность.
– Дальше нельзя, – услышал он шепот Полины.
Они легли на живот, прижавшись лицом к земле. Полежав так несколько минут и словно бы набрав сил, они подняли головы и стали смотреть на мост и танк, который чуть приподнялся было, а затем опять сполз в какую-то рытвину. Послышался высокий голос немецкого танкиста. Полина закрыла рукой лицо.
– Что он? – спросил тихо Матвей.
Полина не отвечала. Он не повторил вопроса. Мальчишки, лежащие позади них, вздрагивали от страха так, что шелестела трава, будто кто шел по ней.
Селяне, отступившие было от танка, вновь подгоняемые голосом танкиста, приблизились к машине. Меньшая часть селян отделилась и вступила на мост. Немецкий солдат раздал им топоры с короткими рукоятками. Неумело взмахивая незнакомыми топорами, селяне стали тюкать по плахам и бревнам; звуки были редкие, разреженные и больше походили на жалобу, чем на рубку дерева. К мосту приблизилось несколько танков. В отверстие башни высунулся офицер и спросил что-то. Держа руку у шлема, танкист, распоряжавшийся починкой моста и вытаскиванием танка, загораживающего путь, подбежал, высоко взметывая ноги и разбрасывая песок, к офицеру. Повернутая боком к Матвею машина позволяла разглядеть надпись по ней, расположенную чуть выше креста.
– Что там написано? – спросил Матвей.
– Написано по-немецки: «Я брал Фермопилы».
– Чего он брал?
– Проход такой горный есть в Греции. Там, в древности, греки отбили нашествие персов, если не путаю.
– Так разве ж персы шли с танками?
– Какие ж танки, когда было это едва ли не две тысячи лет назад.
– Ну так чем же хвастаться? Фермопилы ты, может, и взял, а вот попробуй, возьми наш СХМ.
И неожиданно, Матвей стал тихонько насвистывать «Песню о хорьке». Умиление охватило Полину. Вот оно – искусство! Вот где ответ начальнику разведки. Как жаль, что его здесь нет! И это умиление поднялось еще выше, к самым глазам, когда сельские мальчишки, там, позади, в траве, подхватили свист Матвея. Полине захотелось встать, выпрямиться во весь рост, – и запеть. И она верила, что не нужно ей сейчас микрофона и голос ее разнесется далеко-далеко…
Матвей, словно понимая ее мысли, положил ей, на мгновение, свою руку на плечо.
Машина, на высоком шасси, с опущенным брезентовым верхом, окрашенная в желто-зеленую волну, виляя между танками, подошла к мосту. Четыре немецких офицера выскочили из нее и медленно, с достоинством шагая, взошли на мост. Полина сказала:
– Вон тот, повыше, полковник фон Паупель, командир танковых частей. Двое, позади, фашистские журналисты, приехавшие из Берлина, чтобы описать, как взяли танки наш город. Тот, подальше, маленький, который вынул темно-малиновый портсигар, командир пехотных соединений…
– А ты здорово в них разбираешься, – сказал с уважением Матвей. – Надо нам ползти обратно. Я не хочу рисковать твоей жизнью, раз ты так разбираешься.
Он подался шага на три назад. Клокочущий и громкий, словно тендер паровоза, когда туда сыплется уголь, полковник фон Паупель вскочил на свою машину и заметался по ней. Он сначала кричал, повернувшись лицом к танкам, затем – к мосту! Машина, стоявшая на неровном месте, раскачивалась, что-то булькало в ней и звякало, и эти звуки, наверное, раздражали полковника. Он кричал, не дорожа своим голосом. На его крик сбегались танкисты, из леса, направо, вышли солдаты.
– Недолго они навоюют, если будут разоряться по каждому пустяку!
Полина сказала:
– Он – нарочно. Я думаю, и крестьян нарочно согнали, и нарочно дали такую задачу, которую нельзя выполнить. Ведь есть тракторы, можно вытащить трактором танк. Фон Паупелю нужно найти повод для «внушения ужаса». Это невыносимо!
Полковник, дергаясь, выскочил из автомобиля и опять побежал к мосту. Палка подвернулась ему по дороге. Он спотыкнулся, а, может быть, сделал вид, что спотыкается. Он наклонился, поднял палку и стал бить ею крестьян, стоящих на мосту; затем спрыгнул в ручей и, шлепая по воде, подскочил к крестьянам, столпившимся возле танка, охваченного канатом. Матвей не видел полковника. Чуть свистящие удары палки ложились во что-то мягкое, словно в глину. Иногда палка мелькала между уцелевшими перилами моста, и вслед за тем тонкий, старческий голос селянина выкрикивал что-то неразборчивое, но хватающее прямо за сердце и клубком подкатывающееся к горлу.
Матвей почувствовал руку Полины, разжимающую его пальцы. Он оглядел себя. Он стоял на коленях и рука его лежала на заднем кармане брюк, куда он прятал револьвер.
– Пойдемте, Матвей Потапыч, – сказала Полина ласково и настойчиво.
– Что он приказывает? – спросил Матвей, опуская руку.
– Он приказывает повесить четырех. За саботаж.
– Пойдем.
Матвей прыгнул в речку и стал карабкаться вверх по откосу.
– Матвей Потапыч, нам в противоположную сторону.
Матвей повернул к ней искаженное лицо с трясущимися губами. Облизывая губы, он сказал:
– У меня нет противоположной стороны от той стороны, где вешают моих братьев. Я убью этого полковника!
Глава двадцать четвертая
Там, где невежда и подлец удовлетворится явной нелепостью, подлецу, получившему «образование», необходим некий наукообразный туман, лучше всего философический.
Иоганн Август фон Паупель родился вблизи Регенсбурга, на берегу Дуная, где возвышается величественное мраморное здание, храм славы немцев – Валгалла. Свыше двухсот мраморных бюстов знаменитейших германцев в самом раннем детстве Иоганна приглашали в свою среду. Он внял этим приглашениям!
Иоганн знал, что путь к славе тяжел и тернист. Здесь, наряду с искусством жить на ограниченные средства, надо еще обладать уменьем добывать знания, экономя и деньги, и время. Судьба помогла Иоганну. Отец его, помещик и владелец сыроваренного завода, проиграл и поместье, и завод свой в карты. Средняя мера способностей Иоганна, как вскоре выяснилось, равнялась тем средствам, которые ему оставил отец. Иоганн, таким образом, мог с успехом соблюдать в духовной области такую же экономию, как и в материальной. Он стал фанатиком порядка. «Я скорее уничтожу свое дело, – любил повторять он слова одного дрянного философа, – нежели буду терпеть его в беспорядочном виде». Он стал искать – где могут быть выдвинуты на первый план истинные черты человеческого величия, в то время как ложные здесь же должны подвергаться всяческому осуждению? Где оценивается жизнь с точки зрения подлинной действительности? Где поднимается человеческий дух? Ну, конечно же, в немецкой армии. «Армия введет меня в пользование наследством, хотя отец и не оставил мне наследства!» Как видите, в голове Иоганна не наблюдалось недостатка в глубоких исследованиях. Да и эстетические воззрения Иоганна нашли свое выражение. Короче говоря, Иоганн в недалеком будущем стал офицером немецкой армии.
Путь к славе тяжел и тернист. Иоганн испытал это. Нашлись голоса, которые смеялись над прусской муштровкой. Иоганн презирал их. Нашлись голоса, которые предупреждали немцев. Иоганн сказал, что с этими голосами связаны еврейские интересы, что соприкосновение с произведениями иностранной большевистской литературы прививает молодым немецким умам много извращенного, временно сбивает их с толку и делает нравственно-больными. Иоганн не участвовал в войне 1914—19 гг., и так как отец его проиграл не только эту войну, но и все состояние свое, то, естественно, Иоганн мог с легкой насмешкой относиться к способностям своего отца, а оттуда вообще к способностям отцов немецкого народа. «Они, колеблющиеся или заблуждающиеся, не должны ослаблять чувства немцев и отклонять их в сторону!» – восклицал он в кабачках, наполненных фашистскими офицерами. Ему казалось, что в нем имеется много такого, что бросает совершенно новый свет на культуру нашего времени.
Он пристрастился к теориям танковых масс, диктующих свою волю войне, что и высказал в ряде брошюрок, прославленных не столько умом их автора, сколько виртуозностью казарменной брани, которой они были наполнены. Он добыл эти ругательства со дна средневековья, из лат ландскнехтов, из шлемов крестоносцев. Он вызывал к жизни средние века! Стараясь восстановить немецкий романтизм в духе Шлегеля, он переносил замки, кольчуги и турниры на современную почву. На вид его теории казались возвышенными, в особенности тогда, когда ярость фашистов против Франции, Англии, США и СССР приняла самый мрачный характер. Понятно, что подобно тому, как молодой Товия, приложив рыбью желчь к правому глазу отца, исцелил его, так и фашистская партия исцелила все недуги, которыми мучился до того фон Паупель: страсть к наживе, возможность убивать беззащитных, истребление всех, кто не родственен прусскому юнкеру, его шагистике, его душе, ровной и столько же прекрасной, как палка!
Иоганн стал «известным полковником фон Паупелем». Он подписывал свои статьи «полковник фон Паупель», он рисовал в них рыцарей-крестоносцев, закованных в латы, он указывал на замки сарацинов, подлежащие разграблению! «Танки – ваши латы! – восклицал он. – Танки – ваши щиты! Танки – ваши железные кони! Пехота и артиллерия – ваши оруженосцы! Вперед, против неверных!»
Когда он написал достаточно много слов, напечатал их, ему вручили достаточно много танков под командование. Казалось, что его слова уменьшили то недоверие друг к другу, которое все более и более возрастало в немецкой армии: ибо склонность предполагать всюду дурное заразительна. Туманная фразеология фон Паупеля словно бы отдаляла его от действительности, делала безвредным для фашистских вожаков – и бездарным для других офицеров армии.
«Танки „известного полковника фон Паупеля“, – как писалось в немецких газетах, – шли по Европе торжественным средневековым маршем». Да, они шли! Они шли, подминая под себя детей бельгийских крестьян, они убивали французов, они топтали оробевших и удивленных вторжением датчан, они давили греческих мужиков, сминая в одно – тела и греческую землю, чтобы позже командирам танков пить то вино, которое недавно давили эти греческие мужики. Его танки, грохоча и изрыгая огонь и снаряды, действительно прошли Фермопилы! Они увидали Средиземное море и читали в газете доказательства, написанные руками вот тех самых журналистов, которые сейчас, сверкая «лейками», стояли возле виселиц села Низвовящего, доказательства того, что теперешние греки – не потомки тех великих греков древности, а настоящие греки есть те самые немцы, которые пришли сюда, прячась за броню танков и наполняя воздух перегаром бензина и перегаром дурного пива и жалкой пищи!
Цепи солдат сгоняли на площадь крестьян. Длинное бревно, положенное на козлы, вроде козел, которые строятся для качелей на Пасху, бросало толстую тень на бледные и мрачные лица крестьян, которые стояли, глядя в землю. Приговоренные к повешению, три старика и юноша лет шестнадцати, чуть касаясь ногами табуретов, на которые они должны были встать, чтобы им накинули петли на шеи, тоже стояли, глядя в землю. И было что-то общее и во взглядах крестьян, угрюмых и злобных, и в опущенных головах приговоренных.
Молодой, с пухлыми ушами, журналист поглядывал в небо, а затем в справочник. Он никак не мог привыкнуть к свету, и фото получалось то с передеpжкой, то с недодержкой. Он завидовал своему приятелю, лысому, очень опытному, а самое главное, очень самоуверенному, обладающему тем, что на их языке называлось «вкусом крови». С удивительным бесстыдством и дерзостью приятель его описывал уничтожение людей, находя в этом удовольствие и умело подбирая краски. Молодой журналист уже воспитал в себе удовольствие при виде умирающего врага, но он не умел заносить это удовольствие на бумагу, и это раздражало его. Вот и сейчас пожилой журналист, – он был немного и художником, – накидывал в записную книжку фигуры «саботажников», приговоренных военным судом, – хотя такого совсем и не было, – к повешиванию. Молодой журналист время от времени заглядывал через плечо в походный альбом пожилого журналиста, и ему было завидно, как это из-под руки его приятеля выходят зверские лица заговорщиков, тогда как фотография передаст только простые и обычные лица крестьян. Молодой журналист направился к полковнику, который говорил с лейтенантом, распоряжающимся процедурой повешения.
– Я чрезвычайно вам обязан, господин полковник, за организацию главы моей книги, – начал журналист и, увидев подходившего приятеля, который, охваченный ревностью к вниманию полковника, спешил к ним, журналист торопливо закончил: – Но нельзя ли отложить процедуру уничтожения заговорщиков на десять минут, когда выйдет солнце? Пленка у меня французская, а они никогда не умели делать хорошую.
Полковник фон Паупель хрипло рассмеялся и сказал:
– Марианна всегда плохо заботилась о своей пленке.
Двусмысленность ответа вызвала смех у журналистов, и полковник, считавший, что превосходный солдат не разделим с превосходной шуткой, был доволен и сказал:
– Чудесно! Мы отложим приговор на полчаса. Хотя это и вне моих правил.
Успех в войне и «естественной добыче ее», как называл грабеж полковник, зависел, по его мнению, от многих причин, а одной из них для танковых войск было пребывание на месте ровно столько времени, сколько умные люди высчитали, а едва ли не самым умнейшим полковник считал себя. На повешение крестьян и вообще демонстрацию ужаса, а значит, и вытекающего отсюда повиновения, полковник для села Низвовящего и его района определил полтора часа, вместе с водружением виселицы. Просьба журналиста увеличивала этот срок ровно на двадцать минут. Как оторвать двадцать минут от славы Германии? Полковник слегка негодовал на свое тщеславие, которое желало видеть его превосходно вышедшим на фоне виселицы и трупов, – всего того, что приличествует доброму крестоносцу и рыцарю!
– Вот что, – сказал полковник молодому журналисту, – пока нет солнца, я покажу вам нечто любопытное: как ловят мышей.
И он приказал лейтенанту:
– Проведите, лейтенант, приговоренных вдоль линии собравшихся крестьян. Возможно, среди них есть еще не обнаруженные коммунисты, которые должны на своей шее почувствовать приговор истории. Тот, кто выдаст коммуниста, получит помилование!.. – Он покачал головой, не одобряя своего мягкого сердца, которое постоянно вовлекало его в ошибки. – Нет, о помиловании ничего не говорите, а скажите, что им будет оказано снисхождение. Раб, которому обещано снисхождение, уже видит в этом помилование.
Полковник фон Паупель привык из-за грохота танков, сопровождавших всю его жизнь, говорить громко. И сейчас на площади села Низвовящего, он говорил громко, отчетливо выговаривая каждое слово. Полина и Матвей стояли во втором ряду крестьян. Полина поняла слова полковника. Она взглянула на Матвея. Он стоял, вытянув шею к виселицам, и мигая в такт шагам полковника, который шел к толпе. Приговоренных вели впереди полковника.
– Крайнего видишь? – спросил, чуть шевеля губами, Матвей. – То – Семён Сухожильнов, комсомолец, вместе на курсах были…
Он не успел договорить, на каких курсах они были вместе с Семёном. Приговоренные остановились против них. Полковник спросил по-немецки. Лейтенант, плохим русским языком, крикнул в сторону Матвея:
– Полковник спрашивайть: где плачит?
Полковник уже не глядел на Матвея. Он смотрел в стоящее за ним лицо пожилого крестьянина. Полковник, видимо, наслаждался тем ужасом, который внушал его взгляд крестьянину. Лицо крестьянина стало землисто-черным, дыхание столь прерывисто, что Матвей обернулся к нему. Матвей подумал, что крестьянин не выдержит и выдаст кого-нибудь. Он не боялся за себя, иначе разве он сказал бы лейтенанту:
– Я не понимаю по-немецки.
– Я говорю по-русски! И ты должна знать немецки!
Полковник перевел на него взгляд. Крестьянин за спиной Матвея, охнув, упал в обморок. Матвей стоял спокойно, чуть припав на ногу и приподняв плечо. Поза эта казалась полковнику дерзкой. Он спросил у переводчика, что говорит русский мужик. Переводчик сказал, что русский мужик дерзит, и не столько словами, сколько тоном этих слов. И так как лейтенант происходил из более знатной семьи, а главное, славился ядовитыми доносами, то он осмелился добавить:
– А в психологии, как известно, господин полковник, самое главное не слова, а тон.
Полковник раздвинул мужиков. Лейтенант положил руку на кобуру револьвера, ожидая, что полковник прикажет немедленно же пристрелить мужика. Но полковник хотел показать силу своего кулака журналистам. Как и все немцы, он не разглядывал лицо Матвея; для него не важно было – то или другое перед ним лицо, важно лишь то, что оно было русским. Он, так сказать, бил в идею, а не в личность, ибо разбираться в лицах ему не было времени, да к тому же выглянуло солнце и можно было приступать к повешению.
Полковник, чуть привстав на корточки и наклонив туловище, ударил кулаком в лицо Матвея, который стоял, заложив руки за спину.
– Он не понимает! – сказал полковник. – Ты должен понимать новый порядок!
Матвей даже не пошатнулся под ударом. Нижняя губа его чуть опустилась, и тонкая струйка крови упала в пыль.
Рука его легла на щель заднего кармана.
Но другая рука, рука Полины, сняла его руку. «Вы погубите всё, те ценные сведения, которые мы с вами добыли!» – говорил этот жест ее.
Полковник был недоволен своим ударом. Мужик стоял! Полковник отвел руку назад. Но второго удара не понадобилось. Журналисты захлопали в ладоши. Русский мужик, оказывается, просто остолбенел от силы удара – и упал две-три секунды спустя.
Матвей упал, потому что стоявший позади его и оправившийся от обморока пожилой селянин дернул его за ноги.
– Лежи, Кавалев, – сказал он. – Моя смерть!
И точно, было пора. Полковник приказал повесить мужика, которого он ударил, вместе с остальными приговоренными. В конце концов, как видите, у полковника имелось некоторое чутье. Однако чутья этого оказалось мало: полковник не отличил от Матвея пожилого крестьянина, который, нарочно прихрамывая, вышел медленно из толпы и направился, вместе с другими, к виселице. Да и то сказать, откуда полковнику фон Паупелю было запомнить лица всех тех французских, бельгийских, датских и греческих крестьян, которых он бил и тела которых болтались на веревке по его приказанию? Он играл в карты и войну – и ему удивительно везло, так, как не везло ни одному его предку, ни одному крестоносцу, ни одному рыцарю! Естественно, что, как всякий счастливый убийца, он был слаб памятью на лица.