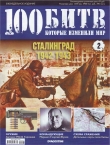Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
В сущности говоря, тоска, но разного оттенка, владела ими тремя: Матвеем, Полиной и Мoтей. Матвей был убежден, что любит еще Мотю. Стремление поднять свою группу, сделать что-то большое для завода и города, – а кто знает, может быть, и для всей страны, – мешало ему поговорить с Мотей о любви. «Надо делать дело», – говорил он себе, когда в голову приходили мысли о Моте. Тоска Моти была другая, – даже физическая ее боязнь бомбежек, не уводила ее от мыслей о Матвее и от стремления спасти его, увезти подальше. Она еще не знала, как тут ловчее поступить. Она боялась ошибиться. Атмосфера войны и встревоженного города тоже пугала ее. Она выжидала, тосковала и ненавидела.
Полина тосковала по-иному. Тоска ее была неровная, и, если искать оттенки ее, – она была светлая и только чуть-чуть пасмурная. Она принимала завод. Люди ей нравились, хотя, иногда, с непривычки, она и сильно уставала, и люди слегка раздражали ее, в особенности, в ночную смену, когда раскатывали черные полосы бумаги и воздух становился тяжел и душен до невыносимости. Лампы низко спускались над станками. Фрезы с особым каким-то сладострастием впивались в металл. Рабочие стояли у станков, важные, как академики. Изредка открывались ворота в цех. Тьма стояла над всей площадью завода. Тьма и война! Вот тогда-то Полину раздражал покровительственный тон, которым говорили с ней рабочие. Ее лихорадило. Она пила много воды. Ночь казалась бесконечной. Как ей тогда хотелось поговорить с Матвеем! Однажды, часа в два ночи, она подошла к нему. Она понимала то состояние поисков, которым был теперь охвачен Матвей. Она превосходно знала это состояние. Ищешь днями тон голоса, звук, стремление слить его с музыкой, выражение глаз, лица… Где-то, кажется, у Л. Толстого, она однажды прочла фразу: «…беловатый хребет гор казался близок». И она тотчас же подумала, что он ей не кажется близким, но когда она увидела следующую фразу: «этот хребет виднелся из-за крыши», она увидела хребет перед собой как вот этот бетонный стол и этот круг света из-под лампы с зеленым абажуром. Как жаль, что нельзя поделиться с Матвеем этими мыслями!.. Она попробовала что-то сказать. Матвей посмотрел на нее удивленно, с легкой грубостью, свойственной ему:
– Завтра поговорим, – сказал он.
Но, завтра она уже не имела желания. Ей подумалось, что, пожалуй, лучше бы ей идти по своей специальности. В конце концов можно уехать на фронт с какой-нибудь бригадой артистов и петь… заполняя анкету, чтобы иметь трудовой список, она решила, что ей, здесь, на заводе, не сделать ничего значительного, тогда как, даже если не актрисой, она могла бы быть полезной и в другой специальности. Но, в какой?
Полина начала перебирать все, что она знает. Как оказалось, она знает не так-то уж много. Она прочитала тысячи книг – и не только беллетристики, но все эти книги оказались негодными и пустыми. Языки? Кроме немецкого, позже, чтобы читать оригиналы, а не переводы, она выучила английский, итальянский. На приемах в Наркоминделе и BOКCe приезжие иностранцы находили выговор ее безупречным.
Генерал Гopбыч считался поклонником музыки и поэзии. Едва ли он бывал на ее концертах. А фамилия актрисы Смирновой ничего не скажет ему. Она написала командованию о знании языков и о страстном стремлении выполнить какое-нибудь ответственное поручение.
Глава восьмая
Конечно, Матвей страдал не так сложно, как думала о нем Полина. Но, в конце концов страдание измеряется не сложностью его, а силой. Сила же его мучений почти доходила до удушья, углублявшегося еще тем, что он не имел возможности, – отчасти из-за некоторой стеснительности и непривычки делиться задушевными мыслями, а отчасти из-за самолюбия, свойственного всем изобретателям: «а, вдруг, если не выйдет? Засмеют?» Терпения все же не хватило. Он попробовал два-три приспособления. Фрезерный станок – предмет, достаточно изученный, и нужно, чтобы человек, желающий улучшить его работу, обладал какими-то особенными данными. Но, – мог бы подумать Мaтвей, – перо еще более изученный предмет и куда более простой, однако, оно и до сих пор продолжает творить чудеса?.. Как бы то ни было, предложения Матвея, высказанные конструкторам, не получили одобрения. Он услышал ответ, который сам часто говаривал ученикам:
– Работайте. Делайте. Ищите.
Фрезы не с такой силой врезались в металл, как тоска врезалась в его сердце. Станки, которыми он руководил, давали уже почти каждый день 112 %. Но, Матвею казалось, что станок его, – мощный и красивый, – возвышается неподвижно, как бы опустивши руки. Он и во сне видел движения всех его частей, осторожные и предприимчивые, чем-то напоминающие лису. Легкий запах масла наполнял комнату. Матвей лежал в постели, прикрывшись только простыней. Ему не хотелось спать. Словно стая громадных птиц, проносились над ним множество мыслей. Воздух, вздуваемый их крыльями, не освежал его глаз. Он неподвижно смотрел в темноту. Густой храп его отца доносился из душной тьмы. Вот отец очень доволен, что у него хватило сил справиться с работой. Закинув за спину руки, в которых торчит масленка, он смотрит на двигатель, медленно и верно поднимающиеся и опускающиеся шестерни, и лицо у него веселое и ласковое.
Птицы отлетают. И, как огромный вихрь, взметается перед ним неизвестно где прочитанная или услышанная мысль: «Война ведется не только людьми, но и огромным количеством предметов вооружения!»
Где он слышал эту фразу, звучавшую теперь как упрек? Он не мог вспомнить. На заводе появилось много незнакомых людей в военной форме. Это были инженеры-артиллеристы, приехавшие консультировать производство, доселе мало знакомое СХМ. Зоркий взгляд их охватывал все достоинства и недостатки завода. Похоже, они намечали и специализацию его – противотанковые пушки, в которых так теперь нуждался фронт.
Седой артиллерист с тонкими губами, чем-то похожий на гуся, подошел к станку Матвея. Он взял в руки деталь и оглядел ее, ядовито щурясь. Все его движения говорили, что он умеет контролировать качество военных предметов в военное время. Деталь была сделана бесспорно. Он положил ее обратно. Лицо его было бесстрастно. И эта бесстрастность-то и разозлила Матвея. Рана засочилась еще сильней. «Такое бесстрастие, такое поведение, – думал Матвей, – ничего не внушает, не подсказывает».
Его слегка утешила повестка на заседание у директора Рамаданова. Приглашались стахановцы, мастера и техники. Повестка не указывала темы заседания.
Когда Матвей вошел в Заводоуправление, длинное и низкое здание, расположенное как раз у самых ворот завода, дежурный у дверей, поглядев на повестку, сказал:
– В кабинете техдиректора.
Матвей пошел в кабинет технического директора Короткова. Он хорошо знал его. Они учились вместе. Коротков всегда был щеголеватым, преуспевающим и честолюбивым. Однажды, кажется, еще в пятом классе, он не сдал экзамена «на отлично» и так этим огорчился, что даже заболел. Это был, наверное, последний неуспех в жизни. Матвей поступил из седьмого класса на завод. Коротков учился дальше – и встретились они, когда Короткова назначили начальником литейного цеха. Только что был окончен Дворец культуры. Праздновали открытие. Из Москвы приехала группа артистов и поэтов.
Коротков, в синей паре, стройный, красивый, с нежными, тающими глазами, вышел из толпы. Матвей рассматривал какую-то длинную картину на стене. Коротков встал с ним рядом и сказал:
– А ты меня здорово перерос, Матвей.
– Догонишь. У тебя есть возможности, – проговорил Матвей, даже и не предполагая, что Коротков обидится.
Kopoтков подумал, что Матвей ему завидует. Разговор заглох. Они больше не встречались.
<Вот что> Матвей сейчас ощутил, не без удовольствия входя в кабинет Короткова. Хотя ссоры между ними и не произошло, все же именно сейчас можно поговорить по душе. Матвей ожидал радостного приветствия. Он и сам готов был радостно обнять Коpоткова.
Оно бы и случилось так, не стой в кабинете Рамаданов и рядом с ним унылый серый человек с ровным как степь лицом. Коротков улаживал какое-то недоразумение с директором, а человек с унылым лицом, видимо, желал приноровиться к их разговору. Коротков пожал руку Матвею и сказал только:
– Замечательно! – не объяснив, что и чем замечательно.
Рассаживались долго, а как только расселись, среди присутствующих побежал шепот, и все стали глядеть на человека с унылым лицом, который старался приблизить свой плоский нос к лицу директора. Сопровождаемый унылым человеком, директор встал за стол, покрытый красным сукном и несколькими графинами с запотевшими стенками. Похлопывая ладонями по столу, как бы аккомпанируя себе, Рамаданов поглядел на собравшихся добрыми серыми глазами, одернул старенькую выцветшую и заплатанную толстовку, в которой всегда ходил на работу, и сказал, почти с той же интонацией, как и его заместитель по технической части:
– Замечательно!
Собравшиеся вдруг разразились аплодисментами. Матвей, ничего не понимая, оглядел их. Глаза всех были устремлены на человека с унылым лицом. А тот вдруг властным движением приблизил к себе графин с водой и налил воды в стакан так, словно он вливал туда грозовую тучу. После этого он, сморщившись, отпил глоток и поглядел на собравшихся, которые все еще аплодировали.
– Кто это? – спросил удивленно Матвей у соседа, инженера с рыжим лицом, яростно сжимавшего ладони, как ястреб когтит пойманную птицу.
Инженер, не глядя на Матвея, а, видимо, отвечая самому себе, сказал с восторгом:
– Да Дедлов же, господи ты боже мой!
Дедлов! Тот самый Дедлов, все изобретения которого он еще знал в детстве, практически изучал в армии, стреляя из его орудия. Дедлов? Кто не знает имени последовательного знатока и реконструктора артиллерийского дела, человека, который способен, нюхом, говорят, уловить самое пустяковое изменение в конструкции и неделями добиваться проведения его в жизнь. Дедлов? Удивительно! А у него такое скучное и незаметное лицо, такой ровный взгляд и такая странная привычка пить много воды…
В сравнении с ним, «наш старик», как называли Рамаданова на заводе, много выигрывал. У старика была длинная, как и в его юности, грива, теперь сильно поседевшая, и откинутая назад гордая голова с толстым носом. Голос его, – испытанного верного оратора революции, – гремел так, что требования, высказанного им, нельзя было не исполнить. Говорил он всегда кратко, сжато. Слова его падали как спелый плод!.. «Да, далеко до нашего старика этому Дедлову», – подумал Матвей, восторженно оглядывая «старика».
Но было что-то и в Дедлове, что сильно нравилось Матвею. Он еще не знал, что именно. Может быть, простота, неловкость, даже неряшливость какая-то в одежде, так что хотелось его помыть и причесать… неизвестно. А вдруг великие изобретения создают обыкновенные люди с обыкновенными лицами и с голосом, который никак не согласовывается с их, почти гениальными, выдумками?
Как Матвей и ожидал, голос у знаменитого ученого был такой, словно он все еще не привык им управлять. Он говорил то необыкновенно радушно, то вдруг вскрикивал, будто у него вырвали клок волос, а то прицеплялся к одному слову и, облокотившись о стол, долго мямлил его.
Но, по мере роста его речи, вырастал и смысл ее. Скоро Матвей забыл все недостатки ученого, его унылый вид, его бесцветное и ровное лицо, и даже думал, что все это замечательно и иначе и быть не может. Он приноровился к течению мыслей Дедлова, и это согласование доставило ему огромное удовольствие. Глубоко дыша, открыв рот, он встречал радостно каждое слово, принимал его как откровение. Слова эти нагромождали внутри него что-то огромное, терпкое и блестящее.
– Мы должны! Мало того. Это наша святая и непреклонная обязанность, – говорил ученый, – создание более прочного оружия. Оно должно быть удобно в обслуживании! Оно должно быть способно к проникновению в малейшие поры пехотных соединений! Но, теперь, естественно, возникает вопрос: справится ли техника с изготовлением такого оружия?
Все слушающие его замерли. Они ожидали, что великий ученый посмотрит на них вопросительно, и кто-то крикнет исступленно «создадим!», и посыплются аплодисменты, и ученый прослезится.
Произошло совсем по-другому. Задав вопрос, ученый вынул большой серый платок, высморкался, тщательно сложил платок, пошарил в карманах, достал какие-то математические выкладки и, долго, не менее пяти минут, про себя читал их. Он словно приобрел в этих листках что-то до того не бывшее у него. Когда он заговорил, голос его был другой, язвительный, ускоренный, и, как бы сказать, более современный, что ли, если попробовать передать ощущения Матвея от этого нового тона голоса. Совершенно юношеская ненависть звучала в нем!
Он говорил:
– Человечество запугано танками. С начала их появления все журналисты мира перерыли геологические справочники, чтобы напомнить вам о динозаврах, бронтозаврах, мегатериях и прочих допотопных чудищах, которые могут вас сожрать. Это запугивание продолжалось так долго и упорно, что когда стали говорить слово «танк», это слово сияло так ярко, что у вас ломило в глазах. Ай-я-яй!
Он рассмеялся над запуганным человечеством, словно над ребенком, выпил воды, постучал по графину пальцем и продолжал:
– От вас отодвигали самое главное орудие войны, то орудие, которое только прикрывал и волочил на себе танк. Я говорю вам о пушке! Если отбросить все геологические определения, что же такое танк? Танк – в сущности крайне подвижная полевая артиллерия! Даже и тяжелые танки прорыва редко выходят из этого определения. Полевую артиллерию забаррикадировали, поставили на колеса и пустили.
Глава девятая
– Психологическое воздействие часто путают с воздействием техническим. Танк живет на субсидию от рекламы! Но еще надо спросить, выдержит ли он экзамен на этой войне? Перейдет ли танк в университет бесспорной победы? Не сомневаюсь – эта стилизованная тупица провалится!..
Он раскрыл широкий рот и захохотал. Было что-то отроческoe, молодое в его смехе, тем более, что смеялся человек, который знал, как и чем можно было уничтожить эти, как он говорил, геологические определения, с которыми, к сожалению, неизменно присутствовал ужас.
Он смеялся над танками. Смех его был заразителен, но никто не смеялся с ним. Рамаданов, закинув назад седую голову, смотрел пристально на него. Так же смотрели пристально инженеры, техники и стахановцы. Матвей оглядел их. Глаза их говорили: «Да, это субъективное мнение. Оно нам нравится. Но, что же в нем смешного?»
И вдруг нечто забавное, непонятное, откуда-то сбоку примкнуло к Матвею, и он громко засмеялся.
Ученый поднял руку. «Тишина! – хотел он сказать этим жестом. – Мой смех не более как иллюстрация к моим словам, которые вы должны слушать, понимать, но вовсе не подпевать мне». И он продолжал:
– Но! Танк не остановишь смехом, как бы вы заразительно ни смеялись, товарищи. Танк надо разрушить, чтобы уж никакие уловки тактики не могли его ни починить, ни заштопать! Остановит его, в первую очередь, пушка. Какая? А такая, чтобы строевое командование было крайне довольно ею! Такая, чтобы она выстрелами своими, как шторой, задернула все легенды о непобедимости танковых войск!
И его неослабная и очень приветливая вера зажгла всех, он воскликнул:
– Еще не было таких войск, которых бы не разрушила артиллерия!
С притворно огорченным лицом, ученый опять поднял руку, протестуя против аплодисментов, а затем деловым тоном сказал:
– Противотанковая пушка должна быть легка и подвижна, как легок и подвижен, скажем, перочинный нож. Вот главное условие! Второе – она должна быть проста по конструкции и дешева. Вот второе и, пожалуй, основное условие разгрома танка.
Строение его речи, прилежание, с которым он говорил, указывали, что он приведет всех в остолбенение какой-то изумительной идеей, какой-то небывалой пушки. В комнате царило такое возбуждение, что ввались сюда сейчас еще вдесятеро более слушателей, этого б никто не заметил.
Но, и тут он оказался, как всегда, оригинальным.
Вдруг Дедлов возвысил голос и пронзительным тенорком торопливо стал рассказывать о нововведениях, которые он предлагает ввести. Все даже сразу и не поняли смысл этих нововведений, вся система которых, – уже утвержденная высшими инстанциями, – оказалась хорошо продуманными и сведенными воедино мелкими улучшениями.
Ведь все же предполагали, что он огласит им по меньшей мере теоретически сейчас же осуществимую идею ракетного снаряда!
Они вслушались.
Система Дедлова вводила огромные упрощения в производство, и когда он сказал, – очень скромно, мимоходом, – что при удачном осуществлении его системы возможно увеличение производства противотанковых пушек в двадцать раз, – зааплодировали даже стенографистки!
Рамаданов торопливо перебирал руками по столу. Сердце у него билось так сильно, что это видно было по его лицу. «Замечательно, замечательно!» – говорил весь вид его и живые его движения.
– Всякое техническое нововведение только тогда может быть пригодным для массового изготовления, – вернулся ученый к тому, с чего он начал свою речь, – когда в результате общего развития производительных сил создадутся необходимые для этого средства производства и выработается соответствующая организация труда.
Взор его, как показалось Матвею, остановился на нем. Что спрашивал этот взор? Что он знал? Что он видел?.. И в ту же минуту, Матвей вспомнил статьи в газетах, призывавшие рабочих к усиленному стахановскому труду, выступления ораторов на производственных собраниях, кампанию в многотиражке заводской, вспомнил он, кому принадлежат те слова, которые он часто повторял: «Война ведется не только людьми, война ведется огромным количеством предметов вооружения!» Эти слова принадлежали Дeдлову. Матвей читал их в газетной статье, подготовлявшей сегодняшнее заседание. И сейчас взор Дедлова спрашивал: «Ну, и что же вы, дорогой Матвей Потапыч, ответите на эти слова?»
Всем известно, как в полевом шпате преломляется луч солнца, обнаруживая свой спектр. Точно так же во взоре, устремленном на него Дедловым, преломилась и обнаружила свой спектр душа Матвея, его творчество. Это произошло, правда, не в то мгновение, когда Дедлов ласково взглянул на смуглое лицо рабочего, его серьезные глаза и сильно раскрытые полные губы, это произошло позже через день, через два, но вызвано это было взором, вопросительным, ученого.
Деталь, разработанная конструкторами, «1-10», которую вырабатывал на своем станке Матвей, входила в систему улучшений, придуманную Дедловым. Он только снял с нее два-три ненужных изгиба, улучшив ее, но тем не менее, деталь «1-10» требовала большого труда. Рабочий за смену делал при сильном напряжении, едва ли пятьдесят-шестьдесят деталей.
Матвей изменил весь технологический процесс обработки детали на фрезерном станке! Матвей ввел три, казалось бы, пустячных приспособления, и всем почудилось, что станок как бы дрогнул от творческого толчка, как вздрагивает человек от прикосновения к электрическому току. Мы не будем входить в сущность приспособления, о нем лучше всего прочесть в листовках Центрального технического кабинета при НКВ – «Опыт заводов», листовка «Приспособления Матвея Кавалева», но, если попытаться сказать о них общими словами, то достаточно будет написать, что Кавалев, вместо одной фрезы, смог установить несколько, и притом, в такой искусной простоте, что люди только развели руками. Обработка деталей за его станком сразу же поднялась до четырехсот штук в смену.
Через неделю Матвей, вместе с конструктором Койшауровым, разработал еще одно приспособление к станку, – деталей в день он выпускал теперь 940. Прошло четыре дня. Деталей из его станка выходило уже 1300!..
Вскоре, после рекорда в 1300, Полина присутствовала при том, как Матвей передавал свой станок Петру Cварге, тяжкобровому, угловатому человеку, стоявшему за соседним, порядком устаревшим станком. Сам Матвей с этого дня назначался мастером.
Сварга, так же как и Матвей, относился к Полине тепло и почти по-отцовски. Полина, с не меньшим рвением, согласилась помогать Сварге, – и однако ей жаль было расставаться с Матвеем, хотя он никуда и не уходил и мастером его ставили на том же участке, где он раньше работал у станка. Сварга был превосходный работник, приспособления Матвея он использовал достойно, – станок, таким образом, попадал в настоящие руки, – и все же Полина думала, что «то, да не то». Иногда Матвей был груб, иногда так весел, что веселье это казалось неуместным и наигранным, иногда грустен чрез меру, но всегда в нем чувствовалось что-то большое, крылатое и умное. Быть в дружеских или даже в полудружеских отношениях, как в случае Полины, с таким человеком приятно и мило, а, главное, всегда возвышающе. Вот почему Полина сожалела, что Матвей отошел от станка. Она понимала, что в интересах завода важнее иметь Матвея командиром, чем солдатом, – хотя бы и крайне искусным, – но тем не менее ей думалось, что Матвею лучше бы стоять у станка: «А вдруг он просыплется?»
Матвей не «просыпался». Наоборот. Едва он получил участок, как заметно поднялась производительность у станков, стал равномерно поступать к ним материал, да и деталь орудия «1-10» словно бы повеселев, казалась тоньше, изящнее. Однажды Петр Сварга, с гордостью указывая Полине на великолепное орудие, которое катили мимо них, сказал:
– Замечаешь нашу деталь? Полковничья!
И в его словах звучало нечто такое, чего, как подумалось Полине, ей не высказать никогда, не пропеть, да и не понять, пожалуй: очень уж это было кровно близко Сварге и его друзьям, а Полине казалось чуточку напыщенным. Напыщенность эту объясняли и оправдывали присутствие, голос, походка и весь пыл Матвея, а теперь, когда его не было, Полине думалось: «Aктеры есть, а нету автора». Вот тогда-то впервые ей показался поступок ее – приезд на завод, поступление и, особенно то, что она смолчала и не разъяснила Матвею его ошибку об «уличной», – легкомысленным, непродуманным и неправильным. Но, тотчас же она спрашивала себя: «Следовательно, если б не было уличной встречи с Матвеем, случайной встречи, я бы не осталась в городе?» И она отвечала: «Нет, осталась бы». И она спрашивала: «А, следовательно?» Но она не находила ответа.