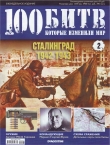Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Глава двадцать восьмая
Но не эти слова, а другие, которые он, казалось, пропустил там, по ту сторону, без внимания, здесь, в городе, ударили ему по сердцу когтями так, что он искривился весь в гримасе. Он вспомнил их, когда, приняв цех, он велел закрыть дверь своего кабинета и приказал старшему мастеру Чичкину докладывать, кого из рабочих он намечает для эвакуации – «поднимались» последние станки из новейшего оборудования. Но дело со станками не было столь сложным, сколь сложным являлся вопрос: кого ж из рабочих оставить, а кого отправить?.. Коммунисты оставались все – это бесспорно; из беспартийных отправляли тех, кто не имел недвижимости – домиков и приусадебных участков – и кто был посмекалистее и половчее; последнее-то как раз и не всегда совпадало с первым.
Матвей слушал внимательно толковое и продуманное сообщение Чичкина, седеющего плотного человека в серой рубашке с закатанными выше локтей рукавами. И столь же внимательно слушал себя Матвей, глядя на пепельно-серое одинокое облачко, невесть как, словно бы в подпитии попавшее на середину тонкого, как газ, бледно-голубого неба. Два голоса спорили между собой внутри Матвея. Один из них, напомнив слова о тезках-партизанах товарища П., привел ему в точности дальнейшую фразу его: «Слово – не одежда, изнашивается быстрей». – «Ну и что же?» – спросил недовольно второй голос, делая вид, что он не понял первого. И тотчас же первый ответил с охотой: «А то, что это значит: другая форма теперь у партизанского движения, и ты, Матвей Потапыч, должен рассказать о ней». – «Какая же это другая?» – спрашивал другой голос, продолжая делать вид, что он не понимает первого. «А вспомни, какая, продумай, что ты видал!»
Иной человек бросит наскоро слово, будто бы черкнет что-то непонятное, какую-то каракулю, по вашей душе, но какое, глядишь, произведет это огромное впечатление на вас – век не забудешь! Так вот и фраза о тезках, произнесенная товарищем П., предстала теперь перед Матвеем во всем своем громаднейшем значении. В гостиницу могут приезжать разные люди с разными намерениями, но всех их вызывает и владеет ими душа того города, куда они приехали. Так и фраза эта была подобна гостинице. Она собрала воедино все встречи Матвея с партизанами, все рассказы их, все их подвиги, и все это собранное говорило, что това– рищ П., улыбавшийся иронически над традициями «романов», прав.
Совсем другие, чем в гражданскую войну, партизаны; совсем по-другому они держат себя, так же, как и другой человек Матвей Кавалев… Ну, достаточно сказать, что в лес Скрипица – где находится сейчас отряд товарища П. после внезапного обхода немцами, благодаря которому район оказался отрезанным, – явилось вначале около ста человек советской интеллигенции района, больше половины которых были люди с высшим образованием, а вторая половина – председатели колхозов, бухгалтера – со средним.
Немецкие войска прошли вправо и влево по краям района, устремляясь к областному городу Р. Крестьяне не успели уйти. Они остались в селах вместе со скотом и хлебом, и это обстоятельство удержало отряд от стремления пробиться через фронт и слиться с советскими отрядами. На короткой конференции отряда решено было провести в районе все мероприятия советской власти, которые она не успела осуществить, то есть, согласно приказу Сталина, уничтожить все, что могло послужить на пользу армии оккупантов. Стали думать: кто смелее, кто ловчее, кого лучше всех знают крестьяне? Ловчее всех оказался фельдшер П., угнавший из-под носа итальянских кавалеристов весь их ремонтный парк и передавший этот парк крестьянам другого района, где стояли уже не итальянские войска, а румынские, следовательно, не знавшие коней итальянцев. Эти два поступка уже создали товарищу П. славу смелого и справедливого человека. Сам он, принимая командование, объяснял свой поступок не особым каким-то нюхом, а тем, что «вскарабкался из балки в сопровождении трех, глядим – коней двести, а стражи пять, да и та спит. Вот и угнали. А держать коней в нашем лесу нельзя – это вам не сибирская тайга, вся наша Скрипица оттого и называется, что скрипнет одно дерево – в конце леса слышно… Вот и пришлось отдать коней селянам». Как бы там ни было, выбор предводителя оказался удачным, и товарищ П. цепко вился по народной молве, как вьющееся растение по стене.
Однако нужно было исполнять приказ Сталина. Товарищ П. созвал селян района и обратился к ним с речью, что надо, мол, сжечь хлеб в первую очередь и во вторую – заколоть скот. Селяне помялись, а затем вышел какой-то «дид» и, потупив очи в землю, сказал, что все сказанное правильно и исполнимо, кабы успели селяне уйти от «нимца». Но раз уж такая судьба, надо попробовать «откупиться от нимца», отдать ему взамен нашей жизни хлеб и скот. И не о себе «дид» думает. Ему что?!
«Дид» поднял на товарища П. свои мутные глаза под дрожащими веками, и фельдшер понял, что, действительно, «дид» заботится не о себе, а о детях, дивчинах и жинках. Товарищ П. долго не спорил. Он велел исполнить приказ. Селяне промолчали. Товарищ П. вернулся в лес. Партизаны приготовились к бою с немцами, на случай, если б селяне выдали. Но селяне не выдали советскую власть и в то же время не сожгли хлебов. Товарищ П. не хотел ссориться с селянами. Все же, прождав срок, данный в приказе, – три дня, – он первым зажег хлеба и перебил три стада в окрестных деревнях…
Село безмолвствовало, только неизвестно отчего умер один из партизан, наклеивавший в селе приказ товарища П. о регистрации в лесу Скрипица всех селян призывного возраста. Очень возможно, что партизана убили крестьяне. Однако ж немцы не появлялись ни в лесу, ни в селе. Хлеба горели. Скот уничтожался. Село по-прежнему безмолвствовало и ждало. На регистрацию явилось не больше десятка людей. Пища кончалась. Питались дичками: грушами-лимонками, очень, говорят, плодом витаминозным, но отвратительным на вкус, а тем более в полузрелом виде. Товарищ П. продолжал издавать приказы «именем советской власти». Бывший прокурор района читал лекции по философии Гегеля; бывший директор банка – по плановому хозяйству; бывший преподаватель истории СССР в педагогическом институте – об Отечественной войне 1812 года… когда в лес прибежали «дивчата» с бледными лицами, а за ними все, кто мог носить оружие.
Это означало, что немецкие интенданты явились в село, расклеили объявления на русском, украинском и немецком языках о том, что хлеб, скотоферма, птицеферма и вообще все хозяйство колхоза принадлежит рейхсверу, что назначается староста… Староста в тот же день, пронзенный пулей товарища П., лег на шлях, а в лес на совещание с советской властью явились «диды»…
«Обо всем этом надо рассказать рабочим, – думал Матвей. – Но как я расскажу? По своей прихоти я явился к партизанам или же, действительно, по просьбе товарища П.? Шутил он, испытывал он меня или он хотел узнать, насколько сильны традиции партизанского романа, где партизаны делают невесть какие подвиги, совсем оторванные от центра, не зная даже и задач, которыми сейчас занята советская власть?»
Может показаться, что Матвей рассуждал слишком витиевато и безосновательно. Но не надо забывать, что новая культура, пришедшая с советской властью, дала огромным массам людей важнейшее орудие человеческого разума: книгу, а наша книга, – даже учебник, – приучает человека к анализу своих мыслей и мыслей окружающих его. Правда, Матвей мало читал романов, но дух анализа, причем анализа не скептического, а анализа возвышенного, романтического, если хотите, витал вокруг него и не мог не отразиться на нем, тем более что Матвей, как человек талантливый, был особенно восприимчив ко всем чувствам и мыслям, которыми охвачены люди, идущие рядом с ним.
Матвей слушал мастера Чичкина, вносил поправки в его предложения и в предложения инженеров и представителей отдела кадров и в то же время трепетно ждал, что его позовут к директору Рамаданову. Кто-кто, а уж Рамаданов-то догадается и узнает, куда ходил Матвей, да и генерал Горбыч, к которому с докладом направилась Полина <и> уже, наверное, сообщила о поступке Матвея.
– Строительный мусор, – слушал Матвей, – можно употребить при укопорке наиболее ценных станков…
Матвей робко говорил сам себе: «Меня ж освободили на три дня от работы, перед тем как принять цех. Что я, не вправе распорядиться собою? Я могу отправлять родных, но могу и гулять…» Но тотчас же он прерывал себя: «Во-первых, ты прогулял не три дня, а во-вторых, что это за прогулка через фронт?! Время тебе было дано и для того, чтоб снарядить стариков, а также и для того, чтобы ты продумал, какие улучшения ты принесешь в цех. Увозят пятьдесят процентов рабочих. Как и чем заменить их силу и силу вдобавок высококвалифицированную? Ты понимаешь или нет, что такое начальник цеха, куда выдвигают тебя? У тебя нет специальной инженерной подготовки и, однако, тебе в такое время доверяют цех. Справишься с ним ты, значит, пойдешь дальше – может быть, в заместители директора. Почему? Что заставило тебя опуститься так низко? Как ты спасешься? Неужели ты предъявишь бумажку товарища П., о том, что он вызвал тебя? Неужели ты пойдешь на ложь, ты, никогда даже перед самим собой не лгавший?!»
Медленно приоткрылась дверь. В кабинет, сопровождаемый Силигурой, вошел технический директор Коротков. По тому, как вежливейшее ступая, входил Коротков, было понятно, что Рамаданов или не догадался или же еще не знает о поступке Матвея. Но, с другой стороны, почему же никто не приходил к Матвею на квартиру во все время его исчезновения?..
Матвей взял слово и заговорил. Он чувствовал, что говорит много, несвязно. Но так как все были возбуждены, то они прекрасно понимали его, – и собрание вынесло «ряд ценных предложений», как сказал в заключительной реплике Коротков.
Когда мастера и инженеры вышли, Коротков со всей значительностью, на которую он был только способен, низкими звуками, проговорил:
– Авторитет твой, Матвей Потапыч, здорово поднялся. И что мне удивительно… уж я-то знаю рабочий класс, верно… удивительно мне то, что поразил их не переход твой через фронт, а то, что вывез ты оттуда трех детишек.
Силигура размеренно, словно записывая в книгу, добавил:
– Немцы у нас продовольственные склады в городе сожгли, слышал, Матвей Потапыч? Слава богу, что не был ты здесь. Не страшен пожар, а страшно то, что горит. А горела-то пшеница. Ее, обгорелую как уголь, вытаскивали, валили в кучи на площади… черная…
Он поднял глаза к потолку. Смирные, тихие глаза его налились кровью. Он как бы видел перед собой пылающие житницы, пупырчатые клубы огня… «Ух, страшная погремушка эта жизнь!» – говорил его взор.
– Черное зерно, Матвей Потапыч!
И добавил:
– Предвидим черные дни: всем нам надо держаться крепче.
Матвей с удивлением глядел на него. То, что инженер мог теперь говорить о других, а тем более о Матвее, явно уважая этих других, указывало на крупную перемену, произошедшую в его душе, а то, что Силигура оставил свою былую важность, книжную и надуманную, мог объясняться слогом, хватающим прямо за сердце, – это уж совсем поразительно!
Кроме того, ясно, что поступок Матвея – уход за линию фронта – очень сумасбродный и глупый, расценивается теперь совсем по-другому, чем он мог бы расцениваться несколько дней тому назад. Все понимают, – а Матвей, пожалуй, ярче всех, – что подобное с ним уже повториться не может, и потому проказа его не сочтется той проказой, которая должна бы изглодать тело его и душу. Почему? А потому, что вчера он ходил юношей, а сегодня муж зрелый и, кто знает, может быть, и умный.
Да и разговор произошел зрелый. Начал его Коротков, и уже по началу разговора разумелось, что тут не отделаешься шуточкой:
– Ты как, Матвей Потапыч, чувствуешь себя пролетарием?
– Другого вопроса не вставало, как только пролетарий.
Глава двадцать девятая
– Пролетарий? Как же иначе! У тебя даже и фамилия чисто пролетарская: Кавалев, Каваль. Иначе говоря – Кузнецов, Кузнец?
Матвей улыбнулся:
– Издавна мы коней ковали. И деды, и прадеды.
– A теперь подковываем историю?
– Конь своенравный, – сказал Силигура. – У меня в истории записано, что Семён Каваль ковал коня аж самому Потёмкину, при проезде того. И получил за тот труд золотую подкову.
Матвей сказал:
– То разговоры. При Потёмкине мои деды коней на Урале ковали…
– Вернемся к основному. Каваль? Выковал себе подкову? На счастье. И другим тоже? Очень хорошо.
Коротков опустил черную, всю в мелких завитках, голову, помолчал мгновение, а затем, подняв голову, быстро спросил:
– Кователи счастья? Пролетарии. Заботники о всеобщем счастье? Так? Ты мне, признаться, Матвей, еще в школе не нравился. Люди, которые заботятся о всеобщем счастье и, главное, уверенные, что принесут другим это счастье, – ужасно важны. Ходят они прямые как бревно, и того гляди, упадут на тебя и раздавят тебя своими благодеяниями. Было и в тебе это, Матвей, было. И много этого было. Тебе и учиться не хотелось, а тянуло тебя на завод, делать благодеяния…
– Если работа – благодеяние, так меня, верно, тянуло к благодеяниям.
– Не к работе тебя тянуло. Работа – что? Работа – пустяки! Вы Полину Смирнову знаете, кто она?
Матвей кивнул головой – и напрасно. Не кивни бы он, – ибо что он знал о Полине? – глядишь, и по-иному, может быть, повернулась к нему жизнь. Коротков-то спрашивал: знает ли Матвей, что Полина Смирнова есть Полина Вольская? Утвердительный ответ Матвея инженер понял по-своему – и оттого взволновался еще сильнее: уважение к Матвею поднялось в нем на высоту необычайнейшую!
– Знаете? Превосходно! И вот эта Полина Смирнова, ручки которой уж никак не приспособлены к станку и заводской работе, через три недели делается квалифицированным токарем. Вот вам и работа! Но вернемся к благодеяниям! Дело в том, что у нас, людей мелких, эгоистов, как говорится, невыносимое презрение к важности тех, кто хочет осыпать нас благодеяниями. Они нам не нужны, ваши благодеяния!
Матвей опять улыбнулся:
– Ей-богу, Осип, никогда я не навязывался с благодеяниями.
– Верю. Я тебе что говорю, пойми. Я тебе прошлые свои мысли говорю! Я теперь так не думаю, и так как я человек неимоверно гордый, то я, их отбросив, постараюсь поскорее забыть.
– Какие ж у тебя новые мысли?
– А вот о пролетариате.
– Что ж о пролетариате?
– A то, что я сам себя пролетарием почувствовал.
– Благодетелем?
– Ты не смейся. Именно благодетелем! Ведь ты славянин?
– Славянин.
– И ты, Силигура, славянин?
– Обязательно!
– А наших братьев, наших родных славян вешают на каждом дереве нашей же земли. В Чехии, Югославии, Украине. Какой же внутри нас гнев, кто это способен измерить? Никто! Это – первое. А второе – пролетарий! Тот человек, который по ту сторону виселицы способен в моем брате увидеть брата. И страдает, умирает за это. Есть такие, Силигура?
– Есть.
Матвей посмотрел в лицо Короткова. Оно было воспалено до необычайного жара. Лоб его сморщен, глаза почти выкатились из орбит, губы мокры и что-то необъяснимо жестокое светилось в его зрачках.
– И вот, соединив гнев славянина и гнев пролетария, мы получаем что? Ненависть! Великую ненависть к врагу. Она смывает все – эгоизм, тщеславие, скупость, расчетливость и, как река весной, уносит в море всю грязь и мерзость. Освобождается – ненависть. Месть! Суд! Матвей. Война есть суд или бессудье, произвол?
– Война – суд истории, – сказал Силигура.
– А ты как думаешь, Матвей?
– Теперешняя война – это не суд. Это уже вынесенный приговор.
Коротков глубоко запустил руки в карманы:
– Пожалуй, твое определение, Матвей, вернее. Приговор немцу вынесен! И разве можно простить, например, такое? Вчера они разбомбили шесть госпиталей в городе, причем, знали, сукины дети, что это госпитали! Продовольственные склады зажгли… вот результаты!
Он вынул руки из карманов и высыпал на стол обгорелые, бурые зерна пшеницы. Зерна рассыпались с таким звуком, словно к ним была примешана металлическая стружка.
– Я их… зерна эти… сам доставал из огня. Мы их груды… груды насыпали на улице… и наши дети скоро будут есть хлеб из такого зерна. Хлеб? О-о!..
Он сжал кулаки и поднял их:
– А мы за это заставим вас, немцы, есть горящий уголь! Силигура, так?
Силигура поднял к нему тощее свое лицо, пошевелил бледными губами… Инженер не дал ему сказать:
– Вот почему я чувствую себя пролетарием. Я горю двойной ненавистью и хочу вдвойне уничтожения! Мне мало моей ненависти, я хочу еще и вашу, Матвей.
Матвей быстро подошел к Короткову и обнял его. Они припали плечо к плечу. Силигура растроганно вытер глаза – и полез за карандашом, чтобы отметить этот, как он записал, «внушительный момент» в своей истории.
Коротков сказал:
– А вы знаете, Матвей, вас уже, я думаю, уже больше часу ждет у заводских ворот Арфенов.
– Какой Арфенов?
– Тот самый. Жара. А он ждет. Он такой гордый, что и в ЦК не стал бы полчаса ждать, а тут стоит, ждет Матвея Кавалева.
– Да какой Арфенов, я не знаю?..
Словно давая справку, бесстрастным голосом Силигура сказал:
– Токарь Арфенов. С моторного завода имени Марти. Чемпион тяжестей. В прошлое соревнование чемпионов выжал он…
– А помню, помню! – сказал Матвей и, повернувшись к Короткову, спросил: – Чего ему от меня нужно?
– Того же, что получили мы. Зарядку ненависти!
В комнату часто раскрывалась дверь. Показывалось то лицо мастера, то рабочего, приходившего к начальнику цеха за указанием или <с> жалобой. Лица эти быстро скрывались, но выражение их не менялось, какие бы исступленные возгласы ни издавал Коротков. Дни и люди были как сгущенный спирт: он может и гореть, и опьянять, все зависит от среды, но как бы там ни было, он увеличивает движение и пламя, и это всем понятно.
– Какую ж от меня зарядку? Сам я заряжен, верно, а другим…
– Не замечаете? Вот это и хорошо! Едва лишь вы заметите, что способны заряжать других, эта способность ослабнет в вас. Отдайтесь ненависти, Матвей! Ненависть спасет Россию!
– Ненависть поддерживает. Спасает только любовь, – сказал Силигура.
– Любовь? К врагу? – Состояние гнева, охватившее Kopoткова, так усилилось, что он не мог больше говорить и упал грудью на стол. Выпучив глаза, раскинув руки, он только глазами мог спрашивать Силигуру: «И ты осмелился так мне сказать?» Все замашки Короткова ужасно нравились Матвею.
– Прежде чем говорить о любви к врагу, надо хорошенько научиться любить друг друга, – сказал Силигура.
– Важная мысль, важная! Но прежде чем говорить друг о друге, давайте покончим с врагами! Я почему обращаюсь к пролетарскому чувству? А потому, что они, подлецы, пусть и не вздумают прикрываться, в случае чего, пролетарской революцией…
– Пролетарскую революцию делают не убийцы, – сказал Матвей.
– Делать не делают, но приделаться к ней стараются. Есть обеденный стол. А есть еще запасная доска для стола, когда его раздвигают, надставка. Не разрешайте вашим домашним, Матвей, вынимать надставку для немца. Вы идете верным аллюром. Не искажайте его! И еще хочу спросить, в развитие мысли Силигуры. Славянство для вас, Матвей Потапыч, что такое? Национальное явление или внеклассовое?
Матвей думал, водя тупой стороной карандаша по столу.
Коротков с нетерпением ждал. Силигура, скрестив руки, глядел в окно.
– Национальное, раз я его язык понимаю, – сказал Матвей, – и раз много о нем с сочувствием думаю. Вот вы стали говорить о славянстве. А у меня в сердце екнуло. Почему мы так, вдруг, заговорили о нем, отчего загорелись? Да где нарыв, туда волос упади – и то больно. Очень славяне страдают, вот мы и заговорили. Война, с одной стороны, и жестока, убивает многое хорошее, а с другой, – рождает милосердие. И я прямо говорю: не боюсь этого слова – милосердие.
– Дверь в жестокость и в милосердие одна и та же? – спросил Силигура.
Коротков, вытянув к Матвею шею, воскликнул:
– Силигура, убирайся, не мешай! Он сказал великое слово, перед которым, как перед вождем, мы должны снять шапки. Милосердие к человеку и ненависть к зверю ведет нас! Вот что главное. Кто такой сейчас славянин, почему о нем разговоры? Потому что это наиболее угнетенный, это тот человек, которого немцы вставляют первым знаком в свою азбуку рабства. Славянин! Человек, принявший страдание во имя человечества и во имя его поднявший меч! Какую угодно сумму исчислений назначайте, но вы не измерите размеров и силы его подвига. Он – славянин. Слышите? Тысячелетия открывают поэтам неограниченный кредит на прославление славянина!
Он вскочил, словно бы уже читая какую-то великую поэму о подвиге славянина. Заложив руки за спину, пробежал он из угла в угол и остановился, ухмыляясь, против Матвея:
– Дело прошлое, когда я был в Америке, мне доводилось читать: большевики, мол, преследуют религию. Ну, во-первых, как можно преследовать наиболее неуловимое из всего неуловимого на земле, наиболее тонкое и странное из всех созданий воображения?.. А, во-вторых, говорил я, поскольку религия не является, как вы утверждаете, созданием плотского чувства и поскольку мы преследовали у всякого подлеца плотские чувства жадности и стремления к власти, то выходит, что мы очищали вашу церковь от этих плотских чувств? Верно?
Он раскинул руки и словно бы поклонился кому-то невидимому, с кем спорил. Разговор внезапный о религии и попах мало подходил к обстановке цеха. Но ведь мало подходила обстановка войны к заводу, еще недавно изготовлявшему сепараторы и веялки? А разве пылкий, хотя и беспорядочный, разговор не улучшает душу, как удобрение землю? «Будем говорить обо всем, а там разберемся», – подумал Матвей.
– Ты это к чему о религии, Коротков?
– Ненависть к врагу, говорю я, охватила всех. Она перехлестнула и через религию и через все! Она очищает нашу страну! Встретил я вчера попа. Седенький, старенький, лет, небось, семьдесят. Вышел он из церквушки, а она старей его раз в десять. Колокольня, знаешь, такая острая, будто осыпалась от времени. Стоит он и смотрит. А по параллельной улице идут войска на фронт, таким шагом, что разрыхляется почва от мерности его и силы. Идут. Раз! Два! Раз. Два. Идут! Попишко вернулся в церковь и, смотрю, выходит обратно. Поверх своего подрясника, – так, кажется, называется, – накинул он брезентовую, ветхую, столетнюю непромокашку. Дрожит весь. «Что такое?», – думаю. А он, гляжу, вперед, на ту параллельную улицу. Я за ним. Любопытно, что его влечет к тому боевому шагу. Не знаю, преследовали мы «плотское» в том попе или нет, не знаю, но, как бы там ни было, попишко при звуке звонка ночью – трепетал. Возможно, плотского в нем было мало, но все-таки трепетал. Ух, как трепетал! Иначе и нельзя. Человек есть человек, то есть существо с пузырем едкого страха внутри, страха, который стремится все время заполнить ваш мозг. А кто мог бы помочь попишке? Никто! Правда, виделся во тьме попику Еремею бог, тяжелый славянский бог, который, как редкий сплав, очень медленно, только при гигантских градусах жара сплавляется с человеком. А здесь какое дело богу до страха попа Еремея? Простите, поп Еремей – имя вымышленное, но страхи не вымышлены… Может быть, не продолжать?
Силигура сказал:
– Продолжайте. Любопытны и размышления и приведенный факт.
– Я не привел еще факта! Поп еще бежит по переулку…
Матвей сказал:
– А ведь бежит-то он к красноармейцам. Небось, благословить?
– А вы видели это? – спросил с удивлением Коротков.
– Не видел, а знаю. У меня родители религиозные. Они чуть не каждый день ходят на молебствие о даровании победы российскому воинству. Я их разговоры слушаю, и мне все мерещится, что лет пятьсот назад… и идет на город татарва… и бьют колокола…
– Вечное, вечное! – воскликнул Кoротков. – Вечная родина? Именно!
С минуту в комнате было молчание. На бетонный пол цеха упала какая-то большая металлическая тяжесть, кто-то крикнул истошно… Матвей выглянул в окно, вниз. Девушка, показалось, что рама станка упала на нее. Когда Матвей вернулся к столу, Коротков глядел на него с мягкой улыбкой:
– Я вас утомил, Матвей Потапыч. Кажется, я говорил вам истины, которые вам хорошо известны? Вот, начал про попа, думал – открытие. А вы народ свой знаете, наверное, во сто крат лучше, чем я. И если я раньше думал, что вы победили, обогнали меня отсутствием честолюбия, то теперь вижу: не этим. Знанием народа, любовью к нему! Вот вся тайна и все пророки, вот чего надо домогаться!..
– Да какая за мной числится победа? – спросил с неудовольствием Матвей, который так и не мог разобраться, чего же хочет от него Коротков.
– А появление Арфенова? В лице Арфенова вы увидите, Матвей, воплощенную физическую мощь нашего города. Это, если хотите, живая легенда его. Сколько у вас записано о его подвигах, Силигура?
– Да страниц двадцать есть… Это когда я вел спортивную хронику.
– Видите? Я буду откровенен. Вы из-за хромоты своей, Матвей Потапыч, несколько презирали спорт и оттого мало думали об Арфенове. А у него газетных вырезок с похвалами больше, чем у любого нашего знаменитого поэта. Три толстенных, как открытие Днепрогэса, альбома с фотографиями… И он приходит к вам, к хромому, на поклон?
– На поклон ли? Возьмет да и побьет, – рассмеялся Матвей и вдруг, вспомнив удар полковника фон Паупеля, весь побагровел, и шея его покрылась потом. И мгновенно на память ему пришли все рассказы об Арфенове, и стало жалко, что его не было там, на пыльной площади, возле виселиц…
– Кто вас теперь побьет, Матвей Потапыч? Ваш цех сейчас первый по работе, хотя вы только что и приняли его. И по темпам эвакуации станков первый… Чем это объяснить? Да так же, как и приход Арфенова, – славой! Легенда наших дней! Две легенды соединятся вместе: сила Арфенова, смелость и выдумка Кавалева, и не будет им равных, – сказал он с легкой, почти неуловимой завистью. – Все знают и о вашем походе за линию фронта и что сам Рамаданов…
Матвей встал:
– Что Рамаданов?
– …сам Рамаданов сказал, в моем присутствии: «Парень получается, жизнь с него кое-что состругала».
– Когда сказал?
– Сегодня.
– Ну?!
Матвей положил руки на плечи Kopоткова и сказал:
– А ведь здорово отметил старик?
– Еще бы не здорово. Подобным словом он, так сказать, санкционировал всю целесообразность вашего поступка, а он был и взбалмошный и нецелесообразный. Теперь попробуй, пожалуйся на Кавалева и его уход. «Я сам его послал», – скажет Рамаданов. Везет вам, Матвей Потапыч!
– Везет его любовь к человечеству, почерпнутая… – И Силигура оглядел Матвея. «Откуда, из какой книги, почерпнута вами любовь? – говорил этот взгляд. – Где, в какой библиотеке, ее достали, кто рекомендовал ее вам, и почему рождение вселенной любви появилось у вас раньше, чем это отмечено каким-либо автором?»
Коротков воскликнул:
– Да, верю – любовь. Но, Силигура, мало сказать – любовь. Надо – возлюбить. Вот что! Я вот понимаю любовь, но возлюбить друга, товарища не могу. Я больше думаю о себе, больше люблю себя. Смотрю на человека и думаю: «С нужным ли столкнулся, и если с нужным, то какое впечатление на него произвел?» Смотрю на другого и думаю: «Завязывать ли с ним знакомство, какую пользу я могу от него получить?» Такова неприкрашенная правда о моей любви.
Он отскочил, словно боясь, что нагромоздит на себя еще невесть что… и о Моте подумал он. Он ушел.
Силигура всматривался в дверь, которую поспешно закрыл за собою Коротков. Силигуре казалось, что даже дверь, и та оттеняет всю важность главы в истории завода, которую библиотекарь сегодня запишет. Возмужалый разговор, хотя и до забавности беспорядочный! Силигура спросил с жадностью, перед тем как уйти:
– Матвей Потапыч! Единственно прошу: составьте список книг, которые вами прочтены в последнее время. Только список может рассеять темноту непонимания и он же объяснит вашу зрелость мысли!
Матвею не хотелось признаваться, что именно в последнее время он не мог читать.
– Боюсь, что не мои книги, предложенные вам, а другие. Какие же, Матвей Потапыч? Не скрывайтесь перед историей.
Матвей пообещал дать ему список.
Как только ушел Коротков, в кабинет нахлынули мастера. Они окружили Матвея. Большинство их уезжало со станками. Они требовали, чтобы Матвей настаивал перед директором, – надо возможно больше увезти заготовленного материала, чтобы как можно короче был пусковой период там, на новом месте… Лицо у Матвея стало озабоченное, жесткое. Он говорил отрывисто, едко, так что каждый грамм металла, казалось, вынимали из сжатого крепко кулака его.
– Место там, верно, широкое, просторное, – говорил, окая, седой мастер, – обильное место, но, однако, металла там полная бессмыслица. Металл надо отсюда… снабдить нас здесь припасами…
– Не дам металла! – рыкал Матвей, и рыканье его долго еще сопровождало шаги Силигуры мимо цехов и во Дворце культуры.
Матвей рыкал? Да! Он рыкал. Он рыкал потому, что мастера понимали: Рамаданов сейчас, более чем когда-либо, благосклонен к Матвею и надо воспользоваться этой благосклонностью в интересах цеха. Матвей знал, что в Средней Азии на первое время с металлом будет туго, но еще туже может оказаться здесь, если немцы окружат город и если… и если Рамаданов останется здесь, а Матвей по приказанию директора уедет с эвакуированными станками. «Не поэтому ли так милостив директор? Легко узнать. Нужно только попросить металла, и если металл отпустят, значит, – Матвей, собирайся. Хватит, погулял через фронты, поразвлекался…»
Матвей рыкал на какого-то мастера, а в то же время не видел его лица из-за выступивших на глаза слез. Как? Он уедет, оставив здесь Рамаданова и все, что тут сделано? Нужно идти сейчас же, говорить!..
– Матвей Потапыч, – взывал один из мастеров, остающийся на заводе, – ведь падает окаянное производство.
– Отчего? Уехать хочется?
– Не уехать, а бомбы гонят нас в бомбоубежище. А времени сколько уходит?.. Вчера четыре часа сидели! Четыре! – подчеркнул он.
– Зачем же сидеть? Сидеть не надо.
– Затем, что тревога. Тре-вога!..
Матвей с сияющим лицом взял трубку и, вызвав кабинет директора, сказал:
– Ларион Осипыч! Есть ценное предложение. Нет, не мое. Я, выходит, уж не освещаю, а только отражаю. Зачем грустить? В прожекторе тоже отражательные зеркала есть, да в середке пулемет. Ха-ха! Тут у мастера одного мелькнуло в голове такое… – Матвей, смеясь, взглянул на недоумевающего мастера и, подмигнув ему, добавил: – Какое предложение? А такое: работать у станка и в цеху несмотря на тревоги и бомбежки, поскольку от них снижение производительности! К вам придти? Иду, Ларион Осипович.