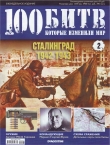Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Глава двадцать пятая
Матвей и Полина вернулись в каменоломню.
Прошли только сутки с того часа, когда они ушли отсюда – а как все изменилось! И раньше-то, едва только пройдешь ореховую заросль и увидишь перед собою яму, до половины заваленную гнилыми стволами деревьев, под которыми едва ли кто мог заподозрить вход, Матвея охватывало какое-то странное чувство торжественности и в то же время простоты, когда думалось: «Вот я попал сюда, в желанное место, вовремя и кстати!» А теперь это чувство углубилось, стало еще торжественнее, благозвучнее, размереннее; Матвей испытывал то, что испытывает поэт, когда проза его мыслей переходит в плавность стиха, когда неисчислимые оттенки чувств приобретают гармонию и соотносительность частей, и когда человек говорит: «Ничего не пожалею, чтобы добиться своего!»
Черные пятна от костров на стенах каменоломни, тусклое освещение, намеки на опасность, которая стояла за плечами у каждого, задумчивые лица, взгляды, бросаемые на вошедшего и заключающие в себе вопрос о том, жив ли друг, брат или отец, – все это было сейчас необычайно близко сердцу Матвея. Он вспоминал комсомольца Семёна, которого немцы провели мимо согнанных крестьян, короткий взор его, как бы говорящий Матвею: «Ну, при чем тут разговор о предательстве или о моем спасении? Разговор тут о том, что по твоему лицу понимаю: борьба идет успешно и надо продолжать ее успешной, Матвей!» Он видел перед собой того незнакомого крестьянина, который спас его, пожертвовав своею жизнью, может быть, только тут, в толпе, перед виселицей, узнав, кто такой Матвей Кавалев и как он попал в село Низвовящее.
– Ты понимаешь, какая моя теперь обязанность? – говорил Матвей, уводя в сторону от станков то начальника отряда, то начальника разведки. – Моя обязанность – максимально быть здесь полезным!
– Не без причины, – отвечал товарищ П., а начальник разведки, поглаживая гимнастерку на тощих боках, только иронически улыбался.
– А раз не без причины, вы должны принять мое предложение.
– Чем глаже план, тем труднее его исполнение, – говорил товарищ П., отходя от Матвея.
Товарищу П. каждый день предлагали множество проектов о нападении на немцев, и он привык к необычайнейшим фантазиям, а в особенности к выдумкам новичков, которые считали партизанство каким-то сплошным маскарадом. Товарищу П. приходилось объяснять (впрочем, он делал это не без удовольствия) самые элементарнейшие законы партизанской войны. Иных, наиболее пылких и настойчивых, он просто резко обрывал.
Но с Матвеем Кавалевым положение выходило несколько иное. Что пленяло товарища П. в Матвее? Как раз то самое, чего Матвей в себе не чувствовал и от чего отмахивался всеми руками. Приглядевшись к Матвею, товарищ П. решил, что Матвей явился сюда из-за любви к Полине. Разумеется, Кавалев знаток станков, и производство он понимает, и указанные им пути поднятия выделки гранат правильны, – но все же послать могли сюда и другого, и нужно было очень уж извернуться Матвею, чтоб командование согласилось на его командировку. Это несомненно! Второе: Матвей едва ли сказал о Полине за все время два слова, но эти два слова были наполнены таким чувством, что товарищ П., проведший бурную, наполненную страстной любовью молодость, понимал их смысл.
Кроме того, товарищ П. превосходно знал творения И. Тургенева и едва ли не оттуда происходил этот молодой человек, полурусский, полуукраинец, носящий в себе мечтательность украинца, его упорство и буйную удаль русского, потомка Васьки Буслаева. И, наконец, третье, – размышлял товарищ П., – едва ли не самое важное соображение: ветеринарный фельдшер П. побывал на многих войнах, его водил туда и характер его, и, частенько, желание помочь животным, которые на войне страдают не меньше, чем люди. Он знал войну и мог сказать с твердостью, что И. С. Тургенев недаром мало писал о войне, ибо, действительно, любви, – в смысле, ясно, тургеневском, – встречается на войне мало, как раз пропорционально противоположно тому, сколько пишется о ней в романах, посвященных войне. Да это и понятно. Уж очень надо иметь огромное сердце, чтобы вместить туда и все опасности, связанные с войной, и все тонкости чувств, связанные с любовью. К тому же обычно предметы этих тонких чувств находятся в тылу, а вернее, сама любовь, стремясь отдаться всецело войне, отодвигает их, убирает в тыл. Вот почему товарищ П. был убежден, что Полина и Матвей, оставшись вдвоем, спорят о том, уезжать Полине в тыл или же оставаться здесь, и Матвей настаивает, чтобы она уезжала… Товарищ П. с не меньшим, если не большим интересом, чем он читал Тургенева, чувствовал главы этой любви, которые развертывались перед ним. Ему нравилось редкое романтическое сердце Матвея: «Ну, хочешь порисоваться перед девушкой своей удалью, – рисуйся!» И когда Матвей воскликнул:
– Мы себя можем этак обесславить! Надо показать фашисту, на что мы способны! – товарищ П. подумал, что Матвей убил бы полковника фон Паупеля или у моста, или на площади, не стой рядом Полина. Он не хотел губить страстно любимую женщину! Подумав так, товарищ П. стал снисходительнее относиться к предложению Матвея. В конце концов, «что, в моем отряде плохая организованность и четкость аппарата? Разве я не могу рискнуть?»
Казалось, Матвей понял его мысли. Он схватил руки ветеринарного фельдшера, – маленькие и волевые руки, – и, пожимая их, сказал:
– Согласен, да?! Вот и товарищ Полина подтверждает: нервные они, сразу заговорят, все расскажут. А видали журналисты сколько? Они весь фронт объехали, собирали материалы для своей книги, всех фашистских начальников видели! Им лично Гитлер напутствие, может быть, читал! Личные инструкции они от него имеют!
– Тем труднее их будет похитить.
– Тем почетнее, – поправил Матвей товарища П.
– Ой, не люблю я, ребята, этой пинкертоновщины!
Но «ребята» не читатели пинкертоновщины: двадцать лет лежали между ними и товарищем П. Впрочем, они понимали, что «пинкертоновщина» – это нечто глупое и предосудительное. Но как можно сравнивать нелепые похождения каких-то там не то сыщиков, не то авантюристов, с превосходно разработанным планом похищения фашистских журналистов из-под самого носа полковника фон Паупеля? Мало того, в плане значилось и «физическое уничтожение фон Паупеля», в скобках: «если подвернется возможность».
– Какая ж пинкертоновщина, когда это факт? – сказал Матвей. – Они теперь предполагают: раз повесили по селам сотни людей, то – могут спать спокойно. А мы обязаны им доказать: нет, вам на нашей земле спать спокойно не придется! Мы ваш сон вычеркнем! Товарищ П. Наше предприятие имеет большое политическое значение. Ты подумай: как будет реагировать селянин, когда узнает, что твои части похитили из-под носа знаменитого полковника Паупеля журналистов, посланных Гитлером, а?
– Да, не посылал их Гитлер. Это брех.
– Клянусь, посылал!
Матвей посмотрел молящими глазами на Полину:
– Товарищ Полина, подтвердите!
Начальник отряда замахал руками, как бы говоря: «Знаю я вас, любовью в одно связаны!»
Полина молчала.
И, странно, это-то молчание и убедило товарища П. в возможности удачного разрешения придуманного Матвеем плана. Если эти журналисты не посланы самим Гитлером, то их не так-то уж сильно охраняют. А раз не охраняют, то… ведь они ж, действительно, могут многое знать? И, самое важное, какую ж свинью можно подложить полковнику фон Паупелю. Ух! Все карты перепутает!
Глава двадцать шестая
Взрывом фугаски разрушило три дома на противоположной стороне улицы, вырвало с корнем ворота дома, где обитал полковник фон Паупель, выбило окна… Солдаты, оставляя в пыли следы больших ботинок, несли рамы к дому. «Превосходно, – подумал полковник, глядя на солдат, которые, миновав сарай, набитый тюками с товарами, покрытыми пылью, подходили к крыльцу дома, – будут вставлять рамы, и эти идиоты уйдут». Полковнику журналисты надоели.
Тем не менее полковник вежливейшее продолжал говорить или, вернее, излагать интервью:
– Отношение населения к немцам? Какое у русских может быть отношение, если я их всех растопчу? Меня не интересует отношение ко мне мертвых!
Журналисты записали. Однако записали они не более одной фразы, и взгляд их был достаточно красноречив. Что-что, а полковник умел читать мысли журналистов. Он подумал: «Черт возьми, неужели „там“ настроение меняется, и мои фразы могут прозвучать по-иному?» Он спросил:
– А разве вас интересует отношение к вам мертвых?
– Зачем говорить о мертвых? – сказал пожилой журналист. – Мы предпочитаем писать о подвигах живых, господин полковник фон Паупель.
И обращение «полковник» не понравилось фон Паупелю. Уже давно он привык к своему имени, и оно нравилось ему, как добротная и почтенная вывеска богатой фирмы. «Полковник фон Паупель!» – это имя известно всему миру, пожалуй, не менее чем имя Гинденбурга. Он не променяет <его> на звание генерала и даже фельдмаршала! – так часто думал фон Паупель. Но сейчас ему показалось, что «полковник фон Паупель» звучит не так великолепно, как бывало раньше.
– Подвиги живых? Конечно же! Если я говорил о мертвых, так я говорил о мертвых русских. Их подвигов я не видал.
– Да, да.
Полковник фон Паупель сидел на стуле прямой, с подобранными, чисто выбритыми губами, и все в нем было словно выверено по ватерпасу. Пожилой журналист глядел на него, и ему все более и более казалось, что полковник фон Паупель не сегодня, так завтра, но непременно возьмет город Р. У него всюду такой порядок, все так расписано, что думается: даже взрыв советской фугаски, разметавший три дома и едва не убивший самого полковника, тем не менее входит в систему атаки города Р.! Пожилому журналисту казалось, что подозрения органов, направивших его сюда, излишни, полковник фон Паупель не изумлен неожиданным сопротивлением русских, не растерялся, и дня через два-три слава его поднимется и загремит снова по всему миру. Но, с другой стороны, пожилому журналисту платили за все сведения, которые он собирал, и которые ему велено было собрать о полковнике. Он спросил:
– Они берут не подвигами, а массой, как и все варвары?
– Конечно же, конечно, – подхватил полковник, которому все разговоры с журналистами казались допросом. Он не стал спорить, хотя и превосходно знал, что «масса»-то на его стороне, а не на стороне русских. – Без массы они бы погибли.
Засмеявшись, он добавил:
– Но и бегут они массой тоже! Великолепный завод СХМ, на котором можно было б выделывать противотанковые орудия, они бросили массой! Немного противотанковых средств у генерала Горбыча.
– Следовательно, город будет взят?
– Да.
– Разрешите спросить?
– Конечно же, конечно!
– Срок?
Полковник фон Паупель посмотрел на часы, будто там он мог прочесть срок, когда возьмут немцы город Р. И журналисты, и он, полковник, превосходно знали, что срок взятия города Р. назначен высшим командованием, но они притворялись, дабы показать, что полковник фон Паупель обладает большой самостоятельностью.
Полковник фон Паупель сказал:
– Срок? Шесть дней, между нами говоря, господа.
Как только он назвал срок, он опять стал уважать себя. Журналисты особенно бесцветны сейчас! Да и что они способны написать? Разве у них есть слог? Разве они в состоянии уловить и понять ту стремительность, с которой бросится на турнир с неверными крестоносец Иоганн Август фон Паупель? Воображение его увидело замки, высокие… [пропуск в тексте] неверных, крики их жен, лица бледных, прекрасных девушек…
Он встал:
– Через шесть дней вы будете описывать русский город, господа! Через шесть дней вы получите в этом городе, господа, превосходные сувениры.
Они расстались взаимно довольные: журналисты тем, что напишут великолепную главу о бое за город на востоке; полковник фон Паупель – что разделался, наконец, с этими тусклыми идиотами и что можно немного уснуть перед тем, как поехать на позиции…
…Как раз тогда, когда полковник фон Паупель разговаривал с журналистами о подвигах и массе, грузовик, наполненный «сувенирами», в большинстве вещами музейными: екатерининской мебелью; картинами старинной школы, среди которых была великолепная копия, может быть, даже поправленная рукою художника, – портрет Карла II-го, принцем, работы Карреньо де Миранда; огромными хрустальными люстрами, искрящимися на солнце; матовыми, ветвистыми и бронзовыми канделябрами, словом, всем тем, чего не пожалело «жадное к народному добру» сердце товарища П., – грузовик медленно двигался по шоссе к селу Низвовящему, где ныне находился полковник фон Паупель.
За рулем сидел Матвей в форме немецкого солдата, в каске, с перевязанной щекой. Он перевязал ее, чтобы не отвечать на вопросы немцев, но, удивительно, едва он ее перевязал, как зубы действительно заболели. Теперь он только и делал, что вспоминал о зубных врачах, у которых, бывало, пломбировал зубы.
– Слушай, парень, – говорил он, дергая головой. – Ей-богу, я зареву! Ты мне обязан спросить у немцев лекарства. Почему у вас, во всем отряде, нет <ничего> от зубной боли? Что, вы зубом не страдаете?
Начальник разведки, которому мундир немецкого лейтенанта жал в плечах и которому казалось, что Матвей трусит и оттого даже плохо ведет машину, сказал недовольным голосом:
– Предприятие и без того опасное. Еще и о зубной <боли> беспокойся!
– Жизнь вообще опасная штука, но зубная боль опаснее, – сказал Матвей, глядя в зеркало водителя, в которое видна была внутренность грузовика, люстра, прикрытая китайской вышивкой. Ветер распахнул вышивку, и морда золотого дракона отражалась в хрустальных подвесках люстры, у ног темно-гнедого коня, на котором скакал принц Кapл. На матраце спал – или притворялся спящим – помощник начальника разведки, голубоглазый молодой человек с высоким лбом и привычкою держать всегда руки крест-накрест. И сейчас он спал, держа так руки. Пыль медленно оседала на его лицо, на шелк вышивки, на зеленый бархатный кафтан принца, на знаки ордена Золотого руна, и на круглую черную шляпу с широкими полями, украшенную белыми перьями. – Но раз уж взялись жить, надо жить как полагается. Я твоей славы не нарушу, дорогой товарищ!
– Об этом беспокоиться поздно. Я говорю, не надо уходить в сторону с какой-то зубной болью.
Матвей толкнул его локтем в бок и, указывая глазами вперед, на белое и жаркое шоссе, где стояли три мотоциклиста и сидели пулеметчики в тележках, сказал:
– Патруль! Спроси, нет ли у них от зубной боли?
Матвей охватил голову руками и лег лицом на баранку руля, пока сидящий рядом с ним вынимал лениво пропуск, протягивал его начальнику патруля, и тот с удовольствием читал вслух:
– От полковника Хорст<а> Каргe к полковнику фон Паупелю. Да, нам это известно. Они оба антиквары. – Патрульный понюхал воздух и сказал: – Чертовски приятный дым, лейтенант.
– Трофейный.
И он протянул сигару:
– Прошу. Берите, сколько хотите. Я получил их две тысячи.
Патрульный вздохнул:
– Да. Ваш полковник – широкая натура, а наш фон Паупель столько же смел, сколько и скуп. Всего вам доброго, друг мой. Какие новости?
– Все те же.
Грузовик, окруженный сиянием мельчайших частиц пыли, на которых играло солнце, скрылся как бы в светло-коричневом нимбе. Патрульный посмотрел ему вслед, сел в мотоциклетку, и, с наслаждением закурив сигару, приказал двигать дальше и не очень быстро, чтоб не трясло и не осыпало пепла. Он так же, как и полковник его, мечтал о спокойной и сытой жизни, о счастье в картишки и приличной доле в добыче.
Грузовик лихо развернулся у ворот, так что дежурный офицер похвалил шофера. По мягкой, уже начавшей желтеть с концов, траве грузовик подкатил к сараю. Стройный лейтенант выскочил из грузовика и, стряхивая пыль с брюк, спросил, – можно ли пройти к полковнику фон Паупелю? Дежурный сказал, что у полковника сейчас журналисты. Тогда лейтенант спросил, – можно ли выгружать подарок и не обидится ли полковник, что подарок, хоть и громоздок, но малоценен? Дежурный улыбнулся шутке и приказал раскрыть двери сарая. Затем он крикнул солдат, чтобы те помогли выгрузить, но лейтенант не доверил грубым солдатским рукам антикварные ценности, и велел шоферу и своему солдату, все еще спавшему на матраце у ног принца Карла, заняться выгрузкой.
– Да побыстрее! – добавил он строго.
Лейтенант спросил, – не имеет ли дежурный чего-либо от зубной боли, которая внезапно схватила шофера? Дежурный принес лекарство из домашней аптечки фон Паупеля. Лейтенант угостил дежурного сигарами. Они разговорились, глядя на мокрые спины шофера и солдата, которые очень умело, почти с нежностью, выгружали вещи из машины.
Глава двадцать седьмая
На крыльце появились два журналиста. Дежурный убежал в дом. Шофер взял два кривых японских меча, завернутых в китайскую вышивку, и, чуть прихрамывая, встал возле лейтенанта. Они направились к крыльцу и уже взошли было на него, когда вернувшийся дежурный сказал, что полковник лег спать.
– Но меня просили передать ему мечи лично!
– Он спит мало, час-два, не более.
– Но, может быть, он не заснул?
– Нет, он засыпает мгновенно. Но, впрочем, я узнаю.
Лейтенант вынул сигары и, вздохнув, подошел к журналистам. Шофер, отложив мечи, снова принялся за выгрузку. Лейтенант, угощая журналистов, опять повторил свое о трофейном дыме. Журналист постарше, окинув опытным взглядом привезенные вещи, сказал тоном оценщика:
– Тысяч на двадцать.
– Ваша цена?! – не то вопросительно, не то тем же тоном оценщика сказал лейтенант. – Наиболее красивые уже выгружены, – добавил он. – Не хотите ли взглянуть?
Журналисты вошли в сарай. Солдаты, лежавшие на траве в другой стороне двора, под тенью двух высоких танков, позже, на допросе, показали, что двери сарая закрылись как бы случайно только на одно мгновенье. Тотчас же после того из сарая вынесли два свертка с коврами, и лейтенант сказал появившемуся на крыльце дежурному:
– Ковры выгрузили по ошибке. – И он посмотрел в записку. – Их мне нужно отвезти Кадлеру, штабному врачу. Кстати, он даст и лекарства от зубной боли. Ваше не помогло. Полковник меня сейчас примет?
– Полковник спит. Заезжайте к нам после посещения врача Кадлера: вторая улица направо, третий дом. Вы не видали, куда ушли журналисты? Они приглашены к завтраку. – И он добавил важным голосом, как бы подчеркивая ту честь, которой удостоился лейтенант: – Кстати, лейтенант, вы тоже приглашены на завтрак к полковнику фон Паупелю.
– Благодарю вас. Буду непременно. Вернусь через пятнадцать минут.
К счастью для полковника и к великому горю шофера и лейтенанта, обстоятельства сложились так, что через пятнадцать минут они вынуждены были гнать свой грузовик во все его восемь цилиндров, во всю его возможную и невозможную мощь, по раскаленному полднем шоссе, и патрульный, тот, что принял от лейтенанта трофейные сигары, с удивлением услышал приказание, переданное по полевому телефону, захватить самым осторожным или самым неосторожным образом грузовик, уносящий из села нечто невероятно ценное. Патрульный не думал, что это русские, он просто предположил, что парни, видимо, лихие, выпили и, кто знает, подрались, может быть. В душе у него оставалась даже какая-то нежность к любезному и об[слово не закончено] лейтенанту.
Патрульный с неохотой сел в мотоциклет. Мотоциклисты выскочили на перекресток и понеслись навстречу грузовику. Однако грузовиком управлял более опытный шофер, чем думал патрульный: когда мотоциклисты проскочили один из перекрестков шоссе, как раз именно по этому перекрестку и вынесся на шоссе окаянный грузовик. Он был теперь пуст, – «зато, должно быть, животы у них полны», – с усмешкой подумал патрульный, высоко подпрыгивая на рытвинах, которыми была усеяна дорога.
Патрульный сделал знак, известный всей армии. После этого знака, повторенного три раза, он имел право открыть огонь. Он так и приказал пулеметчику, – уже забыв о любезном лейтенанте и глубоко оскорбленный, что грузовик не обратил внимания на его всесильный знак. Но пулеметчик не успел нажать на гашетку, как из грузовика, отчетливо и роково, заговорил автомат, и патрульный, с простреленными сигарами в боковом кармане и с пробитым сердцем, упал навзничь, еще на одно число увеличив и без того обильный список умерших солдат и офицеров германской армии.
Возмездие клубилось возле грузовика, как возвышались и клубились вокруг него облака пыли!
У леска немецкий офицер выслушал приказ в более категорической форме, чем тот, который слышал патрульный. Офицер, широкий, с длинными руками и короткими ногами, похожий на жука, выкатился на дорогу. Солдаты бежали за ним. Два пулемета легли по обеим сторонам шоссе, направив свои жерла навстречу катящемуся грузовику. Офицер собрался командовать. Он опустил было бинокль свой… но вместе с биноклем опустилась в Тартар его жизнь.
С верхушек деревьев послышались выстрелы, как бы звуком своим подтверждая приказание товарища П., чтобы «все было аккуратно и без задержки, организованно, то есть». Партизаны слезли с деревьев и, пав на коней, понеслись по дну балки.
Грузовик, не останавливаясь, проехал по пулеметам и биноклю офицера, мертвая рука которого чуть изогнуто отражалась в великолепных цейсовских стеклах.
Командование передало вексель на смерть похитителей весьма солидной и весьма быстроходной бронемашине. Она делалась во Франции, и хотя казалось, что плиты ее брони сделаны больше из проклятий, чем из металла, все же машина могла развивать достаточную быстроту, чтобы вексель, переданный третьему лицу, мог быть оплачен.
Нет никакой надобности рассказывать подробно, как это произошло, что у руля бронемашины оказался Матвей Кавалев, а ковры с журналистскими душами лежали на месте артиллериста бронемашины.
– Богатая погоня! – сказал, оглядываясь по привычке, Матвей. – Ты видишь? Пять танкеток и три бронемашины. Пора нам и в лес сворачивать. Все-таки почетно: сто десять километров гнались за нами немцы, и угольки только от нашего грузовика получили.
– Организованный человек товарищ П., – сказал начальник разведки, расстегивая ворот лейтенантского мундира и озабоченно поглядывая на ковры: он опасался, что журналисты задохнутся, и еще ему казалось, что Матвей всю удачу приписывает своей ловкости, а не аккуратности товарища П., который всюду на опасных местах предусмотрительно расставил помощь.
Журналисты не задохлись, хотя ехать им пришлось много. Их вынули из грузовика и на носилках несли через какие-то хлюпающие места, наверное, через болота. Затем по коврам зашелестели ветви, затем их положили на какие-то доски, и вскоре до них донесся влажный запах воды, и мокрота просочилась сквозь ковры. Дышать было трудно, особенно когда их клали не на бок, а на живот. Тогда журналисты, чтобы выразить свое негодование, начинали мотать ногами, и их переворачивали, пока кто-то не догадался и не отметил глиной – «верх». Наконец, сквозь пыль, которой были набиты ковры, сквозь шерстинки, которые лезли в уши, они услышали веселые, смеющиеся голоса, мало похожие на те голоса, которые последние часы сопровождали их. Журналисты поняли, что они прошли, <если> можно так выразиться, через фронт и сейчас находятся на советской стороне.
Так оно и было. Ковры развернули, и экс-лейтенант, теперь уже в полуштатской, полувоенной одежде, сказал виноватым тоном:
– Извините, господа. Нам и самим это крайне неприятно. Мы не любим ни авантюр, ни авантюрных приключений. Как вы убедитесь сами, вся наша жизнь построена совершенно на другом принципе. И если это случилось, то случилось как редчайшее исключение. Я бы просил вас не обобщать его в своих дальнейших писаниях…
Журналист постарше сказал:
– Я вам заявляю: сколько вы нас ни пытайте, мы ничего не скажем!
Экс-лейтенант не мог лишить себя удовольствия, он съязвил:
– У нас нет Гестапо, чтобы пытать. Правда, у вас другая практика и вам трудно поверить… Прошу.
Журналисты сели в «ЗИС». Они удивленно переглянулись. За минуту до того, когда развертывали ковры, они слышали множество смеющихся голосов, а теперь дорога была пуста; кусты, окаймлявшие ее, стояли, так и не потеряв пыли. Возле экс-лейтенанта был только тот шофер, прихрамывающий, который правил грузовиком. Лицо у него было раздраженное. Журналисты по тону его голоса понимали, что он злится и негодует, но на что он злился и <по>чему негодовал, они не понимали. И очень хорошо, что не понимали.
Матвей говорил:
– Их расстреляют?
– Нет. Зачем же? Их допросят.
– A потом расстреляют?
– Потом их отправят в лагерь, где они и будут объедать нас до конца войны, – ответил экс-лейтенант спокойно. Горячие вопросы Матвея ставили экс-лейтенанта в необходимость быть хладнокровным. И он отвечал не без наслаждения, любуясь своим хладнокровием и выдержкой.
– И потом их расстреляют?
– Это уже зависит от немецкого народа, надеюсь, – многозначительно ответил экс-лейтенант.
– Э, ждать! Что ж, нельзя разглядеть палачей народа? Ты возьми их лейки, прояви негативы. Ты их души проявишь!
Матвей протянул руку к кобуре. Пока он вел журналистов, ему казалось, что он ведет их к смерти. Но теперь, когда сейчас длинная, сильная и красивая машина увезет их прочь, он не мог отпустить их. Какие там, к черту, переговоры с ними! Смерть им – и больше ничего! Смерть!
Экс-лейтенант не шевелился и даже не смотрел на Матвея. Он наклонился, сорвал былинку и, осторожно сгибая ее, старался сделать нечто похожее на остов коробочки. Все его движения говорили, что он понимает ненависть Матвея, но, понимая, уверен, что Матвей справится со своей раздражительностью, – он доверяет ему. Подождав немного, и по дыханию Матвея поняв, что тот успокоился, экс-лейтенант поднял голову. Глаза у него были карие, чистые поразительно, он, должно быть, очень отчетливо видел мир. Он приложился к козырьку фуражки и направился к машине.
Пыль от ушедшей машины улеглась. Она лежала на сапогах Матвея, сливая их очертания с дорогой. Он был один. Револьвер, вынутый им, нагрелся в его руке.
Матвей с ненавистью поглядел в последний раз в ту сторону, куда ушла машина, – и выпустил в землю заряды. Один! Два!
Затем он выронил револьвер, упал в пыль и, простерши руки к траве, которая словно бы тянулась к нему, желая успокоить, стал рвать, мять ее, бить себя ею по лицу…
Когда придет отмщение, когда?
И вспомнились ему слова товарища П., этого умного и очень проницательного человека. Товарищ П., когда Матвей и его спутники привели фашистских журналистов в штаб отряда, повел Матвея куда-то в лесок и там, возле пастушеского шалашика, показал ему трех ребят: двух девочек и мальчика лет шести.
– По-моему, твои племянники. Из села Карнява. Так?
Матвей вгляделся. Он видел этих ребят прошлой весной; о, они сильно изменились, похудели, вытянулись, да и к тому же лица у них сейчас были как-то особо ждущие, молящие, так что, несмотря на возбуждение и радость – результат удачно проведенной разведывательной опера– ции, – Матвей не мог смотреть на них без слез.
Да, они его племянники! Дома, в городе, о них много говорили, – особенно Мотя. Она горевала, что племянники, жившие в другом селе, не успели прибежать к ней.
Но не странно ли, что Матвей не вспомнил о них, а вспомнил о них и нашел их товарищ П., у которого и без того немало хлопот?
От этих мыслей Матвей растерялся и пробормотал:
– Можно мне их с собой?
– Для того и доставлены, – ответил товарищ П. – И еще для того, чтобы, говорю открыто, ты, Матвей Потапыч, не считал уж очень нас за простаков. Мы тоже кое-что предвидим, а иногда и получше, чем наши тезки-партизаны в прошлом. Слово – не одежда, изнашивается быстрей. Вот ты по-прежнему пошутил насчет своей командировки, а тебе за такую «командировку» может и влететь.
Он ласково похлопал Матвея по плечу и заглянул ему в глаза: не очень ли тот обиделся? Ему показалось, что Матвей не так уж отягощен обидой и грубостью, и товарищ П. продолжал:
– Так вот, Матвей Потапыч, буде спросят тебя на заводе: зачем ходил, можешь сослаться: де вызвал тебя товарищ П. и вот тебе в том мой документ. А я хотел тебя видеть инструктором насчет станков, а тебе хотелось, дескать, получить племянников, у тебя по ним сердце горело. Вот какая штука. Говори: с товарищем П. знакомы давно…
Он подумал и, улыбаясь иронически, добавил:
– Романы приучили относиться к шалостям партизанским снисходительно…
И уже совсем строго:
– Я бы к тебе не стал таким снисходительным, я не из романа. Но ради тебя тот, который в толпе у виселицы, Андрей Обхадименко, ради тебя… помер. Значит, он в тебе учуял особенное что… и мне завещал чуять.
Матвей, растроганный, поцеловал фельдшера. Фельдшер ворчливо принял поцелуй, а затем сказал те слова, которые вспомнил Матвей в пыли дороги, когда лежал он и бил кулаками в землю, пылая ненавистью и жаждой мести:
– Отмщенье немцу придет, Матвей Потапыч. Мы их снабдим решеткой, а которых и пулей обременим, извините уже!