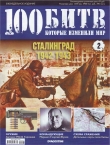Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава сороковая
Луна давно скрылась. До восхода солнца еще далеко. Тем не менее Полина увидала горизонт, накаленный докрасна, при свете которого явственно можно было разглядеть все заводские здания, Дворец культуры, дома Проспекта и даже прочесть на стене Дворца: «Ты взял Фермо– пилы…»
Город горел. Горели и его окрестности.
Через заводской двор по багровому асфальту проносились санитарные машины, подпрыгивая и кружась среди воронок. Их опережали грузовики со снарядами, спешащие к откосу. Батарея мчалась к Стадиону, куда ожидали нападения танков.
В воздухе послышался треск, – словно разгорался большой костер. Трассирующие пули указывали путь самолетов врага. Неверный свет ракет глодал душу… Полина встретилась лицом к лицу с войной! При каждом взрыве ей казалось, что она и есть как раз та самая ось, вокруг которой вращается чудовищный вал военной машины.
Она бежала по двору, затаив дыхание. Как жаль, что нет входа во Дворец со стороны завода! И как, в конце концов, жаль, что она согласилась пойти в радиоузел! Сменный инженер, метивший в начальники цеха, – он предвидел, что Матвей скоро уйдет, – хотел непременно, чтобы она дала заметку в радиоизвестия об успешной работе цеха… Может быть, даже намекнула на его работу… Он глядел на нее наглыми и спокойными глазами, и Полина с негодованием, назвав его про себя «подлецом», решила сбегать к Силигуре и предупредить, чтобы он не давал хороших заметок о сменном инженере Архипове.
Но что теперь Архипов, его мечты о заметке, его жажда места, в сравнении с тем, что происходит здесь? На короткие промежутки взрывы и залпы прекращались. Опускался темно-синий мрак, изрытый морщинами пожарищ. Но мрак этот существовал только где-нибудь в промежутке между зданиями, куда забегала Полина передохнуть, в щели окопа или же в какой-нибудь развалине, где необрушившаяся стена манила к себе, коварно обещая защиту.
Ух, как тяжело! Полина с вожделением глядела на Дворец. Почему есть пожарные входы, ворота для ввоза декораций, а нет настоящей двери? Почему надо бежать вокруг, мимо Заводоуправления, а затем полкилометра по Проспекту?!
Когда она выбежала на Проспект, она созналась себе, что именно Проспекта-то она и трусила! Ей казалось, что больше всего немцы будут бомбить Проспект. Однако она насчитала не больше шести-семи разрушенных зданий. Тогда она остановилась, отдышалась и дальше уже пошла медленнее, как всегда, обращаясь с речью к тому, с кем ей предстояло встретиться, хотя обычно эти речи она не произносила, а чаще всего говорила совсем противоположное:
– «Вы, Силигура, личность, остро ощущающая историю. И, конечно, в такие часы я нужна вам не для заметок о работе цеха. Вы подсознательно чувствуете, что сейчас надо говорить о важнейшем. Что же есть важнейшее для меня и для вас? Искусство! Ибо, хотя вы и называете себя историком, методы, которые вы применяете в вашей „истории СХМ“, суть методы художника, а не историка. Поэтому искусство и его задачи важны сейчас и вам, и мне!»
Она мысленно развела руками:
– «Ах, Силигура, как тяжело, как тяжело! Искусство не любит насмешек над ним. Оно за это мстит ужасно! И мне отмщено, ибо ограда жизни должна быть, как и в постройке жилья, выложена из того же камня или дерева, что и дом твой, Силигура. Я надругалась над искусством! Я не поверила, что многое можно сделать песней, а сегодня – день атаки. И – четыре раза в этот день исполнялась по грамзаписи моя песня. Моя! Песня отражала атаку, как и противотанковая пушка. А я думала, что пою „песню торжествующей любви“, в то время как действительно исполняла „песню торжествующей доблести“».
Но что мог ей ответить Силигура? И за ответом ли она шла? Узнав ее артистическую фамилию, Силигура, конечно, растеряется и, самое большее, решится позвонить в радиокомитет, чтобы сообщить им радостную новость – Полина Вольская находится в СХМ. Эту новость может сообщить и сама Полина! Стоит ей взять лишь телефонную трубку. и тогда ей предложат петь немедленно. Да, это вам не грамзапись! Вы услышите нечто другое…
Мысли ее так разъедали, что она не могла дышать. Она обрадовалась: в бюро пропусков впереди нее стояло пять человек, и она отдышалась.
Бюро пропусков находилось в левом крыле Дворца, там же, где и библиотека. Радиоузел помещался в правом, ближе к мосту. Полина, размахивая белой бумажкой пропуска, четко постукивая каблучками, шла вдоль фасада Дворца. Баррикады из мешков закрывали мост, и только в проходе, поверх упавших тетраэдров, Полина разглядела розовые поручни моста, мокрые от росы. Костлявый лейтенант, оборонявший баррикаду, долго рассматривал ее пропуск. Отсветы пожаров играли на его лице, источенном войной.
– Спешное дело, что ли, товарищ, в радиоузле?
– Значит, спешное, если иду под бомбами.
– И дураки ходят под бомбами, – сказал лейтенант, возвращая ей пропуск и направляясь вдоль баррикады.
Перед тем, как войти во Дворец, Полина подняла вверх голову. Статуя Ленина отсюда видна была великолепно. Темно-зеленый камень ее отливал торжественным багрянцем. Красноармеец, держась за пулемет, свесив голову с руки статуи, кричал что-то вниз, на площадку, где, наверное, стояли другие красноармейцы. От этого уверенного крика приятное чувство бодрости снова зажглось в Полине.
Она быстро поднялась по душной лестнице. Духота усиливалась в передаточной, где находился Силигура, удивленно на нее взглянувший, было совсем нестерпимо. Полина взглянула в глубоко впавшие глаза Силигуры, услышала его хриплый голос, достаточно унылый, – и все приготовленные слова ушли далеко-далеко. Она торопливо спросила:
– Вы меня вызывали, товарищ Силигура?
– Разве на сегодня? – удивился он. – Да, да, товарищ Смирнова! Представьте, на сегодня, а сегодня как раз атака. Присядьте, пожалуйста. Я сейчас освобожусь!
Он тупо уставился в листок, который, видимо, редактировал. Полина села к нему спиной. Зачем она сюда пришла? Она с удивлением разглядывала комнату, и она казалась ей очень величественной, несмотря на гул сражения, доносившийся из-за завешенных сукном окон. Ей милы были портьеры из серого рубчика, стены – под карельскую березу, лепной потолок с множеством цветущих подсолнечников, а в средине его – нежно-голубое небо, небо детства и искусства. Искусство! С какой нежностью смотрела она на стол, где возвышался микрофон, на ящики, отливающие никелем, на провода, на всю аппаратуру, которая гораздо проще, чем тот станок, на котором она сейчас работает, между тем как именно эта аппаратура передает ее голос, – человеческий голос, самое прекрасное, что только существует на свете.
Силигура сказал:
– Массам, Мотя, нравится «Песня о хорьке». Вот с нее и начинайте концерт.
– Да сегодня ж четыре раза заводили эту песню!
– Значит, массы находят здесь ответ, а раз они находят ответ на свои запросы, я заведу четыреста раз.
Мотя сказала в микрофон деревянным голосом, при звуках которого Полина подумала: «Нет, не быть тебе певцом и диктором не быть»; и сама себя уловила на недостойном злорадстве.
– Начинаем наш музыкальный антракт «Песней о хорьке» в исполнении Полины Вольской, заслуженной артистки республики, граммофонная запись…
Как только Мотя назвала ее имя и звание, Полина встала заученным величественным движением и, плавно шагая, направилась к микрофону! Мотя заметила ее и прежде. Но теперь походка и весь вид Полины были настолько другими, что Мотя, вместо того чтобы положить диск пластинки на уже вращающийся круг патефона, уронила его – и разбила.
Полина не без удовольствия наступила на пластинку каблуком и, притопывая ногой и мысленно аккомпанируя себе, стала петь знаменитую свою «Песню о хорьке», ту самую песню, которую услышал в цеху Рамаданов и из-за отсутствия аккомпанемента к которой он понял, что ее исполняет сама Вольская.
Полина пела с воодушевлением необычайнейшим! Песня натосковалась в ней и теперь вырывалась сильно, плавно и легко, словно желая уведомить о себе весь мир. Да, и Полина видела своим духовным оком весь мир друзей и врагов. Им пела она! Она пела солдатам Англии, повстанцам Югославии, партизанам Польши, австралийцам, дерущимся в песках Африки, матросам соединенных эскадр, пересекающим моря и топящим немецкие корабли. Она пела о своей ненависти в лицо фашистам: германским, итальянским, румынским, венгерским, всем тем, кто поднял оружие против ее родины. О, она много приобрела друзей! Она огорчала врагов, готовых взорваться от злобы…
Вбежал Квасницкий, старый и невеселый. Он за несколько комнат узнал голос Полины Вольской, и ужас, без того охвативший его, только усилился. «Куда он ее спрячет? Тут такая беда… Где мне теперь наводить лоск!»
– Силигура, – сказал он тяжело дыша, – Силигура, голубчик! У меня температура…
И он крикнул Полине:
– Да замолчите вы, Вольская! Ведь я только что выключил радио…
Полина, не слыша его, продолжала петь. Квасницкий, действительно, больной, да это видно было и по воспаленным глазам его, встал с постели, боясь, что новые работники радиоузла в случае опасности забудут все инструкции. Так оно и случилось. Вместо того чтобы снять аппаратуру, они вздумали передавать какой-то идиотский «музыкальный антракт» и еще ухитрились пригласить Полину Вольскую. И она тоже хороша, дура!..
Квасницкий достал из-под стола давно уже приготовленный лом – и хотел ударить по микрофону, Полина уже замолкла и глядела на него испуганными голубыми и сухими глазами. «Фу, какая духота!» – подумал Квасницкий и ему стало жалко аппаратуры.
– Немцы перебили ребят на баррикаде, – сказал Квасницкий. – Подставили лестницы пожарные и лезут к статуе… Хотят перебить наших у подножия и позицию захватить… Десант, что ли?..
Он выложил на стол три гранаты, которые подобрал у раненых возле баррикады, и сказал, резко повернувшись к Силигуре:
– Силигура! Пока немцы не вошли во внутренность, беги за подмогой.
– Я боюсь, – сказал Силигура, не стесняясь. – Там… танки… Я…
– Мы тут с девушками аппаратуру унесем, а ты беги…
– Я боюсь…
– Побежишь ты или нет, крыса? – сказал, хватаясь неизвестно для чего за гранату, Квасницкий. – Часть их в библиотеку побежала… я видал… Они твою библиотеку зажгут!
– Как же это можно зажечь библиотеку? – спросил Силигура, глядя на Квасницкого сухими глазами. – В ней свыше ста тысяч томов!
– А им хоть сто миллионов! Подожгут!
Силигура спокойно спросил:
– А где мне Матвея Кавалева найти?
– Иди на откос.
– А каким путем?
– Да там, кажись, наши танки идут… иди за ними…
Силигура убежал, смешно вздергивая ноги.
Квасницкий стал рубить провода, затем взвалил на себя аппаратуру, положил в карманы гранаты и, тяжело пыхтя, пошел по лестнице. Лунина, совсем молоденькая, круглолицая помощница его, на которую он сильно надеялся, когда на лестнице увидела невесть как попавшего сюда убитого немца, всхлипнула, бросила микрофон на землю и скрылась в первую попавшуюся дверь. Квасницкий выбранил ее нехорошим словом, взял микрофон и, горбясь, пошел дальше.
Они спустились на три пролета, а затем свернули с лестницы в длинный коридор, облицованный синими изразцовыми плитками. Коридор привел их в кухню. На плите еще клокотала кастрюля, на сковородке горела яичница, на полу валялись халаты поваров, которые они, видимо, сбросили, боясь, что по ним, белым, немцы будут стрелять… Квасницкий пересек кухню. Они пошли по другому, теперь розовому, коридору. Запахло картофелем. Квасницкий открыл дверь в погреб и сошел по лестнице. Только теперь, вдыхая сырой и пахнущий грибами воздух, можно было понять, какая духота наполняет Дворец.
Квасницкий зажег электричество. Лампа осветила длинный и низкий подвал, в котором стоять можно было только наклонив голову. Квасницкий провел их в другой конец подвала, снял доски с какого-то круглого, обделанного по бокам кирпичом, колодца и, малость подумав, стал бросать туда аппаратуру. «Боже мой, ведь он же совсем болен! – в ужасе глядя на Квасницкого, подумала Полина. – Зачем же было нести сюда аппаратуру, если ее надо разрушить?» Колодец, видимо, был глубок. Проходило секунд пять, прежде чем они слышали шмякающий звук аппаратуры.
Когда Квасницкий сбросил последний аппарат, он вынул гранаты и сказал:
– Вы тут, девушки, подождите. Я к вам Лунину пришлю! – И, уходя, он добавил: – Через кухню один вход, а тут… – Он указал вперед на что-то темное и круглое, чуть заметное в небеленой стене: —…тут выход, на случай пожара, в декорационную… Да думаю, он с той стороны закрыт.
Он ушел.
Женщины сели на край колодца. В комнатах, когда они бежали, Полина чувствовала себя спокойнее. А здесь – не то сырость, не то низкий потолок, до которого она без труда доставала рукой, – все действовало на нее угнетающе. Она дрожала, и ей мучительно хотелось прижаться к Моте, которая, наоборот, именно здесь чувствовала себя спокойнее, может быть, оттого, что тысячелетия в подобных случаях – предки ее – бабки и прабабки, – прятались в погребах.
– Вам не страшно, Мотя? – робко спросила Полина.
Совсем другим, душевным и глубоким голосом, не тем, каким она говорила в микрофон, Мотя сказала, обнимая Полину за плечи:
– А чего ж страшного, Полинька?
– Сыро, грубо… отвратительно.
– Смерть – она не сырая. Это жизнь сырая, а смерть – она сухая, – сказала Мотя тем же другим, нежным голосом. – Только ты о смерти не думай, Полинька. Я уеду.
– Куда вы уедете, Мотя? – удивленно спросила Полина.
– А я эшелоном уеду, с инженером Коротковым. Я за него замуж выйду. Я сегодня, как услышала, как ты поешь, поняла, что ты из-за Матвея пришла на завод, я и решила…
– Но я вовсе не из-за Матвея пришла на завод!..
– Ну, не из-за Матвея пришла, из-за Матвея останешься. Ты его ведь любишь…
Полина молчала. Она чувствовала, что Мотя словно бы сломала какую-то печать, за которой видно многое… Мотя, видимо, не испытывая надобности в ответе, продолжала:
– Любишь, Полинька! И надо любить! В тебе есть гордость, и в нем того более. Вон вы какие гордые! Полтора, что ли, месяца рядом ходят, а об любви ни слова. Я так не могу! Я старалась изо всех сил, чтобы он меня полюбил. А он не любит. Ну что поделаешь? Выйду за Короткова…
– Только почему же выходить замуж?
– Пора, – ответила Мотя просто. – Мне пора! Дальше дело пойдет, сильно могу ошибиться. А сейчас я еще в мужиках разбираюсь. Коротков, он, верно, мутный вроде. Но это потому, что у него, как у младенца в жизнь, первые зубы прорезаются! Да ты не думай, я его не огорчу. Я его любить буду, и в Узбекистане мы хорошо работать будем…
Она свесила голову, положила руки между ног и, взяв с пола мокрую горсть щебня и, видимо, не замечая этого, продолжала:
– Хорошо! Он мной будет доволен. И я собой тоже, что нашла силы и дольше не унижалась!..
Она встала и подошла к той дверке, на которую указывал им Квасницкий. Полина догнала ее. Мотя потрогала дверцу. Она была как раз в ширину ее плеч и, действительно, заперта снаружи. Мотя с силой рванула ее. Послышался лязг железа. Запахло краской. Дверь не открылась. Мотя вернулась к колодцу.
Полина сказала:
– Нет, зачем же вам уезжать? Или, лучше, если ехать, так ехать нам вместе. Ну, какой он мне муж, Матвей?
– Муж будет хороший! – убежденно сказала Мотя.
– Нет, не хороший. Я люблю искусство. А он? Я сегодня запела – и поняла, что не могу уйти, покинуть искусство. Ну, просто совестно в таком положении, как мы, так разговаривать, но вы поймите, Мотя…
Мотя положила ей теплую и пахучую руку на рот, указывая другой на круглую дверцу, за которой слышались какие-то шаги, множество шагов… стук прикладов… незнакомые голоса… Мотя на цыпочках, согнувшись, побежала к двери. Полина от испуга не могла последовать за ней, хотя и старалась изо всех сил встать. Мотя быстро вернулась, но тот час же побежала в другую сторону и, рванув за провод, погасила электричество.
Почти тот час же Полина услышала рядом ее ровное и мощное дыхание, и Полине стало немного легче.
– Отошла? – шепотом спросила Мотя.
– Отошла…
– Немцы, – еще тише сказала Мотя. – Ты к ним в руки хочешь?
– Зачем же?
Мотя обняла ее опять за плечи и, помогая встать, сказала на ухо:
– Я еще к Короткову подхожу кое-как… Он красивый и я красивая… Я красивая, Полинька?
– Красивая, – с усилием сказала Полина.
– Ну а что? Мне перед смертью и похвастаться нельзя? Так вот, Полинька, я к Короткову подхожу, ей-богу! А – к немцу? Нет! Ни к одному! – И она быстро зашептала на ухо Полине, шевеля дыханием ее волосы и щекоча губами ухо: – А ради миленького, кого даже и не любишь, а только рассчитываешь полюбить, всегда надо поступать хорошо. Верно? Дай я тебя, Полинька, поцелую! – Она сочно поцеловала ее и продолжала: – Как немцы только дверь сюда откроют, я – в колодец. Ты мне вменишь в преступление или в заслугу, Полинька, если я тебя с собой возьму?..
Полина, охватив руками круглую и сильную шею Моти, прошептала:
– Как хочешь, Мотя, как хочешь, я тебе теперь так верю…
Дверь лязгнула. Первый раз, второй… Кто-то стукнул железным.
Сердце у Полины помертвело.
– Смертью не надо пренебрегать, Полинька, смерть важна, строга…
И, сама строгая, высокая, она встала на гребень колодца, поддерживая Полину за плечи.
Полина заплетающимся языком спросила:
– Смерть? Но ведь страшно – в колодец, Мотя! Сырость… А если это не они, если наши?
Мотя уверенно сказала:
– У меня ухо понимающее. Немцы!
Глава сорок первая
Припадая к земле, то ползком, то кувырком и только изредка отдыхая за пригорочком или в воронке от снаряда и все же мало-помалу приближаясь к Дворцу, Матвей, как ни странно, продолжал размышлять и наблюдать тот перелом, который явственно обозначался час от часу сильнее в нем. Еще утром, на передней линии обороны, он понял, что стал теперь трезвее, осторожнее и лучше понимать опасность и находить способы ее устранения. Месяц назад, а может, и того меньше, попади ему в руки эти два взвода, он уже давно бы уложил их, да и себя еще в придачу! А сейчас он здесь не менее прежнего все же находил в себе силу, а значит, и терпение, подвигаться вперед по десяти – пятнадцати метров в час да еще и верить, что выбьет немцев из Дворца.
Он видел их отчетливо, хотя, кроме запаха горящей бумаги, который ветер иногда доносил от Дворца, ничто не говорило ему, будто немцы там.
Дворец приближался медленно. Впервые видел его таким Матвей – с ног – от фундамента: таким приземистым, тяжелым, так что думалось: не пробьешь его ни снарядом, ни заберешься в него никак. И, словно бы прислушиваясь к грозному окрику Дворца, пустынна была площадь перед ним, и неизвестно для чего и неизвестно кого устрашая, падали здесь немецкие снаряды. Ведь все пути к откосу лежали по ту сторону площади, ближе к цехам. Там то и дело проскакивали проворные дедловские орудия, оттуда несся грохот залпов и там поднимались кверху тучи густой и едкой пыли.
Позвольте! Но это же немцы ведут по площади заградительный огонь, чтобы русские не проникли во Дворец, занятый эсэсовцами.
– Вот как?!
И Матвей подумал: «Интересно бы знать, что, все еще генерал Горбыч считает, будто на СХМ производится „демонстрация“? Или он уже послал сюда подкрепление?»
И снова Матвей понял, что он стал другим: более спокойным, а значит, и более сильным. Он верил в ум майора Выпрямцева, в дальновидность генерала Горбыча, верил, что не зря носятся вдали проворные дедловские орудия. В ширину, с одного конца сражения до другого, не меньше восьми километров пространства, изрытого балками, рвами, овражками, ямами, усыпанного развалинами, горящим лесом, вывороченными полосами железа, и среди этого хаоса необычайно легко пробирались, выскакивали и строились милые «дедловки». Матвею казалось, что он ощущает их движение всем своим телом, как иногда ощущает радостный и здоровый человек бойкое и уверенное движение молодости в своих жилах.
Между тем немцы обнаружили красноармейцев и рабочих, которых вел Матвей. К заводу, как известно, была обращена слепая стена Дворца. Следовательно, немцы могли стрелять только с крыши. Но пробралось их туда мало: красноармейцы у статуи Ленина снимали их! Тем не менее то вправо, то позади Матвея слышались стоны, крики… звали врача…
Матвей полз. Сжав челюсти, глядел он изредка в испуганное лицо Силигуры. Тот жмурил глаза и бормотал:
– Нет, не зажгут они библиотеку, Матвей Потапыч, не зажгут!
– Да она уж горит, твоя библиотека! Книг им твоих жалко?
– Не то чтоб они ценили наши библиотеки… Но ведь боятся: бумага горит лучше бересты, огонь может весь Дворец охватить. Что им вылазить под наши пулеметы?
– А они для пожара и залезли во Дворец. Им ориентир нужен, пойми, Силигура.
Раздался голос чей-то слева:
– Если у них офицер исполнительный, он обязательно подожжет.
Офицер, действительно, оказался исполнительным.
Из-за стены, обращенной к Заводоуправлению, показался ленивый и лиловый дым.
Силигура охнул и, точно дождавшись этого дыма, зарыдал визгливо, по-бабьи.
Дым вылетал неровными, медленными клубами.
– Прикажите штурмовать, Матвей Потапович! – раздался вдруг голос Силигуры.
– Кого?
– Библиотеку!
– Обождем.
– Господи, чего же ждать? Ведь горят сто тысяч томов!..
Матвей, поглаживая ладонью уже нагревшуюся землю, глядел на все растущие клубы дыма и думал. В смысле пожаров немцы опытны. Кто-кто, а они-то уже знают, как горят библиотеки. Следовательно, у входа в библиотеку ими или оставлен слабый караул или же, понадеявшись на пожар, они вообще караула не оставили. Да и то сказать, есть ли стена непроницаемее, чем стена пламени? Ясно, что они перешли в правое крыло Дворца, там, где радиоузел… Сердце его сжалось. Он не любил Мотю. Теперь-то это понятнее, чем когда-либо. Скорее всего, он любит теперь другую!.. Но как бы там ни было, он не позволит, чтобы Мотя попалась в руки немцам. Как не позволит, чтобы вообще кто-нибудь к ним попадал! И вдруг он вспомнил, что там, в блиндаже, кто-то, кажется, Силигура, говорил, что и Полина в радиоузле. Или Матвей ослышался?!
Матвей взглянул на мокрое и жалкое лицо Силигуры, похожее на веник, которым только что подмели пол. «И неудобно сейчас спрашивать, и не ответит он!» – подумал с неудовольствием Матвей. Рядом с библиотекарем он увидел свежее и розовое, как всегда, и, как всегда, сияющее и довольное собой лицо Арфенова.
– Арфеныч, ты откуда?
– А оттуда, Матвей Потапыч. – Пенящийся, вздрагивающий голос Арфенова указывал на его волнение. – Услышал, что Дворец окружен, попросился, чтобы и меня послали немца окружить. Я до него давно добираюсь! Мне его пожары надоели. Мне этим дымом глаза выело.
– Сто тысяч томов!..
– Бумага, – сказал Арфенов равнодушно. – Ты, Силигура, в Сибири не был. Сибирь, брат, при любых условиях: сила! Там этих твоих томов на тысячи километров…
– Каких томов?
– Ну, из которых книги делают. Деревьев. Что, брат, книги? Книги, брат, напечатаем. Люди! За людей немцев надо посыпать бурой для спайки и паять при тысяче градусов. Кого убили, подумай! Рамаданова убили!.. Не знаю, как вы, я такой мысли освоить не могу…
– Как – Рамаданова? – вскричал, вскакивая, Матвей.
Арфенов тоже встал. Лицо его изображало жалость и стыд: он предполагал, что Матвею неизвестно о смерти Рамаданова, иначе разве бы Арфенов стал так легко, между прочим, говорить о смерти «старика». Кроме того, его смутила горечь, рвавшаяся из голоса Матвея и из глаз его. Так река пламени, таившаяся внутри дома во время пожара, вдруг вырывается наружу – и даже опытные пожарные столбенеют. А уж Арфенов видывал много горя, да и сам испытал в меру своих сил… Он положил тяжелые руки на плечи Матвея. Тот опустился на землю. Гладя ласково лицо его своей шероховатой, будто наспех вытесанной рукой, Арфенов сказал неожиданно бабьим, нежным голосом, таким, что все окружающие сочувственно закивали головами:
– Так ты, стало быть, не слыхал, Матвей Потапыч?! Как же? Весь город охнул… Снаряд разорвался маленький, а осколок от того снаряда – каждому в сердце! Рамаданова-а, ах ты, господи!..
Огненные брызги, сверкнувшие в сердце Матвея при первых словах Арфенова о смерти «старика», сменились теперь тупой и едкой болью. Он сидел, качаясь и охватив голову руками. Виски невыносимо ныли… Он видел перед собой виски – в белых реденьких кудряшках, падающих на тонкие, старческие уши, – виски, сейчас облитые кровью… его кровью!..
Арфенов, видимо, желая отвлечь мысли Матвея от Рамаданова, стал рассказывать, как умер наводчик Птицкин. Арфенов рассказывал быстро, желая воздействовать на красноармейцев героизмом Птицкина, а может быть, он опасался, что Матвей не сможет повести отряд на штурм Дворца, и ему, Арфенову, придется принять командование. К тому же, когда он вернулся от орудия, майор Выпрямцев сказал ему: «Тебя Матвей любит. Поди посмотри, как он… после Рамаданова… Если что, пришли весточку».
– И тот расчет, понимаешь ты, перебили, который я привел. Остались у орудия: я да Птицкин. Смотри. Танки идут! Он мне говорит: «Арфеныч, требуется внимание танков навести на меня, иначе они ко Дворцу пробьются». Нам не пора вставать, Матвей Потапыч?
– Не пора, – сказал Матвей, сжимая голову.
– Ну, раз не пора так не пора. Командиру виднее. Подождем, благо им стрелять неудобно… Ну… Начали мы палить по нему! Снаряд за снарядом, снаряд за снарядом. Я неутомимый, да и то устал. А он ведь, одно слово, – Воробей. Птичка. Но заинтересовал он меня своими очертаниями, товарищи, живописный. Он командует: «Танки! Приготовиться к отражению атаки!» Я отвечаю: «Есть приготовиться к отражению атаки танков».
Он посмотрел на Матвея, как бы спрашивал взором: не пора ли атаковать Дворец? Матвей сидел, опустив голову и тупо глядя в землю, покачиваясь и словно что-то считая про себя: раз, два, три, раз, два, три… Арфенов содрогнулся и намеренно бодрым голосом продолжал:
– Ну, такой оказался крутой парень, что сердце захолонуло. Чую, будет мне тяжеловато, придется валяться мне на дне ямы: кости да рога.
– Сколько шло-то на вас?
– А столько же, сколько и на вас, – отвечал Арфенов. – Ведь они к вам шли, а мы их на себя приняли. Ко Дворцу направлялись! Четыре огнеметных и два простых. И все на нас моторы, и все на нас башни!..
– Струсили?
– Я струсил. Про Птицкина не знаю: он весь в земле, глаз не видно, да к тому ж глаза потом залепляет, не разглядишь, как он? Только слова команды. Интересный подарок. Все делаю, как мне Птицкин приказывает, а внутри самого меня темно, и не могу я увлечься… это вроде как бы перед тобой цветы пестреют, луга, леса густые, а тебе в комнату хочется.
Арфенов увлекся правдивостью рассказа и совсем забыл, что командир не должен показывать слабости: а он-то ведь рассчитывал стать командиром! Но именно это-то увлечение и правда, звучавшие в каждом слове его рассказа, и превращали его в командира, в человека, который мог приказать и приказание которого могло быть выполнено.
– Однако развернули мы орудие – трах! Танк раскрылся настежь, как ворота. Тра-ах! Мимо! Тра-ах! В точку! Вам бы уж, товарищи, готовиться к отъезду в дальний, кабы не Птицкин! Он приказывает. Я подношу. Тра-ах!.. Еще сгубил Птицкин немецкое жилище. А ведь раньше, вы знаете, кто он был по профессии? Портной. Да, неосторожно немец обращается с русскими!..
Матвей отнял руки от головы и чуть приподнялся, вглядываясь во Дворец. Дым клубился, не очень увеличиваясь. Матвей опять охватил голову руками и стал качаться, опять словно бы считая про себя что-то. Арфенов помолчал, глядя на него, а затем продолжал:
– Прямо как грибы собираем танки: в кошелку советской славы, – сказал он напыщенно и даже приподнял руку. Но дальше рассказ его полился по-прежнему простой и с виду спокойный. – Птицкин смотрит в прицел. Закрывает замок, стреляет. Есть! И стало у меня, товарищи, внутри все в нежном, радостном запахе, вроде идешь весной по улице, а они, яблони, с обеих сторон на тебя машут. Удивительно! Выкидывает он, таким образом, медный стакан, и вдруг ко мне: «А где еще снаряды? Давай, чтоб у меня не меньше пяти штук было! Аршин ты длинный, а мера устарелая!» А? Он в деле, товарищи, как забор, где гвозди остриями вверх торчат – со своим делом не пролезешь. Ладно! Бегу за снарядами! Наклонился. Поворачиваюсь. Смотрю: танки оставшиеся – два – прямо на его орудие. Смерть? У меня ноги закоченели. Думаю: идти или нет? А тяжесть уже, товарищи, от ног к голове. Минута еще – и я бы совсем струсил. Малость трусить – это даже полезно, я считаю, но много – очень вредно. Превозмог! Бегу! Гляжу: разрывается рядом с моим наводчиком термитный снаряд. Одежда на нем горит. Я – к нему. А он – «Чего, говорит, одежа, давай снаряд!» Тра-ах! Тра-ах!.. Пробил он башенный люк, снаряды внутри взорвались… Еще один танк отвязали от гитлеровой свиты.
– Ну а последний-то танк?
Последний танк – после того как наводчик сгорел, потому что одежду уже поздно было срывать, – Арфенов уничтожил связкой гранат. Но он считал, что будет хвастовством, если он станет об этом рассказывать. Да, кроме того, ему было совестно, что он не умел наводить орудие и, таким образом, заменить товарища.
– Вот так и погиб человек. Широкая душа! Такая широкая, что на ней, как на самом широком лугу, брат, может приземлиться любой самолет, самой мощной конструкции. Кто это оспаривает?
Никто не оспаривал.
У Матвея было такое лицо, словно он глядел в бездонную пропасть. Арфенов чувствовал себя на дне ее, на самой ее глубине, где он, наверное, казался Матвею не крупнее муравья. И Арфенов понял, что вздорными были его мысли о том, что он способен заменить Матвея. Величие того заключалось в том, что он способен был в такие важнейшие минуты, как эта, отдаться горю и в то же время думать – как бы получше организовать месть за смерть Рамаданова. Он не глядел на Дворец, но внутренним чутьем он высчитывал минуты: когда же можно ринуться в атаку. «Вполне прилично ведет себя», – подумал Арфенов и стал ждать приказаний. Все красноармейцы почувствовали то же самое.
Матвей оглядел их.
– Пробиться через библиотеку в правое крыло и выбить оттуда фашистов, – сказал он.
– Есть: пробиться через библиотеку в правое крыло и выбить оттуда фашистов, – ответил Арфенов, и все подчиненные Матвея ответили так же.
В то же приблизительно время генерал Горбыч, долго и мужественно размышлявший и советовавшийся, на какой шаг решиться, наконец приказал начальнику штаба: ввести в дело все пехотные и танковые резервы и при поддержке всей авиации бросить их к участку сражения возле СХМ и Проспекта Ильича.