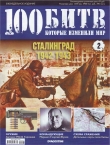Текст книги "Проспект Ильича"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– А вы не огорчайтесь, что опаздывают. Вчера стояли с гранатами и бутылками, ну, сегодня отсыпаются. Придут.
…Часы показывали 7.45.
Стажило сказал Матвею:
– Не сомневайтесь, что Ларион Осипыч к такому запаздыванию отнесся бы спокойно.
– Не думаю, – сказал Матвей. – Будем поднимать?..
Впереди несли гроб Стажило и Горбыч. За ними – Матвей и Коротков. Долго не могли попасть в такт, и гроб то лез вверх, то опускался вниз, пока генерал тихо, в усы, <не> стал командовать шаг: «Раз, два, раз, два. Ну, и пошли».
Липкие капли смолы выступали на свежем сосновом дереве гроба. Когда вынесли из Заводоуправления, последние лучи солнца превратили эти капельки в крошечные кусочки искрящегося золота. Гремел оркестр. Матвей, стараясь отбивать такт ногою, шел возле гроба, и ему хотелось, чтобы гроб был совсем тяжелый… совсем… чтобы придавил. «Ну как же так можно не знать народа? – терзал он сам себя, не спуская глаз с желтых капелек смолы. – Как же так можно обещать? Брать директорство. Заменять кого? Рамаданова?»
Он с трудом оторвался от этих желтых капелек, когда Стажило назвал его имя. Матвей встал возле головы Рамаданова. Глаза его были плотно прикрыты, но Матвей-то знал, что таится за этими глазами.
«Любопытно, молодой человек, – чудился Матвею несколько скрипучий, когда он говорил иронически, голос Рамаданова, – интересно, куда вы направитесь?»
Матвей, глядя в это лицо, говорил, понемногу забывая о непристойно-малом количестве провожающих и о своем обещании секретарю обкома, обещании, похожем на ловушку, в которую он сам же и попался. Ну что ж! Конечно, наврал бесстыдно! Поступил до отвратительности самонадеянно! Ну что ж, будем нести наказание. А сейчас скажем правду: что для нас значил Рамаданов!
– …Да! Он стоял рядом с Лениным и Сталиным. И он всегда будет стоять перед нами, что бы с нами ни случилось! И мы всегда будем помнить, как накопленное сокровище, слова нашего директора, его поступки, нашего любимого Рамаданова. Его убила фашистская пуля. Его поразил фашистский снаряд. Да! Но миллионы пуль мы выпустим в ответ! Миллионы снарядов, сделанных на этом заводе, в этих цехах, мы выпустим в ответ! Сотни и тысячи пушек мы выкатим в ответ! Беспощадно будем мстить мы фашистским захватчикам, пока не изрыгнет их земля и народы, пока…
Он поднял голову.
В распахнутые ворота неслась песня: «Вихри враждебные веют над нами…»
Бесчисленные колонны входили в ворота. Матвей видел цветы, лица рабочих, венки, слезы, блестевшие золотом. Песня, высокая, широкая, ярко-красная, покрывала площадь, могилу, толпу, как скатерть покрывает стол!
Матвей выпрямился. Голос зазвенел у него с силой необычайной и хотя и не покрыл песни, шедшей от ворот, но все же звучал в ней первым голосом:
– Да, он отдал свою жизнь за вашу жизнь, товарищи, и вы понимаете это прекрасно! Так поклянемся же этой жизнью, всегда помнить об его жертве и беспощадно мстить врагам нашей земли и нашей жизни…
Секретарь обкома М. Стажило наклонился к уху генерала и сказал, указывая глазами на приближающиеся колонны:
– Хорошо ответили! Матвей – удачный выбор. Не находите?
Генерал Горбыч не ответил. Глазами, полными слез, он глядел на седого старика, который, подойдя к могиле, наклонился и взял полные горсти земли. Этот старик через два часа уезжал в эшелоне на восток. Он хотел взять с собой родной земли. Земля у нас огромна, и везде она нам родина, но родней родного все же милый наш город и та могила, где лежишь ты, Рамаданов, друг народа!
Глава сорок седьмая
От сырости, заполнявшей подвал, и в особенности от холодного бетона под ногами Полина и Мотя продрогли так необычайно, что, когда они услышали за коридором, в кухне, русские голоса, они посчитали это сном. Мотя опомнилась первой. Охватив Полину за талию, она повела ее к выходу из подвала.
Полине было приятно чувствовать на себе сильную, смелую руку, легонько и ласково подталкивающую вперед. Они миновали кухню, поднялись по лестнице и выбежали в какое-то белое, облицованное кафелем, зало. Дым и запах горящей бумаги поредел. Полина несколько успокоилась и даже стала упрекать себя: «Как же! Не струсила в немецком лагере, а испугалась в пустом подвале?» И тотчас она ответила: «Да, но там я могла говорить, возмущаться и негодовать, а здесь, задыхаясь от дыма и ожидая, что плиты упадут на твою голову?»
Снаряды падали заметно реже. Немногие встречные на Проспекте всем видом своим говорили, что положение наше улучшилось и, может быть, даже немцы отступили. Полина радостно охватила своей рукой Мотину руку и посмотрела в ее наполненные темным и ласковым пламенем глаза. Как хорошо! Весь разговор с Мотей был для Полины не менее важен, чем для Моти, но Полина, приняв решение, должна была долго еще волноваться, говорить, петь, может быть… Мотя напоминала ей родник, закрытый кустами. В жаркий день ты способен пройти мимо него, не заметив его удивительной свежести. Да что ты! Солнечный луч и тот почти не касается его холодной серебристой влаги. Так и живое чувство, едва коснувшись Моти, уже покинуло ее.
Полина, как это часто случается с нами в определении людей, ошиблась, определяя характер Моти. Однако ошибка эта была для нее полезна: мнимая холодность Моти возвышала ее в глазах Полины. Впрочем, приблизительно то же самое думала и Мотя о Полине. Словом, они расстались друзьями – теми друзьями, которые редко встречаются и редко переписываются, хотя до конца жизни уважают и ценят друг друга.
Старики Кавалевы еще не возвращались из бомбоубежища. Мотя помогла Полине собрать жалкий скарб ее. Собирая свои вещи, Полина заметила, что старики тоже куда-то собираются, наверное, в Узбекистан. Значит, туда, возможно, уезжает и Матвей? Полина загрустила. Ей стало жаль расставаться, без прощанья, с Матвеем… но она твердила про себя: «Так лучше, так лучше», – хотя что лучше она и сама себе не отдавала отчета. Все же, повторяя эти слова, она переехала к худощавой и длинной аккомпаниаторше своей, в ее крошечную, как ореховая скорлупа, уютную комнатку.
Сложив на коленях руки, она безмятежно, – как ей думалось, – глядела на аккомпаниаторшу, расставлявшую радостно чайные чашки по столу. Приятно видеть крашеные волосы Софьи Аркадьевны, неизменный черно-бурый мех на шее…
– Софья Аркадьевна, а если немцы?
– Что, Полинька, немцы?
– Если немцы придут?
– Ну и что же?!
– А как же черно-бурый мех?
– Мех продадим в комиссионном и уйдем отсюда пешком. Вам теперь, небось, Полинька, все дороги знакомы?
– Да, знакомы… – И она добавила с легкой грустью: – Те, по которым уходят, Софья Аркадьевна.
«Ну что? – думала она. – Замолк гром. Гроза устала шуметь. Скоро потемнеют небеса, и среди грозных туч приветливо засияет полоса лазури. Так, кажется, сказал поэт. Какой? Неважно. Ибо то, что припасает лето, поедает зима. Так и с чувствами. Грусть поедает все».
Затем она явилась в радиокомитет. Пропуск ее проверил все тот же милиционер, пахнущий луком и сапогами. Только теперь он не осведомился: почему она поет под фамилией Вольская, когда она Смирнова. Слушатели не сидели, ожидая ее, вдоль стен зала студии, и даже диктор не поцеловал ее руку, лишь он – единственный! – спросил ее:
– С фронта вернулись, Полина Андреевна?
– А разве здесь не фронт? – ответила Полина.
Никто ее не расспрашивал. Никто ее не хвалил: ни ее пенье, ни костюм. С трудом выдали ей пропуск в столовую работников искусств – город начинал голодать. Хлеб стал черен, как туча, предвещающая грозу. Детишки хозяйки, у которой аккомпаниаторша сняла комнату, глядели на кошелку, всюду теперь таскаемую Полиной, испуганно-молящими глазами. Полина приносила им пищу. Она скоро привыкла спрашивать на концертах у какого-нибудь директора клуба кусочек хлеба для детишек. О, она знала, что кусочек где-то лежит! И, точно, директор, пошептавшись, приносил ей на тарелке вязкий и тонкий ломоть. С каждым концертом ломти эти укорачивались и утончались, детишки все чаще и чаще проходили мимо ее комнаты. Угол комнаты, где она жила, занимало какое-то тропическое дерево с корнями, вылезшими из кадки, и глянцевитыми толстыми листьями, похожими на жуков. Старшая девочка – ей было лет девять, – то и дело протирала эти листья мокрой тряпкой.
Полина глядела в ее ввалившиеся глаза. Почему они напоминали ей глаза Матвея? Где-то он теперь? Приехал ли в Узбекистан? Смонтировал ли свои станки? Нашел ли помещение для цеха?.. День стихал. Краски его смягчались, кладя на все отпечаток мягкой трогательности и нежности. Девочка трет листья, тихоньким голоском отвечая на вопросы Полины. Внезапно раздается – трех, трах!.. Причем первый звук почему-то кажется осечкой. С Круглой площади, на которую выходит одно окно домика, вылетает громадный огненный сноп. Девочка, прервавшая ответ, не прерывает обтиранье листьев. Тревоги так часты, что люди уже не ходят ни в щели, ни в бомбоубежища, да и к тому же перепадают дожди, и в убежищах сыро и холодно. Что же будет зимой?
Концерты проходили быстро и все днем. Слушали Полину внимательно, преимущественно торжественные, протяжные песни. Слушали и «Песню о хорьке», но бисировать не просили, и Полина поняла, что она уже не обладает тем задором, который раньше так зажигал и веселил людей. Теперь на бой влекли ее трогательные и нежные песни. «Ну, что же, не все ли равно, что петь, лишь бы песня вела на бой?» – думала Полина, знавшая, что искусство дня, каким является песня, более изменчиво, чем самый ветреный человек. Иногда вечером вы идете мимо железнодорожной насыпи. Быстро, постукивая колесами, пробежит мимо вас поезд, промелькнут огни, и через мгновение уже не слышно шума и не заметно огней. Так и искусство, так и аплодисменты. Уже то великолепно, что люди способны сейчас слушать. Ведь они стоят в строю, накануне боя, держа штыки, и глаза их разве не похожи на холодный блеск этих штыков?
Она думала: «Как права Мотя, не признающая таинственной власти искусства!» Мотя целовала ее, там, на краю бетонного колодца, перед самой смертью, и уж, конечно, обе они были совершенно искренни. Целуя, Мотя сказала, что Матвей знал, что Полина Смирнова – есть Полина Вольская. Знал, но тем не менее прельстился не искусством – чем может его прельстить пенье? – а очарован был ее званием – заслуженная артистка республики – и красотой. Тогда, у бетонного колодца, Полина поверила Моте, но сейчас так хотелось верить в очарование именно искусства. «Да, Мотя права, но права только для себя, ей это выгодно, а не выгодно всем остальным людям». И тотчас же Полина спрашивала сама себя: «Хорошо, а Матвей?» И – ответа не было, а если и был, то он никак не нравился Полине.
Полина опять возвращалась к мыслям о Моте, и чем больше она думала о ней, тем больше ее понимала – и уважала! Во-первых, ей стало понятно, что Матвей не знал ее как Полину Вольскую. Мотя налгала. Во-вторых, налгала Мотя из самых благороднейших, чистейших побуждений: не веря в таинственную власть искусства, она верила в таинственную власть звания и красоты, которой, по ее мнению, обладала Полина. И, наконец, в-третьих, Мотя, так любившая домашность, дом, семью, будущего мужа, будущих детей и видящая будущего мужа и отца детей в Матвее, – ради счастья Матвея отказалась от всего! Преодолевая свою трусость, она пошла под пули. Преодолевая свое благонравие и способность к созданию благополучия, она готова была целоваться с разрывающейся бомбой, какой представляется всем Матвей… «Ну разве это не величественно, не прекрасно?» – спрашивала Полина. «Да, прекрасно и величественно, – отвечала она. – И очень хорошо, что Мотя будет счастлива с Матвеем там, в Узбекистане». Об инженере Короткове, упоминаемом Мотей, она не желала и вспоминать: неполучившаяся жертва суть не жертва, да и без того Мотя свершила достаточно жертв.
В местной газете она читала только сводки Информбюро, на остальное не существовало ни желания, ни времени, к тому же, как ей казалось, современные журналисты обладают на редкость суконным языком, способным унизить самые великие подвиги. Почитать только, как они излагали защиту СХМ и Проспекта: «Ожесточенная схватка… оголтелый враг… умелое руководство… организация передачи опыта…» Ей, привыкшей читать фразы, похожие на порталы дворцов, и разбирать метафоры, стройные, как призовые рысаки, бедность словаря журналистов-газетчиков казалась издевательством и над жизнью, и над читателем. Она не понимала, что статьи и стихи газет сейчас исходят из идеи боевого приказа: коротко, ясно, исчерпывающе указать, что делается и что надо делать. Позже историк или писатель разберет эти приказы и опишет их превосходными фразами с великолепными метафорами и сравнениями.
Однажды, – ожидая второго в очереди за обедом, – она прочла весь номер газеты. В хронике она нашла описание какого-то собрания на Н-ском заводе, где с докладом выступил директор завода М. Кавалев: «Так, стало быть, Матвей уже директор? – спрашивала она себя. – Быстро! Ведь прошло едва ли три месяца с того дня, когда он, будучи только стажером на мастера, встретился со мной. – Она нарочно, дабы не придавать своим мыслям большого значения, путала даты. – Прекрасно! Теперь вы, Матвей Потапович, уже можете ленивой рысцой бежать к орденам и депутатству…»
Она взяла тарелку с картофельной котлетой, посыпанной чем-то желтым, и отошла к столику. Диктор уступил ей место. Она позабыла поблагодарить его. Она старалась думать о Моте, а в то же время представляла Матвея, когда он, – по ту сторону фронта, – в холщовых крестьянских штанах, запачканных дегтем, с веткой в руке, похлестывая ею по голенищу, шел по узкой дорожке между двух высоких стен пшеницы. Колосья задевают о его лицо. За ноги цепляются поздние и тощие ромашки. Какие-то бойкие птички, крича, вспархивают из пшеницы…
«Что Мотя! Она найдет себя. Она, наверное, счастлива с Коротковым, у обоих такие короткие мысли и такая подходящая обоим фамилия, – подумала она вдруг со злостью, и сама застыдилась этой злости. Но тотчас же, отбрасывая этот стыд, она сказала: – Но ведь в газете не написано, что директор М. Кавалев холост и в таком виде выступал на собрании? К этому „оживление газетных страниц“ еще не подошло. Значит, Мотя в городе, на СХМ, и – жена Матвея! А наговорила она высоких вещей и нацеловала ее, Полину, лишь для того, чтобы спровадить, чтобы не мешала… Вот, мол, взял ты, муженек, девчонку с улицы, а она и ушла на улицу!»
– Вот вам и вся мораль и все пороки! – сказала она вслух.
Она остановилась.
Городской сад, спускавшийся к реке, лежал перед нею за решеткой. Многие деревья были порублены и употреблены на баррикады, но и по оставшимся можно было понять, что осень тронулась. Побуревшие, – в охре, – листья дубов звенели в осеннем напеве. По небу, не обращая внимания на взрывы, извечной дорогой летели на юг птицы. Облака блещут над ними, кидаемые осенними, резкими порывами ветра. Ввысь взлетает птица. Крот ползет в нору. А куда ты, человек, направляешься? Где же ты зимуешь? Где твое тепло?
«В сердце! – ответила Полина. – В сердце, которое любит и не стыдится этой любви. Вот куда спасается человек от зимы, холодов и вьюг!»
«Следовательно, вы любите, Полина Андреевна?»
«Да. Люблю».
«Кого же вы любите?»
«Ах, вам хочется знать? Извольте! Я скажу и не постыжусь теперь сказать об этом всякому, кто спросит. И даже если и не спросит! Я люблю Матвея. Вот вам вся мораль и все пороки!»
Глава сорок восьмая
Она поспешно вбегала в тесные сени. Старшая девочка открыла ей дверь. Глаза девочки были еще более молящие, чем когда-либо. Полина поспешно отдала ей весь хлеб, который принесла. Девочка сначала засияла, а затем опечалилась. Ей не хотелось возвращать хлеба, но все же совесть не позволяла ей лгать. Она сказала:
– А сегодня в будке, тетенька Полина, вывешено, что хлеба не будет.
– В какой будке?
– А в хлебной. – И с трудом пересиливая себя, она пояснила: – Немцы-то ведь уж три недели наш город отрезали. Хлеб и кончился.
– Да, да, я знаю, что отрезали! Но хлеб бери, бери, мне еще принесут.
Девочка опять обрадовалась. Она понимающе кивнула головой:
– Генерал?
– Какой генерал?
– А который вас в комнате ждет.
В комнатке ждал ее генерал Горбыч.
Увидев ее, он тяжело поднялся с жесткого дивана, опираясь о его валики обеими руками, вялыми, бледными. «Боже мой, как он постарел!» – подумала Полина, и у нее пропала охота, – появившаяся, когда она узнала, что генерал здесь, – посоветоваться с ним о своей любви. «До любовных ли ему теперь излияний?» – подумала она с горечью и, подбежав к нему, она положила ему руки на плечи:
– Миколa Ильич, если б вы знали, как я счастлива вас видеть!
– Чего?
– И странно, что раньше я не собралась к вам пойти, Микола Ильич! Все было б по-другому.
– Да что такое – все? Разве вы способны охватить всю человеческую жизнь?
Горбыч явно был смущен. Он взял фуражку и положил ее со стуком обратно на стул и стал так багров, что, казалось, багровость его проступала сквозь рубашку. Чтобы ободрить его, Полина сказала:
– А вас, Микола Ильич, осень красит.
– Да, говорят, мертвецов некоторых тоже перед похоронами красят, – ответил он угрюмо. Затем он шумно высморкался и, не отнимая платка от носа, спросил, глядя на нее с высоты своего высокого роста: – Чего ж вы не ругаетесь? Вы не обращайте внимания, что я себя мертвецом называю. Я всегда так, когда у меня внутри серп ходит.
– Какой серп?
– Тот самый: зазубренный кривой нож для жатвы. Только я им мысли жну… Ну, ругайтесь!
– Почему мне вас ругать, Микола Ильич?
– Матвей вам разве не передавал?
– Ничего! – И она поспешно добавила: – Мы с ним давно уже не встречались. Я видела его мельком перед первым штурмом завода…
– Давно!
– И что же?!
– Жаль, что он не сказал. Мне самому… гораздо неприятнее. Словом, был случай. Я вас бранил. И сильно!
– Мало ли кого мы не браним. И сильно! Ведь война.
– Брань брани разница, как сон сну. Бранил же я вас, Полина Андреевна, совершенно несправедливо и, выходит, подло. Сознаюсь.
Он запыхтел, высморкался:
– Вообще, как я заметил, деремся мы как львы, а ругаемся как… – он замялся и добавил: —…как базарные торговки, мягко выражаясь.
– Да, меня Матвей Потапыч принял за одну такую базарную торговку.
Горбыч умоляюще поглядел ей в глаза:
– Ради дружбы с отцом, не сердитесь вы на меня, старого дурака. И Матвей мне казался мелким, и ваша любовь к нему тоже выдуманной, пустой!
Полина хотела сказать: «Да нет же, не выдумана и не пустая вовсе», но она не могла набрать в себе сил, чтобы сказать это. Она сказала только:
– Как я могу на вас сердиться, Микола Ильич? Вы перегружены работой…
– Все перегружены, – сказал он с неудовольствием. – Нечего ссылаться на перегруженность. Итак, прошлое забыто, да?
– Если плохое, забыто.
– Хорошее кто забудет!
Он сразу развеселился, стал перебирать книги, уже натасканные аккомпаниаторшей, – и не одобрил их.
– А почему по философии нет?
– Мне не нравится философия. Она усложняет мир, и без того сложный.
– Поете?
– Много. Да я ведь вообще певица, Микола Ильич! Я оттого и с завода ушла. Я почувствовала, что не могу не петь. Я обязана петь!
– Все мы певцы, каждый по-своему, – сказал Горбыч. – Но раз вы певец преимущественно, то, разумеется, вы мне скажете, что самое главное у певца?
– Голос, – смеясь, сказала Полина.
– Самое важное – вовремя прекратить пение.
Полина подняла на него большие голубые глаза.
– Вы хотите сказать, что я должна уехать?
– Я – от Стажило. Вы его знаете, Михал Михалыча. Стеснительная личность. Сам-то, говорит, я стесняюсь, она из-за моего разговора уже однажды убежала на СХМ, бог ее знает, куда она теперь убежит.
– Ехать?
Горбыч вздохнул:
– Положение, поймите, тогда было такое. Полковник фон Паупель превысил допустимую теорией плотность танковой атаки. Вы понимаете?
Полина хотела сказать: «Я сама-то себя не понимаю, а тут еще вас понимай», но сказала другое:
– Конечно.
Генерал, оживляясь, говорил быстро. Приоткрылась дверь. Вошла девочка с длинной мокрой тряпкой, которая почти волочилась по полу. Не отрывая глаз от высокого, усатого генерала, она прошла к цветку и стала его обтирать. Девочка эта напомнила генералу известное описание Толстого совещания в Филях. Генерал разгладил усы, и ему захотелось объяснить Полине свой новый замысел, в то же время не вводя ее в сущность этого замысла. Положение затруднительное, – и генерал стал многословен:
– Превышение плотности затруднило движение танков. Это все равно, как если б в коробку спичек, вмещающую пятьдесят штук, вы попытались впихнуть двести. Ясно, коробка распадается. Танки от превышенной плотности движения несли чудовищные потери. Наш заградительный огонь был великолепен, голубушка! Слава тому человеку, который придумал первый огонь. Огонь осветил темную пещеру его жизни – и освещает далеко вперед наше будущее.
Дальше он заговорил спокойнее:
– Огонь с танка – это суть огонь с машины, находящейся в движении, огонь по плохо наблюдаемой цели на плохо известной местности. Кто ведет танк? Страх, если против танка стоит…
– Дедловка, – сказала Полина, с трудом отрываясь от своих мыслей.
– Ах, да! Зачем я вам все рассказываю, когда вы сами бросали гранаты в танки.
– Да не бросала я гранат! Я просто, как мокрая курица, почувствовав себя певицей, сидела и кудахтала в подвале.
Она подошла вплотную к генералу:
– Микола Ильич! У вас есть поручение, подобное тому?..
Генерал замахал руками:
– Нет, нет… Что вы! Куда там! У меня после той вашей поездки целый месяц сердце болело. Какое затемнение нашло тогда на меня?..
– Но поездка моя помогла победе?
– Не получилось победы! – крикнул генерал так громко, что девочка выбежала из комнаты. – Мне, старому дураку, надо было осуществить параллельное преследование, то есть, стремясь выйти в голову отходящих колонн, окружить их и уничтожить дотла.
– Почему же вы этого не сделали?
– А почему вы думаете, что я этого не сделал?
– Позвольте, но вы же сами сказали!
– Я сказал: «Мне надо было осуществить», а это еще не значит, что я не осуществлю этого.
Он рассмеялся. Полина оглядела его. Вот тут, смеясь, он, действительно, молодой. Он стоял высокий, выпятив грудь и расправив усы, – старый, внушающий ужас немцам, солдат! Да, понятно. Вид его мог действовать на воображение противника! Наверное, с уст в уста немецких солдат идет молва об этом желтоволосом льве. Волосы его чуть отливают по краям желтизной, а молва, несомненно, окрасит их в желтый, ужасающий цвет льва!..
Он продолжал, смеясь:
– Когда я узнаю, что Гитлер дал полковнику фон Паупелю чин генерала, мне будет ясно: мои войска вышли в голову отходящих колонн.
– Но при чем тут производство в генералы?
– Перед тем как уничтожить плохого, провалившегося, но знаменитого полковника, лучше всего его превратить в генерала. А у генерала легче снять голову. Кто жалеет генералов? По-моему, так думает диктатор.
Горбыч сел рядом с Полиной, взял ее руки в свои и сказал:
– А вам я предложу транспортный самолет. Не знаю, прорвемся ли мы на соединение или наши прорвутся к городу, но самолет доставит вас благополучно.
– Самолеты ходят, но я не смогу ходить благополучно.
– Отчего?
Полина хотела сказать: «Да оттого, что мне хочется видеть, как наши войска выйдут в голову отходящих немецких колонн!», но, подумав, что генералу это будет и не любопытно, и не лестно, – потому что меньше всего он хотел беседовать с нею о своем замысле, – Полина сказала:
– Да оттого, что я люблю и любовь моя живет в этом городе! И, если сказать по совести, Микола Ильич, то мне ужасно хочется выйти за него замуж.
– За кого?
Она кинулась ему на шею и сказала тихо на ухо:
– За того, любовь к кому вы называли выдуманной, пустой!