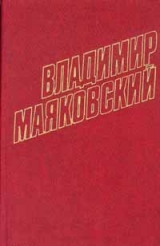
Текст книги "Том 12. Статьи, заметки, стенограммы выступлений"
Автор книги: Владимир Маяковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Совершенно другой вопрос о культуре – это есть вопрос литературных скачек: сегодня Леонов остался в хвосте у Ба<беля> * , а завтра Ба<бель> остался в хвосте у Леонова. Разве за это время мы не должны были отучиться от авторского самолюбия? Это одно из главных достижений, которым могут все авторы за это время гордиться.
Дальше, товарищи, речь шла об этом формализме. Ну разве когда-нибудь кто-нибудь из лефовцев утверждал, что мы плюем на содержание и что вопрос словесных выкрутас для нас является вопросом развития литературы? Всегда, как т. Луначарский констатирует, содержание прет из всех так называемых футуристических работ. Почему это происходит? Мы стыдливо не уходим за спину этого самого содержания и не начинаем бить формальным. Мы утверждаем, что содержание носится в воздухе, что оно есть, что сотни тысяч тем, положений, задуманных романов, грандиозных живописных композиций имеются в каждой голове, тем более в голове молодого, двадцатишестилетнего юноши, прошедшего всю Советскую Россию вдоль и поперек и перенесшего на своих плечах войну * , и т. д. Вопрос заключается в том, чтобы развязать косноязычие, чтобы высказать этот самый интересный материал автору. И вот в чем наша помощь в литературной работе. Вот в чем наша помощь. И так называемый формализм на самом деле это есть производственная теория, это есть помощь в работе каждому, кто имеет колоссальное содержание. Конечно, каждый лефист отрицает всякое слововерчение, всякую формалистику ради формалистики. И только во имя этого не с сегодняшнего дня Леф расстался с супрематистами * , кубистами * и т. д.
Я убежден, что моя сегодняшняя речь встретится всем в сотнях стихов, в сотнях романов, в сотнях новых постановок на любой театральной сцене.
На диспуте «Больные вопросы советской печати», 14 декабря 1925 *
Товарищи, здесь многие говорят о том, что наша пресса скучна. Такое же отношение было отчасти и у меня. А ценишь весь интерес нашей прессы только по возвращении из-за границы * , после того как начитаешься в Америке про змеиные яйца в Москве * , размазывание драгоценностей Вандербильта * или о злонамеренности двенадцати китайцев, желающих нагадить двум американцам, и т. д. Приехавши в Себеж * и прочитавши русскую газету, я очутился в положении Садко на дне моря, который восторженно говорит: «Если бы я поднялся на землю и встретил пса, я бы целовал его и в морду, и в очи, и в темя». Это положение нужно принять во внимание, когда обрушиваешься на нашу прессу. Вопрос не в том, чтобы поплевать на нашу прессу, а – указать, как ее улучшить.
Для меня вся скука нашей прессы заключается в том, что она не учитывает всей сложности интересов читательской массы, что она знает только один интерес – политический, с которым она справляется чрезвычайно хорошо, на 100%. Я не говорю, что нужно выгрузить политику и давать легкие фельетончики адюльтерного характера, но нужно пользоваться библиографическим материалом, театральным, литературными фельетонами, нужно преподносить не только заглавия и лозунги, а выводы для читателя. Вопрос о наших газетах – это на 60% вопрос о писательской неспособности и на 40% неспособности редакторской. Кроме того, редактор на 90% не организует вокруг себя ничего, кроме постоянных штатов. Это – колоссальный недостаток.
Левидов * говорит: «Я буду острить, но кто напечатает?» Есть много острот, которых не следует печатать. Важно знать, почему не печатают, – по соображениям цензурного характера или по бытовым соображениям. Если по бытовым – это отвратительно. Сегодня появилось в «Вечерке» мое стихотворение «Мелкая философия на глубоких местах» * . Редактор спросил: «Можно ли не включать слова: «А у Стеклова вода не сходила с пера»? Если бы я тогда, когда писал, знал, что Стеклов не является уже редактором «Известий» * , я бы вычеркнул эти слова сам, они были для меня ценны в работе. Я не протестовал, черкайте, потому что каждый включит свою фамилию на место вычеркнутого Стеклова, если захочет. Каждый может поставить себя: «а у Луначарского вода не сходила с пера», «а у Радека вода не сходила с пера» и т. п. Это одно и то же. И если я не протестовал, то только из-за затаенного желания досадить сразу тридцати человекам, а не только одному.
Вопрос о сатирических журналах имеет большое значение для нас. А между тем у нас существует трехэтажная система редакции. На обложке значится один редактор, в редакции сидит другой, а разговаривает с вами, когда вы приходите, третий.
Много говорят о создании новых кадров работников. Но стоит прийти в редакцию свежему человеку и предложить свои услуги, как ему неизменно отвечают: «У нас есть Маяковский, он напишет, когда надо будет». Я лично ни разу не был допущен к Стеклову. И напечататься мне удалось только случайно, во время его отъезда, благодаря Литовскому * . И только после того, как Ленин отметил меня * , только тогда «Известия» стали меня печатать.
Газета производит впечатление, как будто она составлена для специалистов политиков. Я не раз брался за газету, хотел ознакомиться с речами на губпартконференции, но прочесть никак их не мог. Мне хотелось знать хоть суть речей, но найти эту суть было невозможно – для этого надо было прочесть всю речь. А между тем стоило только выделить жирным шрифтом хотя бы десять строк, в которых был бы изложен весь смысл речи, тогда моя работа чрезвычайно облегчилась бы. Зная лозунг сегодняшнего дня и тему основного положения, я со спокойной совестью отложил бы газету до вечера или до праздничного дня, когда бывает три-четыре часа свободных, чтобы эту газету прочесть.
Примите еще во внимание, что эти речи мелким шрифтом напечатаны на шести – восьми полосах. А между тем мы знаем, что даже в моменты самой напряженнейшей борьбы на фронтах все-таки остается до 20% читателей, у которых есть и другие интересы. Вот эти интересы нашей газетой не обслуживаются. Только при обслуживании этих интересов мы сможем довести количество наших подписчиков до миллиона и выше.
Здесь Грамен говорил о большом интересе к шахматному турниру * у людей, ни бельмеса не понимающих в шахматах. Это объясняется тем, что их отвлекало от вопросов, имеющих отношение к политической борьбе. У кого-то, значит, было желание, чтобы Боголюбов * набил морду Капабланке * . Я не скрою, что за этим скрывается некоторая доля советского патриотизма. И вот задача журналиста заключается в том, чтобы преподнести советский патриотизм под таким совершенно, казалось бы, для этого не приспособленным материалом.
Разрешите сказать два слова о своем поэтическом ремесле. У меня большой зуд на писание сатирических вещей. Никто этих вещей даже и запрещать не станет. Но у нас сатирических журналов очень мало, да и они загружены материалом, а в газету ни один редактор стихотворения не пустит, потому что считает их вообще ерундой. Исключение составляет только Демьян Бедный. Приложены ли какие-нибудь усилия для того, чтобы создать из стихотворца фельетониста? А ведь мы знаем, что и стихотворный фельетон настолько может выхлестать человека, что за год вперед будет сквозь брюки красное мясо просвечивать.
Газетного фельетониста, прозаического и поэтического, нужно обязательно создать. Только тогда у нас будет материал для сатирических журналов.
На диспуте о советском иллюстрированном журнале 29 марта 1926 *
Я не хотел выступать. Но после речи Левидова не ругаться трудно * . Если бы было пять таких редакторов, как он, российской литературе пришлось бы выселяться из СССР.
Что сказал Левидов? «Есть знаменитые авторы, которые знамениты тем, что их мало читают». Таких авторов нужно искоренить. Останутся фотографии, но тогда и они будут уничтожены… Левидов приравняется к Мосполиграфу и будет линовать свой «Экран» вдоль и поперек на клетки. Вместо знаменитых авторов выдвинулся, по мнению Левидова, миллион неизвестных людей, которых читают. Что ж? Нужно выставить их имена на обложках и считать великими писателями…
Левидов говорил, что требований на стихи в «Экране» нет. Остается одна надежда: может быть, остались потребители стихов «Огонька» и «Красной нивы».
В разговоры о тираже я не верю. Покойное несчастное «Эхо» * , попади оно к Кольцову * и Голомбу * – не пошло, а побежало бы к читателю. Они бы ему ножки приставили! Зощенко разошелся в «Огоньке» в 2 000 000 * экземпляров. Есенин – в 100 000. Зощенко, при некотором мелководье нашей сатирической работы, большой, квалифицированный и самый популярный писатель. Его нужно всячески продвигать в журналы, это делает «Огонек».
Я редко читаю «30 дней». Но вот я прочитал там описание Зоологического сада Веры Инбер * . Это было остроумно и интересно, потому что смотрела и писала писательница Вера Инбер. В американских журналах даже о пожарах пишут талантливые писатели.
Котлета без гарнира или гарнир без котлеты? * Смотря какая котлета и какой гарнир. В плохих советских столовках я не ел котлет из тухлого мяса. А гарнир – вещь безобидная: картофель и морковь.
«Не идут к нам писатели», – жаловался Кольцов. Табунами идут! Да я вам их сколько угодно наведу. Только думаю, что печатать не будут. Никто теперь не интересуется, если писатель уходит: «Ерунда, секретарь за него напишет».
А редакционная халтура? * Посмотрите на юную Коллонтай в «Экране». Что с ней делать? Да только выдать за пятнадцатилетнего Радека из того же «Экрана». Этот-то гарнирчик каков!
В «Экране» вижу фотографию знаменитого дома-утюга * в Нью-Йорке. А подпись под ним: «Самый большой дом в Лос-Анжелосе». Зачем платить лишние деньги за фотографии, когда любую подпись можно поставить под любым домом?
Есть пять-шесть бездарных халтурщиков-литераторов, которые идут по издательской инерции. Вот их-то «деятельность» и нужно прекратить.
О лицах журналов. Их нет. Хочется, чтобы один писатель мог печататься в журнале, а другой – нет. У журналов мало инициативы. Я просил Бурлюка * присылать из Америки фотографии для «Прожектора». До сих пор он не получил никакого ответа.
Во многих редакциях мы не знаем редакторов. Бухарин и Воронский – это единственные люди, которых нельзя никогда застать в «Прожекторе» * , всех же остальных можно. Луначарский и Степанов – редкие гости в «Красной ниве» * .
Я заявляю, что разговоры о необходимости искоренения литературы – сплошное недомыслие. Редактор должен быть организатором, а не механическим собирателем материала.
Писателям советую купить фотографические аппараты и научить ими снимать, пообещав в подарок и пишущие машины. Вот уехал Пильняк * в Японию, и мы знаем о нем только то, что его теснит полиция, да есть в наших редакциях еще расписки на авансы.
На торжественном заседании общественного комитета по празднованию пятилетнего юбилея Театра имени Вс. Мейерхольда 25 апреля 1926 *
Товарищи! Я с удовольствием приветствую Театр имени Всеволода Мейерхольда и самого Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Тем более легко это сделать, что таковое приветствие – это почти что приветствие самим себе – не самим себе персонально, а всему тому левому фронту искусства, который и плечом, и спереди – животом, и сзади – спиной подпирал этот театр тогда, когда не только не до адресов было, да просто до «доброго утра» далеко было.
Сейчас нам, товарищи, уместно, в особенности нам, работникам этого театра, уместно вспомнить другой «юбилей» пять лет тому назад, который был здесь, на этой самой эстраде, – на этой самой эстраде мы отстаивали право на постановку «Мистерии-буфф» после шестидесяти репетиций * . По каким-то разговорам, так как товарищи были заняты и должны были быть заняты обороной республики на фронтах, а об искусстве знали только понаслышке, и нам пришлось оболганными какими-то критиками защищать «Мистерию-буфф» и пришлось пригласить в этот театр представителей МК, ЦК, Рабкрина, и они слушали «Мистерию-буфф». Я помню, как после этого один товарищ из Московского Совета, сидевший направо в ложе, взял скрипку – он почему-то пришел со скрипкой – и играл Интернационал, а мы пели, стоя на эстраде. Это было в то время, когда не то что как теперь – встают люди и опускаются, а было время такое, что товарищи, которые выступали здесь голыми, не то, что голыми, но и в шубах не выдержали бы тот холод, который был на эстраде. Это было в то время, товарищи.
Я читал сегодня утром с удовольствием статью Анатолия Васильевича Луначарского * , подытоживающего работу Театра имени Мейерхольда, и с удовольствием констатировал в этой статье признание, что те работники искусства, носившие тогда название футуристов, которые в 1917 году первые протянули руку и сказали: «Вот, революция, тебе наша рука», – что они через все злостные выпады непонимающих людей, с поддержкой только той массы, которую начинял этот театр, добились аплодисментов не просто по адресу театра, а по адресу революционного театра – и в области его тенденций и в области формальных исканий этого театра.
Я говорю не для того, чтобы пожалобиться на тему: вот, мол, а пять лет чего смотрели, – а для того, чтоб подчеркнуть, что театр – это искусство громкое, но есть другие искусства, которые стремятся пробиться, будучи революционными по своему существу, и которые до сих пор еще во многих и многих местах встречают такое помахивание лапкой.
Вы все, товарищи, которые сегодня здесь сидите, в Театре имени Мейерхольда, запомните, что этот театр родился и был создан революцией и был создан формально левым фронтом в области искусства – Лефом. ( Аплодисменты.)
Сейчас, говоря об этом юбилее, я очень рекомендую товарищу Мейерхольду, всегдашнему революционеру в области искусства, отнестись к своему юбилею, как к станции временной, к провинциальной бытовой станции, и вести дальше революционную работу в области искусства.
Обычно в конце приветствия преподносят адреса. Я могу преподнести товарищу Мейерхольду только один адрес – мой: Гендриков переулок, 15 * , 5 ( аплодисменты), и по этому адресу он всегда найдет поддержку пьесами и поддержку работой – всю ту поддержку, которую ему оказывал Леф за все время его работы.
Товарищи, не случайно, что искусство футуристическое, искусство левого фронта, которое пять лет тому назад многими было освистано, встречается сегодня аплодисментами. Сейчас я вспоминаю речь т. Дзержинского * на совещании работников печати, когда он сказал, что вопрос экономии – это не только хозяйственный вопрос, а и вопрос политический. К этому я позволю себе прибавить, что вопрос экономии – не только политический вопрос, но и эстетический вопрос также. И то, что дребедень и халтура были скинуты в театре Всеволода Эмильевича, – это, конечно, тот же самый акт, который приводит к режиму экономии в области хозяйственной и политической.
Заканчивая свою речь, призываю товарища Мейерхольда идти дальше по пути революционного искусства и заканчиваю лозунгом: да здравствует Леф – левый фронт искусства, в рядах которого товарищ Мейерхольд по эстетической линии является прекрасным руководителем и прекрасным работником театрального дела. И да здравствуют революция и революционный зритель, который за пять лет дал нам возможность от свистков довести до юбилея.
Выступление по докладу А. В. Луначарского «Театральная политика советской власти», 2 октября 1926 *
Товарищи, здесь два вопроса: прежде всего академический доклад т. Луначарского о политике Наркомпроса в области театрального искусства, а второй – это специальный вопрос о пьесе Булгакова «Белая гвардия» * , поставленной Художественным театром.
Сначала по первому вопросу. Тов. Луначарский выступил крайне оптимистически, беря, во-первых, театры правые, которые сохранили хвосты старого, почти что новые средние театры, и театры левые, которые кое-чему выучились, – новые веяния, новый стиль находить, и кое-какие революционные красоты чувствуют за последнее время эти театры. Этим т. Луначарский и ограничился, говоря о нашей театральной работе и сфере влияния театрального искусства на массы.
Во-вторых, товарищи, эти самые театрики, мне кажется, академические вместе с Таировым * и даже отчасти с Мейерхольдом – это очень маленькая часть наших возможностей театрального воздействия. Все-таки самое главное театральное воздействие по какой линии идет? По живогазетской линии * , по линии эстрадных выступлений в пивных, где выступают театральные работники. И не брать всего этого вне Садового кольца * – огромного количества пивных и эстрад – не приходится. Обращено ли какое-нибудь внимание на это важнейшее для масс искусство? Никакого. Третьего дня я выступал по вопросу о хулиганстве * и слушал т. Семашко * . И все мы были неприятно удивлены давно знакомой картиной, которую он приводил: закрывают клубы, потому что клубная работа ведется так, что на нее приходится вешать замок. Почему? Потому что весь упор ведется по старой привычке хождения в театр, на эту маленькую театральную работишку, в то время как это влияние оказывается чрезвычайно малым. Также не надо переоценивать влияния «Белой гвардии», оказываемого на массы. Говорят, например, о влиянии хулиганских стихов Есенина. Я по существу со статьей т. Сосновского * согласен на 100%, но я думаю, что сама статья т. Сосновского окажет большее влияние на распространение хулиганских стихов Есенина, чем все книжки, вместе взятые. ( Аплодисменты.) Выступая на вечере рабкоров в Доме печати, я говорил, что два раза повторяемое слово «мать» в стихах Есенина – это только какой-нибудь процент в общем количестве «матерей», которое мы ежедневно слышим.
Весь недостаток, с моей точки зрения, в политике Наркомпроса в области театрального искусства – это упор на определенное количество театров и, по привычке, концентрация на них всего своего внимания. Прежде всего, мне кажется, что и по существу, по роли, которую играет театральное искусство вообще в нашей жизни, нельзя театру отдавать исключительную роль. Предыдущий товарищ говорил об этом, и сам Луначарский говорил, что перед этим влияние было главным образом не самого театра, не пьес, а революционные романы влияли больше, чем театр. У нас ведется устремление из всех искусств максимально на театр, на него устремлен самый пристальный взгляд. Почему? По шаблону. Существует организация, при организации дом, при доме пятнадцать артистов и декорации и при всем этом смета, которую нужно удовлетворить. Работа ведется по заведенному шаблону, по определенной старой, древней привычке.
К сожалению, дальше я не могу остановиться на вопросе общей театральной политики Наркомпроса, мне хочется перейти к вопросу о «Белой гвардии». Здесь нужно сказать, что я целиком стою на точке зрения Анатолия Васильевича. ( Голос с места: « Поздравляю».) Не поздравляйте, – хвостик я ваш приделаю, и вы будете удовлетворены. ( Голос с места: « Маяковский занялся компромиссами».) Сейчас вы увидите, какое оформление получится. Тов. Луначарский с ужасом приводит такой факт, что были 45 человек из районов и сказали, что пьеса не годится. Было бы ужасно, если бы два района сказали, что она хороша, – это было бы ужасно. А если 95 районов скажут, что дрянь, так это же то, что нужно в этом отношении. В чем не прав совершенно, на 100% был бы Анатолий Васильевич? Если бы думал, что эта самая «Белая гвардия» является случайностью в репертуаре Художественного театра. Я думаю, что это правильное логическое завершение: начали с тетей Маней и дядей Ваней и закончили «Белой гвардией». ( Смех.) Для меня во сто раз приятнее, что это нарвало и прорвалось, чем если бы это затушевывалось под флагом аполитичного искусства. Возьмите пресловутую книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», эту знаменитую гурманскую книгу * , – это та же самая «Белая гвардия» – и там вы увидите такие песнопения по адресу купечества в самом предисловии: «К сожалению, стесненный рамками * , я не могу отблагодарить всех, кто помогал строить наш Художественный театр». Это он по адресу разных Морозовых и Рябушинских * пишет. И в этом отношении «Белая гвардия» подпись на карточке внесла, явилась только завершающей на пути развития Художественного театра от аполитичности к «Белой гвардии». Но вот что, Анатолий Васильевич, в этом отношении неправильно. Анатолий Васильевич приводил чеховский афоризм о том, что если зайца бить, то заяц может выучиться зажигать спички. Анатолий Васильевич думает, что если с ласковым словом подойти, то что-нибудь выйдет. А я думаю, что ни при тех, ни при других условиях спички зажигать не выучится и останется тем же зайцем, каким был и есть.
В отношении политики запрещения я считаю, что она абсолютно вредна. Если бы нам принесли эту пьесу и сказали: «Разрешите нам» – это было бы связано с какой-то работой, с деятельностью – «разрешать». Это дело другое. Но запретить пьесу, которая есть, которая только концентрирует и выводит на свежую водицу определенные настроения, какие есть, – такую пьесу запрещать не приходится. А если там вывели двух комсомольцев * , то давайте я вам поставлю срыв этой пьесы, – меня не выведут. Двести человек будут свистеть, а сорвем, и скандала, и милиции, и протоколов не побоимся. ( Аплодисменты.) Товарищ, который говорил здесь: «Коммунистов выводят. Что это такое?!» Это правильно, что нас выводят. Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть – и пискнул. А дальше мы не дадим. ( Голос с места: « Запретить?») Нет, не запретить. Чего вы добьетесь запрещением? Что эта литература будет разноситься по углам и читаться с таким удовольствием, как я двести раз читал в переписанном виде стихотворения Есенина. ( Голос с места: « Это для любителя».) Это для человека, который интересуется. Если на всех составлять протоколы, на тех, кто свистит, то введите протоколы и на тех, кто аплодирует. Бояться протоколов с той и с другой стороны не приходится. Тов. Орлинский * говорил одну вещь, что у нас нет двух публик. У нас есть две, четыре, пять публик – вот что плохо. И плохо не это, а что весь расчет наших органов искусства концентрируется на удовлетворении части публики, к революционной массе отношения имеющей мало. По литературе, например, – беру литературный фронт. Взять каллиниковские «Мощи», третье издание на удовлетворение всех интересов, всех милых порнографических навыков публики. Сквозь эту толщу не пробьешься, потому что революционные писатели идут плохо, потому что новое искусство нужно продвигать, потому что рассчитанное на оплату публики в десять раз хуже, чем «Мощи» Каллиникова * . Вот эта безобразная политика пускания всей нашей работы по руслу свободной торговли: то, что может быть приобретено, приобретается, это хорошо, а все остальное плохо, – это чрезвычайно вредит и театральной, и литературной, и всякой другой политике. И это значительно вреднее для нас, чем вылезшая, нарвавшая «Белая гвардия».
Эти нарывающие настроения есть и среди пролетарских писателей. Я не могу припомнить, в какой статье, но у т. Луначарского есть выражение: «Поменьше политики, не единой политикой будет жив человек». Теоретически это совершенно правильно, а практически, когда 97% отходят в области искусства от политической работы, что мы видим в пролетарской литературе? Отход от революционных тем Жарова, Уткина и других. Мы бы хотели от т. Луначарского по отношению к тем писателям, которые бьются против метафизики и против аполитичности искусства за лозунги и плакаты, за революционное, за лефовское искусство, слышать: «Да здравствует ваша политическая работа, и побольше вашей политической работы, и к чорту аполитичность!» Вот что мы хотели бы слышать. ( Аплодисменты.)








