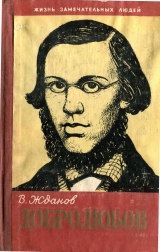
Текст книги "Добролюбов"
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
X. ДРУЖБА С ЧЕРНЫШЕВСКИМ
 писанными событиями было ознаменовано начало последнего учебного года, который явился важным этапом в духовном развитии Добролюбова. Это был год усердных академических занятий; студентам предстояли трудные выпускные экзамены, во время которых Давыдов имел возможность – по примеру прошлых лет – отомстить тем, кто был ему неугоден. В течение этого года Добролюбов был поглощен также большой литературной работой для «Современника», с которым он сближался все больше и больше. Тесная дружба уже в это время связала его с одним из руководителей журнала – Николаем Гавриловичем Чернышевским.
писанными событиями было ознаменовано начало последнего учебного года, который явился важным этапом в духовном развитии Добролюбова. Это был год усердных академических занятий; студентам предстояли трудные выпускные экзамены, во время которых Давыдов имел возможность – по примеру прошлых лет – отомстить тем, кто был ему неугоден. В течение этого года Добролюбов был поглощен также большой литературной работой для «Современника», с которым он сближался все больше и больше. Тесная дружба уже в это время связала его с одним из руководителей журнала – Николаем Гавриловичем Чернышевским.
«Великие вопросы» продолжали с прежней силой волновать Добролюбова. Он еще чаще, чем прежде, задумывался над судьбой своей страны, над участью ее обездоленного народа. Общественное возбуждение, начавшееся во второй половине 50-х годов, захватило целиком его страстную, жаждущую большого дела натуру. Слухи о крестьянских волнениях, разговоры о предстоящей отмене крепостного права создавали напряженную атмосферу ожидания серьезных перемен в русской жизни. Записи в дневнике, относящиеся к зиме 1857 года, говорят о том, с каким обостренным вниманием следил Добролюбов за развитием «крестьянского вопроса», как близко он принимал к сердцу все, что относилось к положению народа.
Основными чертами нравственного облика Добролюбова были непоколебимое чувство долга, верность тому делу, которое он считал для себя главным и единственным. Сохранившиеся сведения о некоторых эпизодах его студенческой жизни рисуют перед нами образ человека высокой принципиальности, честности, твердости. А. Радонежский вспоминает такой случай: однажды вечером, после ужина, студенты, жившие вместе с Добролюбовым, сидели в своей камере, собираясь скоро ложиться спать. Сам Добролюбов, сдвинув на лоб очки, читал книгу. В это время вернулся из гостей один студент, считавший себя аристократом (он происходил из помещичьей семьи), и начал рассказывать новости: будто бы носятся слухи об освобождении крестьян. Студент говорил об этом с оттенком неудовольствия. Добролюбов, продолжая читать, стал прислушиваться к его речи, но пока еще довольно спокойно. Когда же студент заявил, что, по его мнению, подобная реформа преждевременна для России и что его личные интересы как помещика от этого пострадают, – тут Добролюбов не выдержал. По словам Радонежского, он «побледнел, вскочил с своего места и неистовым голосом; какого я никогда не слыхал от него, умевшего владеть собой, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Вон, бездельник! Вон, бесчестие нашей камеры!» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю».
Был и еще случай, когда Добролюбов поссорился со студентами по такому же поводу. В конце 1856 года появился правительственный указ, в котором говорилось что-то о крепостных. Не разобравшись, в чём дело, и решив, что это указ о вольности, толпы извозчиков, дворников, мастеровых бросились в сенатскую книжную лавку, где продавался указ.
Произошла давка, шум, смятение, рассказывает в дневнике Добролюбов. А вечером студенты обсуждали этот случай, и один из них, по имени Николай Авенариус, думая сострить, самодовольно заметил, что для студентов Педагогического института эта новость не может быть интересной, потому что у них нет крестьян… «Я, – продолжает Добролюбов, – Видя, что дело, святое для меня, так пошло трактуется этими господами, горячо заметил Авенариусу неприличие его выходки… Я сказал, что его острота обидна для всех, имеющих несчастие считать его своим товарищем, и что между нами много есть людей, которым интересы русского народа гораздо ближе к сердцу, нежели какой-нибудь чухонской свинье… Выговоривши это слово, я уже почувствовал, что сделал глупость…но начало было сделано…»
Таким решительным, таким беспощадным в своей непримиримости был 20-летний Добролюбов, отличавшийся, по словам Антоновича, «непреклонной энергией и неудержимой страстью убеждений». Естественно, что авторитет его среди студенчества к этому времени вырос в огромной степени. Автор смелых политических стихов, чуть было не поплатившийся за свое свободомыслие, участник всех студенческих историй, наконец начинающий литератор, вхожий в редакцию лучшего и наиболее популярного журнала, – вот кем был в это время Добролюбов в глазах студенческой молодежи. «Каждый из нас, – вспоминает Шемановский, – уже смотрел на него, как на даровитейшего из всех нас, откровенно признавался в его превосходстве, обращался к нему за советам по всякому делу – в то время все студенты действительно любили эту могучую и талантливую натуру, а наш кружок просто-напросто гордился им. Не раз ставили его в параллель профессорам, и это сопоставление наполняло гордостью наши молодые сердца».
Б. Сциборский в своих воспоминаниях добавляет к этому, что у Добролюбова было немало и врагов, «особенно в последнее время институтской жизни, когда направление его ясно обозначилось». Но даже враги по убеждениям относились к нему, как к человеку, который стоял гораздо выше их по своей честности и по уму. Его решительно все уважали, хотя и не все любили. Не любили же за резкость приговоров и откровенность суждений, за ту прямоту, которой не переносит умеренная посредственность. Ведь Добролюбов «не скрывал никогда и ни к кому своей антипатии». Эта черта его характера проявилась с еще большей силой в позднейшие годы.
Добролюбова знали не только его однокурсники. Студент Иван Конопасевич, поступивший в институт годом позднее, рассказывал Чернышевскому, что на его курсе влияние будущего критика на умы молодежи превосходило влияние всех воспитателей и профессоров.
Особый ореол вокруг Добролюбова создавало его общение с «Современником», с Чернышевским и Некрасовым, о чем, конечно, знали студенты. «С жадным любопытством расспрашивали мы его об этих личностях, так занимавших нас и так возбуждавших к себе наши симпатии», – рассказывает тот же Шемановский.
В это время Добролюбов действительно уже мог многое рассказать своим товарищам о таком замечательном человеке, как Чернышевский. Один из его рассказов сохранился в виде большого письма к Николаю Турчанинову, уехавшему домой на каникулы. Здесь Добролюбов откровенно и подробно рассказал о своей глубокой привязанности к Чернышевскому, о своем преклонении перед ним.
Добролюбов начал часто бывать у своего нового друга, засиживаясь до глубокой ночи, иногда даже оставаясь у него ночевать. Уже 1 августа он писал Турчанинову в Саратов: «С Николаем Гавриловичем сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его. Я готов был бы исписать несколько листов похвалами ему… Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал, что если бы я с него начал, то уже в письме ничему, кроме него, не нашлось бы места. Знаешь ли, этот один человек может примирить с человечеством людей самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума, строго последовательного, проникнутого любовью к истине, – я не только не находил, но не предполагал найти. Я до сих пор не могу различать время, когда сижу у него…»
Быстро поняв друг друга, убедившись в полном единстве взглядов и мнений, они вели долгие беседы, откровенно обсуждая те самые «великие вопросы», которые стояли в центре внимания всех передовых людей той эпохи. «Я бы тебе передал, конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно». Если бы и не дошли до нас эти слова Добролюбова, все равно мы бы не сомневались: они говорили о крепостном праве, о тяжелом положении народа, о произволе властей, о возможности революции в России.
Эти разговоры имели большое воспитательное значение для Добролюбова. Правда, основы его революционно-демократического мировоззрения сложились еще до личного знакомства с Чернышевским, который уже при первой встрече был поражен зрелостью и самостоятельностью суждений молодого студента. Однако Чернышевскому, несомненно, пришлось сыграть немалую роль в его развитии. Добролюбов учился у него, когда читал диссертацию об эстетике и «Очерки гоголевского периода»; он продолжал учиться у него и теперь, когда в личном общении пополнял свои философические и экономические познания, а главное, углублял свое понимание жизни, укреплялся в своем революционном отношении к ней. Перед ним был живой пример человека, сознательно посвятившего себя большому общественному делу, преданного народу, проникнутого высоким пониманием идеи патриотизма. В России того времени Добролюбов не мог бы выбрать для себя лучшего учителя и воспитателя. Ведь именно Чернышевский олицетворял собой наиболее высокий уровень общественно-политического сознания эпохи, в нем нашли самое полное воплощение лучшие черты нового поколения передовой демократической интеллигенции, к которому принадлежал и Добролюбов.
Сам Чернышевский впоследствии настойчиво отрицал свое влияние на Добролюбова. В этом была и скромность – характернейшая черта великих шестидесятников – и напрасное опасение набросить хотя бы маленькую тень на человека, перед достоинствами которого он беспредельно преклонялся, и справедливое признание того факта, что Добролюбов в основном сформировался и установился самостоятельно. Но не подлежит сомнению, что Чернышевский очень много значил для всех, кто с ним соприкасался, не исключая и такого выдающегося человека, каким был Добролюбов. Интересное свидетельство об этом оставил Шемановский; он писал, обращаясь к Чернышевскому: «На Добролюбова может быть прямого влияния вы не имели, да на него такое влияние едва ли кто производил: он развивался вполне самобытно; но косвенное влияние, так сказать, пробуждающее, имели многие, как Белинский, Герцен, Некрасов, Тургенев и вы». Это утверждение будет гораздо точнее, если мы перенесем имя Чернышевского на одно из первых мест.
В упоминавшемся письме Добролюбова к Турчанинову есть такое знаменательное признание: «С Николаем Гавриловичем толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский – Некрасова, Гранозский – Забелина и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь; но в моем смысле вся честь сравнения относится к Николаю Гавриловичу…»
В общении с Чернышевским, в беседах, происходивших летом 1856 года, Добролюбов приобретал ту духовную закалку, ту зрелость мысли, которая; так поразительна в этом молодом человеке. Эта ранняя зрелость, несомненно, была не только результатом гениальной одаренности, но и следствием плодотворной учебы у Чернышевского и у других идейных вождей передового русского общества – Белинского, Герцена, Некрасова.
Наблюдая за идейным развитием Добролюбова в этот период, мы можем обнаружить прямые следы воздействия Чернышевского. Оно заметно и в литературно-критических работах Добролюбова и в его отношении ко многим важным вопросам, общественно-политической борьбы того времени. Признание правоты Чернышевского как идеолога крестьянской революции – таков был один из ярких признаков наступившей идейной зрелости молодого критика. Она сказалась также в глубоком осознании им своей духовной независимости, в том чувстве удовлетворения, какое он испытывал при мысли о полном освобождении от власти религиозных авторитетов, от веры в «незримого покровителя». Это чувство он выразил в стихах, написанных осенью 1856 года, видимо в связи со второй годовщиной со дня смерти отца:
Свидетельством идейной зрелости Добролюбова явилось также окончательное и принципиальное расхождение его со Щегловым. На первый взгляд можно подумать, что этот эпизод не имел большого значения в жизни Добролюбова; однако он показателен в том отношении, что в нём отразился процесс осознания критиком своих политических стремлений. Записи в дневнике на эту тему интересны еще и потому, что в них обнаруживается отношение Добролюбова к вопросам дружбы и товарищества.
Охлаждение между бывшими друзьями началось давно; с тех пор, как стало заметно различие их взглядов, Добролюбов уже не мог относиться к Щеглову с прежней откровенностью и доверием. Он так и записал в дневнике 15 января 1857 года: «…в дружбе его я уже давно не нахожу особенной отрады».
И, поясняя это, он прибавлял: «Приятно быть дружным с тем, кто нам сочувствует, кто может понимать нас, кто волнуется теми же интересами, как и мы… Мое самолюбие удовлетворяется, когда я нахожу одобрение моих мнений, уважение того, что я уважаю, и т. п.» Очевидно, всего этого Добролюбов не находил теперь в Щеглове, поэтому и дружба между ними пошла на убыль.
Что же разделило двух студентов, в чем состояло различие их убеждений? Добролюбов ответил на этот вопрос с полной ясностью: они расходились в самом главном, в определении «последних целей» своей жизненной программы. «Я – отчаянный социалист, – читаем мы в дневнике, – хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом всех членов; а он – революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний… Идеал его – Северо-Американские Штаты. Для меня же идеал на земле еще не существует…»
Добролюбов, конечно, заблуждался, называя своего товарища революционером. Щеглов был типичный буржуазный фразер: недаром он находил свой ограниченный «идеал» в американской буржуазной республике, основанной на неравенстве прав и состояний. Но Добролюбов был совершенно прав, когда делал вывод, что ему, социалисту и демократу, было не по пути со Щегловым, к тому же еще отъявленным эгоистом: «…разница наших характеров и направлений все более рисуется перед моими глазами, а его своекорыстие всё более меня от него отталкивает…» Интересно, что в этом разрыве также сыграл свою роль Чернышевский, отрицательно относившийся к Щеглову. Как-то раз он заметил Добролюбову, что его приятель «похож на бойкого гимназиста» и «довольно узко смотрит». Да и сам Добролюбов был возмущен заносчивостью и самодовольством Щеглова. В дневнике 28 января 1856 года по этому поводу записано: «Своей личностью он меряет все на свете… Это, право, жалкое состояние…»
В своих суждениях о людях, в определении своих собственных стремлений Добролюбов – студент последнего курса – предстает перед нами как вполне сложившийся человек с твердыми взглядами и убеждениями. Сознание местности этих убеждений наполняло гордостью его сердце. Он радовался своей внутренней свободе, которую обрел вместе с новым мировоззрением. Перед ним ясно определилась высокая цель его жизни. Над ним не тяготела, его не подчиняла себе тяжелая, рабская мораль крепостнического общества. Вот почему так искренне звучали его слова, когда он восклицал на страницах дневника: «Что бы было из меня, если бы я не вышел из-под опеки церковной, державной, и других властей?..»
Да, он вышел из-под власти старого мира и примкнул к тем, кто готовил себя для борьбы с этим миром, к лагерю новых людей, порожденных и выдвинутых общественным развитием России. У него возникла потребность размежеваться с прошлым, выяснить свои отношения с прежними друзьями. И он написал письмо своему старому товарищу по семинарии Валериану Лаврскому, который учился теперь в Казанской духовной академии.
Добролюбов не встречался с ним с тех пор, как побывал в Нижнем во время первых каникул (летом 1854 года), но был уверен, что Лаврский по-прежнему религиозен и далек от всяких передовых веяний; вот почему добрую половину своего письма он посвятил довольно язвительным насмешкам: «…утешаюсь надеждою, что Вы крепки в своих верованиях, что Ваша голова издавна заперта наглухо для пагубных убеждений…» И все же он счел нужным в этом же письме объявить своему бывшему товарищу о серьезных переменах, которые произошли с ним за те годы, что они не виделись. «Я доволен своей новой жизнью, – писал Добролюбов, имея в виду свои убеждения. – …Я живу и работаю для себя в надежде, что мои труды могут пригодиться и другим». В этих скромных словах сквозила его излюбленная мысль о необходимости слияния личного и общественного: настоящее удовлетворение человеку может доставить только такой труд, который будет полезен и нужен людям, обществу. Так всегда думал Добролюбов.
Но, не довольствуясь этим, он с замечательной правдивостью рассказал в письме, к Лаврскому историю своих исканий, которые привели его к «новой жизни»: «В продолжение двух лет я все воевал с старыми врагами, внутренними и внешними. Вышел я на бой без заносчивости, но и без трусости, – гордо и спокойно. Взглянул я прямо в лицо этой загадочной жизни и увидел, что она совсем не то, о чем твердили отец Паисий и преосвященный Иеремия. Нужно было итти против прежних понятий и против тех, кто внушил их. Я пошел сначала робко, осторожно, потом смелее, и наконец перед моим холодным упорством склонились… враги мои. Теперь я покоюсь на своих лаврах, зная, что не в чем мне упрекнуть себя, зная, что не упрекнут меня ни в чем и те, которых мнением и любовью дорожу я».
Эти слова были написаны 3 августа 1856 года, после летних встреч и бесед с Чернышевским, через день после письма к Турчанинову, где было подробно рассказано об этих беседах. Добролюбов, всегда жаждавший «родной души», весь находился под обаянием личности Чернышевского и, конечно, именно его имел в виду, когда упоминал о людях, чьим мнением и любовью он дорожил. Между ними уже установилась полная взаимная откровенность и единомыслие, хотя не прошло еще и двух месяцев со дня их первого знакомства. Чернышевский приковывал внимание своего друга к вопросу о революции, рисовал перед ним перспективы будущих народных волнений, участия в них демократической интеллигенции.
В немногих строчках письма к Лаврскому Добролюбов как бы подвел итог своим идейным исканиям предыдущих лет. В последний раз он оглянулся назад и обозрел весь путь своего развития, путь, ведущий от отца Паисия к Чернышевскому. И он имел право сказать, что достиг того, к чему стремился. Ему в самом деле не в чем было упрекнуть себя. Он хорошо понимал, что означает его окончательное и бесповоротное решение отдать себя делу общественной борьбы, делу революции. Об этом они говорили с Чернышевским. Последний предупреждал своего молодого друга о том, какие трудности ждут революционера, с какими опасностями сопряжена его деятельность. И под свежим впечатлением этих разговоров Добролюбов писал в том же письме к Лаврскому: «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мной мое всегдашнее неотъемлемое утешение – что я трудился и жил не без пользы…»
Поразительно, как эти слова напоминают признание Чернышевского, сделанное на восемь лет раньше и сохранившееся в его дневнике: «Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства…»
Для нас должно быть ясно, что означают на языке Добролюбова слова «путь смелой правды»: речь идет о борьбе с социальной несправедливостью, о революционной деятельности. Размышления о возможной будущей гибели вовсе не случайны в это время у Добролюбова; их можно обнаружить не только в письмах, но и в дневниковых записях й в стихах. Эти размышления тесно связаны с разговорами о будущей революции, о народном восстаний, о необходимости принять в нем участие. Такие разговоры постоянно велись между Добролюбовым и Чернышевским. И не потому ли теперь Добролюбов, возвращаясь к теме собственной гибели, всякий раз не забывает прибавить, что найдутся люди, которые сумеют оценить его подвиг? «Я уже успел себя очень хорошо поставить между людьми, которых уважение мне дорого; записывает он 25 января 1857 года. – Если я сгибну, то они обо мне искренно пожалеют, и перед концом меня не будет мучить мысль, что вот были у меня силы, да не успел я их высказать…»
Предчувствие тяжелой участи борца за правду нашло отражение и в стихах этого времени; вот начало стихотворения «Сон» (черновой вариант),
Испытанный судьбой, в тревожном сне моем
Не убаюкан я роскошными мечтами,
Все буря снится мне, все молния и гром,
Тюрьма да стон, да кровь, да изверги с цепями…
Все эти мысли и настроения – несомненный результат общения с Чернышевским, который помог молодому революционеру укрепиться на избранных им позициях. Добролюбов, как мы уже знаем, давно решил для себя вопрос об участии в будущем народном восстании против самодержавия; вспомним, что еще год тому назад он записал в дневнике знаменательные слова: «Я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота!..» Но только теперь, благодаря Чернышевскому, эти слова наполнились для него конкретным содержанием, ибо Чернышевский устремил его внимание непосредственно в сторону близкого и вполне реального, как ему казалось, революционного взрыва. В кругу «Современника» Добролюбов нашел революционную среду, которая укрепила его силы и помогла им правильно развиться.
Подтверждение всего этого мы находим у самого Чернышевского, в его романе «Пролог», написанном гораздо позднее, в сибирской ссылке, и представляющем собой художественное воспроизведение событий зимы 1857 года, связанных с Добролюбовым.
Разумеется, роман не является буквальным изображением этих событий и не лишен известной доли вымысла. Но, зная художественную манеру Чернышевского, мы вправе предположить, что один из главных персонажей «Пролога» Левицкий – Добролюбов – и другие реальные лица, в том числе сам Чернышевский, изображены здесь с большой точностью. В особенности это Относится к обрисовке всего, что касается отношений Добролюбова к автору романа.
И вот из «Пролога» мы узнаем, что Чернышевский не просто откровенничал с полюбившимся ему студентом, но говорил с ним о самых серьезных предметах. Он доказывал своему собеседнику, что тот должен беречь себя для большого дела, что ему не следует рисковать раньше времени, что он «еще пригодится народу». Иными словами, Чернышевский отводил ему роль народного трибуна в грядущих событиях. Мы узнаем также, какое громадное впечатление производили эти слова на Добролюбова – Левицкого: «…Я был как пьяный. Слышать от него, что я могу понадобиться народу, – можно было опьянеть». Так пишет герой романа в своем дневнике и так же, очевидно, мог бы сказать о себе его прототип – Добролюбов. Он и в самом деле так говорил, – достаточно вспомнить такие его подлинные слова: «Я… в случае нужды могу явиться сильным и свежим бойцом», – это записано в дневнике 25 января 1857 года.
В дневнике Левицкого есть и еще строки, которые должны привлечь наше внимание. Герой романа рассуждает так: «В 1830 году буря прошумела только по западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надо думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву». Такой близкой казалась революционная буря, так ждали ее и автор романа и его герой, от имени которого написан «Дневник Левицкого».
Бунтарские стихи Добролюбова, призывающие к разрушению старого мира и строительству нового на его развалинах, довершают наше представление о нем как о пылком революционере. В стихотворении, озаглавленном «На смерть особы» (январь 1857 года), он радуется по поводу появления «черного ободка» в газете: это значит, что еще один из столпов старого мира покинул жизненное поприще. И поэт восклицает:
Пируй же, смерть, в моей отчизне,
Все в ней отжившее рази.
И знамя новой, юной жизни
На грудах трупов водрузи!
Чернышевский все еще продолжал удерживать Добролюбова от активного сотрудничества в «Современнике», хотя нередко и шел на уступки. Добролюбов же все свои надежды связывал теперь только с «Современником». К концу 1856 года он уже имел основания считать себя профессиональным литератором.
В середине сентября Чернышевский передал ему свою работу для иллюстрированного альманаха, который был задуман издателем А. Т. Крыловым; надо было написать статьи о Пушкине и Державине, а времени для этого у Чернышевского не было. Кроме того, ему, очевидно, хотелось поддержать молодого литератора и нагрузить его работой, не связанной с «Современником». Добролюбов с горячностью принял заказ от Крылова. Статью о Державине он поручил Щеглову (это было еще до решительного расхождения, отмеченного в январских записях дневника), а за работу о Пушкине взялся сам.
Через две недели, точно в установленный Крыловым срок, статья была ему вручена. Она представляла собой большой популярный очерк жизни и творчества великого поэта, во многом опиравшийся на суждения Белинского. Другие авторы будущего альманаха не были столь аккуратны, и затея Крылова осуществлялась чрезвычайно медленно; книга вышла в свет только к лету 1858 года под названием «Русский иллюстрированный альманах». Статья Добролюбова была подписана здесь псевдонимом Н. Лайбов.
Некоторые страницы этой статьи кажутся нам сейчас наивными, незрелыми. Таково прежде всего обвинение Пушкина в недостатке идейности, в «легкости теоретического образования». Добролюбов, высоко ценя политическую лирику Пушкина, не умел, однако, связать его творчество с передовым общественным движением того времени – с движением декабристов.
Добролюбов чувствовал, что факты опровергают многие из тех предвзятых мнений о Пушкине, которые усердно распространяли его мнимые почитатели, те самые «современные Ноздревы», которых позднее с такой разящей силой высмеивал Салтыков-Щедрин, утверждавший, что они для видимости поклоняются Пушкину, а на самом деле охотно пригласили бы его в полицейский участок, если бы это от них зависело… Добролюбов, размышляя над Пушкиным, всячески стремился найти в нем такие черты, которые были не по душе литературным Ноздревым. Он подчеркивал его враждебное отношение к «свету», его «настроение вечного беспокойства»; он с удовлетворением указывал на чувство гражданского самосознания, выраженное в «Памятнике», а в том факте, что Пушкин подсказал Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», видел доказательство серьезного понимания поэтом интересов и нужд русского общества.
В своих положительных оценках молодой критик сумел найти для характеристики Пушкина сильные и свежие слова, свидетельствовавшие о проникновенном понимании его творчества, о беспредельном уважении и любви к поэту. Вот что писал в своей статье Добролюбов:
«Значение Пушкина огромно не только в истории русской литературы, но и в истории русского просвещения. Он первый приучил русскую публику читать, и в этом состоит величайшая его заслуга. В его стихах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые открылся нам действительный русский мир. Все были очарованы, все увлечены мощными звуками этой неслыханной до тех пор поэзии… И Пушкин откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь… В этом-то заключается великое значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства…»
Трудно поверить, что человека, написавшего эти слова, обвиняли в том, будто он ненавидит Пушкина. Еще при жизни критика раздавались голоса, утверждавшие, что в лучших пушкинских стихотворениях он видит всего лишь «альбомные побрякушки». Разумеется, теперь нет нужды опровергать эти выдумки. Мысли Добролюбова о Пушкине, высказанные в его статье студенческих лет, и сегодня не потеряли своего значения, своей силы и глубины.
Ошибка Добролюбова исторически легко объяснима. В те годы вокруг Пушкина либерально-дворянской наукой было создано множество легенд, искажавших облик поэта, фальсифицировавших его наследие. Эти легенды мешали Добролюбову полностью осознать подлинный смысл творчества Пушкина. Достаточно сказать, что он принимал на веру, как нечто само собой разумеющееся, домысел о том, будто Пушкин видел в искусстве самоцель, то есть являлся поклонником теории «искусство для искусства». Достаточно напомнить, что в ту пору было распространено мнение, будто в последнее время своей жизни Пушкин, забыв тревоги молодых лет, нашел «прочное успокоение» в религии и даже «примирился» с царем, Добролюбов считал это несомненным, хотя мысль о примирении никак не вязалась с тем, что он знал о вольнолюбии, о благородстве Пушкина.
Главная же причина ошибочных суждений критика заключалась в том, что в условиях напряженной классовой борьбы конца 50-х годов он, демократ и социалист, не мог отрешиться от представления о Пушкине как о дворянском поэте, каким его пытались изобразить идеологи враждебного лагеря. В силу этого Добролюбов не мог до конца вскрыть глубоко прогрессивное содержание пушкинского творчества. Однако заслуга критика состоит в том, что в противовес реакционно-дворянской точке зрения он настойчиво стремился показать в своей статье общенациональное значение Пушкина, показать огромную его роль в истории русской культуры и литературы. И для нас сегодня существенны не слабые стороны добролюбовских суждений о Пушкине, объясняемые определенными историческими, условиями, а те страницы, в которых критик приближался к правильной точке зрения








