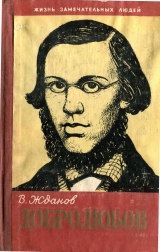
Текст книги "Добролюбов"
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Есть в детских тетрадях и еще очень важное стихотворение, написанное весной 1851 года. Оно так и озаглавлено – «Будущее». Автор говорит здесь о тяжелых днях, которые ждут ею впереди, и вместе с тем заявляет о своей готовности выдержать «смертельный бой» с судьбой, сохранить свой «великий дух» в неравной борьбе. Что же это за борьба, за что собирается сражаться молодой поэт? Ответ на эти вопросы содержится в самом стихотворении:
Я в броню терпенья облекусь.
Истины мечом вооружусь
И, с сознаньем правды и добра,
Буду жить и завтра, как вчера.
Несмотря на отвлеченный характер этих признаний, мы вправе сделать вывод, что в юношеских мечтах о своей будущей судьбе Добролюбову рисовался – пусть еще неясный – образ мужественного деятеля, готового пострадать за свои убеждения, образ поэта – борца за правду. Если даже этот образ сложился не без влияния каких-то литературных источников, в частности лермонтовской поэзии, все равно он характерен для Добролюбова.
Страстное стремление стать литератором неудержимо крепло в его сознании. Знаменательно, что, даже решившись ехать в столицу и мечтая об университете, он видел в этом только средство к достижению заветной цели. Он так и записал в дневнике: «Главным образом соблазняет меня авторство, и если мне хочется в Петербург, то не по желанию видеть Северную Пальмиру, не по расчетам на превосходство столичного образования: это все на втором плане, это только средство. На первом же плане стоит удобство сообщения с журналистами и литераторами…»
III. НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
 редставим себе глухую провинцию николаевского времени. Сотни верст до культурных центров. Косный быт и поповская среда, где на юношу-семинариста смотрят как на будущего священнослужителя, церковного проповедника. А юноша давно уже знает, что ему предстоит совсем другая судьба. В груди его зреют необъятные силы, в голове теснятся смелые замыслы. Но они так не вяжутся со всем тем, что его окружает! Вокруг плотной стеной стоят невежество, пошлость, грубость и темнота. Он сам еще далеко не свободен от власти привычного быта, от цепких «предрассудков старины». И тяжелые сомнения проникают в его душу, находят выход в стихах, в дневниковых записях: хватит ли у него сил, чтобы пробить эту стену? «На что ты надеешься?» – говорит ему внутренний голос. «Что тебя здесь ожидает? – записывает юноша в дневнике. – Тебе суждено пройти незамеченным в твоей жизни, и при первой попытке выдвинуться из толпы, обстоятельства, как ничтожного червя, раздавят тебя… И ничего ты не сделаешь, ничего не можешь ты сделать, несмотря на всю твою самонадеянность…» В такие минуты ему вспоминался «желчный стих» Лермонтова:
редставим себе глухую провинцию николаевского времени. Сотни верст до культурных центров. Косный быт и поповская среда, где на юношу-семинариста смотрят как на будущего священнослужителя, церковного проповедника. А юноша давно уже знает, что ему предстоит совсем другая судьба. В груди его зреют необъятные силы, в голове теснятся смелые замыслы. Но они так не вяжутся со всем тем, что его окружает! Вокруг плотной стеной стоят невежество, пошлость, грубость и темнота. Он сам еще далеко не свободен от власти привычного быта, от цепких «предрассудков старины». И тяжелые сомнения проникают в его душу, находят выход в стихах, в дневниковых записях: хватит ли у него сил, чтобы пробить эту стену? «На что ты надеешься?» – говорит ему внутренний голос. «Что тебя здесь ожидает? – записывает юноша в дневнике. – Тебе суждено пройти незамеченным в твоей жизни, и при первой попытке выдвинуться из толпы, обстоятельства, как ничтожного червя, раздавят тебя… И ничего ты не сделаешь, ничего не можешь ты сделать, несмотря на всю твою самонадеянность…» В такие минуты ему вспоминался «желчный стих» Лермонтова:
Не верь, не верь себе, мечтатель молодой?..
Это было не только сомнение в своих силах. Это было начало душевного кризиса, который должен был привести к решительному разрыву с традициями и понятиями среды, с патриархальным мировоззрением.
В сознании юноши зародилась мысль о необходимости такого разрыва. Вместе с тем росла его уверенность в своих силах, вытеснявшая настроения безнадежности и уныния. Это был сложный процесс, сопровождавшийся мучительными колебаниями, раздумьями, поисками друзей, на которых можно было бы опереться.
Август и сентябрь 1852 года были бурными для его душевной жизни. «Во мне происходила борьба, тем более тяжелая, что ни один человек не знал о ней во всей ее силе», – так записал Добролюбов в дневнике. Внешним поводом к этой борьбе были разговоры и споры с отцом на тему о своем будущем. Добролюбов не хотел медлить. Решив для себя вопрос об университете, он не мог и подумать о том, чтобы провести еще два года в опостылевшей ему семинарии. Семинария стояла на пути всех его планов.
И вот однажды, набравшись духу, он заговорил с отцом об университете. Но его проект был немедленно отвергнут. Отец сказал, что столичная жизнь слишком дорога и если уж ехать в столицу, то поступать надо не в университет, а в духовную академию. Затем он начал подробно перечислять преимущества духовного образования, ссылаясь на своих знакомых, которые успешно учились в академиях, причем не только в Петербурге, но и в Москве и в Казани.
Еще несколько раз Добролюбов заводил с родными разговор на ту же тему, но по-прежнему безуспешно.
Все это, конечно, очень его волновало и тревожило. Но вряд ли можно думать, что только здесь был заключен источник той душевной борьбы, о которой он вспоминает в дневнике. Подлинные ее причины лежали гораздо глубже: юноша начал сомневаться в тех истинах, которые считались непреложными и незыблемыми в окружающем его мире, он начал сомневаться в справедливости устоев этого мира и впервые ощутил ту пропасть, которая вскоре должна была лечь между ним и воспитавшей его средой.
Вполне закономерно, что этот назревавший конфликт принял прежде всего форму столкновения с религией. Религиозные представления, словно паутиной, опутывали ищущее сознание, тормозили развитие этой активной натуры, жаждущей найти реальное и справедливое мировоззрение. И здоровый инстинкт подсказал необходимость отрешиться прежде всего от религии, моральной и идейной основы, на которой покоилась окружающая жизнь.
Юношеские стихи, в которых выражалось самое сокровенное, сохранили следы этой внутренней борьбы: здесь и стремление сбросить обветшавшие одежды, и последние попытки удержаться на старых, привычных позициях. В сентябре 1852 года, то есть как раз в том месяце, который Добролюбов назвал «бурным» для своей душевной жизни, им были написаны стихи о неверии, о начале разрыва с богом:
Немало сомнений
В душу мне запало!
Многих убеждений
Будто не бывало!
Вера колебалась,
Путался рассудок…
Все – мне представлялось —
Глупый предрассудок…
И к какой-то новой
Мысли я стремился,
Новою основой
Я руководился.
Все узнать желал я,
Ничему не веря,
Наобум искал я
Разуменья двери…
Эти поиски истины «наобум» при отсутствии всякой поддержки извне давались нелегко, но неверие явно побеждало веру. Из дневника мы знаем, что в трудную минуту он уже не молится, как бывало прежде. Он даже отмечает, что сердце его «черство и холодно к религии». А потом внезапно им снова овладевает тревога, и он пытается искусственно поддержать и подогреть в себе чувство остывающей религиозности. С этой целью он заводит даже особый дневник под названием «Психаториум», что означает «углубление в душу», и в течение месяца изо дня в день заносит туда тщательно составленные отчеты в своих «прегрешениях» перед богом.
С чего началась и чем питалась ненависть к религии у юноши, выросшего в среде, пропитанной религиозными представлениями и традициями? Конечно, именно эта среда и была первым источником его будущего атеизма. Близкое соприкосновение с изнанкой религии, с поповским бытом привело мальчика, отличавшегося острой наблюдательностью, к мысли о том, что бог сделан руками людей. Скептическое отношение к обрядности, сложившееся в ранней юности, в дальнейшем превратилось в последовательное отрицание религии.
Одна только семинария давала ему громадный материал для размышлений на эти темы. Вспомним хотя бы стихотворение «Один из моих знакомых», где нарисован портрет семинариста. Поэт не жалеет красок, изображая развязного, хвастливого, самонадеянного человека, который к тому же отличается грубостью, невежеством, склонностью все критиковать, ничего не зная. И это, по мнению Добролюбова, не случайное явление:
В своем лице он представляет
Прямой образчик бурсаков.
Таковы были и многие другие будущие служители бога, которых видел вокруг себя Добролюбов. Недаром он с тоской ходил в семинарию, недаром прибегал к различным выдумкам, инстинктивно стараясь оградить себя от господствующей там тупости, пошлости и невежества. Иной раз он пытался опереться на свое врожденное чувство юмора, и оно служило для него своего рода самозащитой. Тогда он сочинял сатиры на бурсаков и пародии на наставников. Однажды он завел, например, тетрадь, озаглавленную «Летопись классических глупостей», куда записывал всевозможные нелепости, услышанные в классе.
Безотрадное зрелище представляло собой и семинарское преподавание. Многие наставники, особенно носившие духовное звание, были людьми невежественными и во всех отношениях ничтожными. Примечательна, например, фигура отца Паисия, инспектора семинарии и профессора догматического богословия; о нем в дневнике Добролюбова, давно забывшего свое детское намерение: беспрекословно уважать авторитет начальства, написано немало язвительных и горьких слов.
Гнев семинариста вызывала не только глупость профессора богословия, но и отсталость, реакционность его суждений, его «допотопные понятия о науке и литературе». Добролюбов с возмущением писал о совершенном отсутствии здравого смысла у Паисия, о его «отвратительных претензиях на подлое остроумие», о бездарности его преподавания. «Скоро ли то я избавлюсь от этого педанта, глупца из глупцов?..» – записывал он в дневнике, когда перед ним заблистала надежда покинуть семинарию.
Нетрудно догадаться, что невежды и шарлатаны в рясе, подобные отцу Паисию, никак не могли укрепить религиозное настроение юноши. Если большинство семинаристов мирилось с ними и принимало как Должное всю их богословскую премудрость, то Добролюбов с его критическим умом, с его чуткостью к дурному и хорошему страдал от сознания ничтожности людей, его окружавших. Он так и записал в дневнике: «Во мне есть порядочный запас ненависти против людей…» Этот запас рос с каждым днем и постепенно превращался в острое чувство ненависти ко всему укладу жизни, который мешал ему развиваться, который руками отца Паисия сковывал молодые силы, обрекал на одиночество и душевные страдания. Разве не об этом говорят трагические интонации дневниковой записи, сделанной Добролюбовым 3 сентября 1852 года:
«…И опять осужден я вращаться в этом грязном омуте, между этими немытыми, нечищенными физиогномиями, в этой душной атмосфере педантских выходок, грубых ухваток и пошлых острот… И ничего в вознаграждение в эту бедственную жизнь, ни одного светлого проблеска ума и чувства в этой тьме невежества и грубости, ни одного отрадного дня за дни и месяцы тоски и горя».
* * *
«Душная атмосфера» окружала будущего критика не только в семинарии, но и дома. И здесь его не покидало ощущение одиночества, даже обострявшееся при мысли о том, что близкие и, казалось бы, любящие его люди не понимают его стремлений, стоят слишком далеко от всего, что его так волнует. Ему не с кем поделиться, некому доверить свои тайные думы, В стихах он постоянно сетует на это:
И родни и друзей
Не сочтешь у меня,
Только грусти моей
Им поверить нельзя…
В отношениях юного Добролюбова к семье в пору начинавшегося идейного кризиса преобладали те чувства, которые он сам называл бессознательным влечением друг к другу людей, связанных узами родства. Но трещина в этих узах уже намечалась. Мы можем судить об этом хотя бы по тому, что спустя несколько лет, как бы подводя итоги давним размышлениям на эту тему, Добролюбов утверждал, что человек, пошедший «по пути разума», уже не может подчиняться только непосредственному влечению родства. «Голос крови» становится для него все менее слышен, ибо «его заглушают другие, более высокие и общие интересы».
Наверное можно сказать, что такие мысли приходили ему в голову еще в семинарские годы, когда он уже развился настолько, что почувствовал себя чужим в родном доме, среди любящих его людей. «Жить их жизнью он перестал еще до отъезда в Петербург», – свидетельствует Чернышевский.
Дома ему по-прежнему внушались те принципы христианской морали, которым он был предан в детстве: не надейся на свои силы, почитай старших, будь терпелив и послушен. Он успешно преодолевал в себе мертвящее действие этой морали: он начал верить в свои силы, перестал уважать тех, кто не заслуживает уважения. Все это было результатом громадной внутренней работы, незаметной для близких. В их глазах он был по-прежнему тихим, молчаливым мальчиком, послушным сыном. И необходимость таить в себе работу деятельного ума, проблески нового понимания жизни, скрывать свое скептическое отношение к религиозной обрядности была тягостной для юноши. Может быть, именно поэтому он в «Психаториуме», перечисляя свои «грехи», упомянул среди них «ложь, хитрость и притворство». Ему приходилось скрывать свои сомнения и холодность к религии. Ему казалось, что он обманывает старших, исполняя обряды, в святость которых он с каждым днем верил все меньше.
Отчуждению от домашней среды способствовали те люди, которых юноша встречал в доме своего отца. Это были прежде всего представители нижегородского духовенства – сословия, отличавшегося такими свойствами, как стяжательство, жадность, лицемерие. Добролюбов близко узнал все это. Он тяготился кругом знакомых своей семьи и не раз уходил заниматься в семинарию, когда в доме собирались гости. В своих позднейших обличениях церкви и реакционной сущности религии он, несомненно, опирался и на собственные детские впечатления. Вспомним, что ему принадлежат хотя бы следующие беспощадные по отношению к поповщине строки:
Покорны будьте и терпите,
Поп в церкви с кафедры гласил,
Молиться богу приходите,
Давайте нам по мере сил…
По страницам дневника можно проследить, как суждения его автора становились все более резкими и определенными. Ирония и сарказм в отзывах о людях все решительнее вытесняли прежние мотивы христианского всепрощения и любви к ближним.
Однако окружающим он по-прежнему казался робким, молчаливым, почти нелюдимым. Его считали человеком холодным, рассудочным, чуть ли не флегматиком. Но это была только внешность. Он сам горячо опровергал подобные суждения, заявляя, что «самые пламенные чувства, самые неистовые страсти скрываются под этой холодной оболочкой всегдашнего равнодушия». И с этим нельзя не согласиться, перелистывая страницы дневника, где Добролюбов являлся самим собою. Достаточно вспомнить, какими проникновенными словами рассказал он о своей любви к людям, о страстных поисках родственной, близкой души, о жажде большой, искренней привязанности. Прекрасный образ настоящего человека с благородным сердцем возникает перед нами в этих строках.
Одни люди, говорит Добролюбов, преклоняются перед красотами природы, другие восхищаются картинами и статуями, третьи гонятся за деньгами. Его же влечет к себе прежде всего человек. «Чем же виноват я, что привязываюсь к человеку, превосходнейшему творению божию? Чем я несчастлив, что моя душа не любит ничего в мире, кроме такой же души? Ужели преступление то, что я инстинктивно отгадываю ум, благородство, доброту человека и, отгадавши, всеми силами души моей привязываюсь к нему… Я никогда не мог жить без любви, без привязанности к кому бы то ни было…»
Эти слова написаны тем же самым пером, которое всего днем раньше писало о ненависти к людям. И здесь, разумеется, нет даже тени противоречия. Юноша вырабатывал в себе способность по-разному относиться к разным людям, ценить одних и ненавидеть, презирать других. И чем тяжелее было ему в душной атмосфере семинарского быта, среди пошляков и педантов, чем острее становилось ощущение одиночества в родительском доме, тем более настойчиво искал он дружбы, понимания, сочувствия.
* * *
Добролюбов принадлежал к числу людей, которые обладают способностью, увлекаясь чем-либо, отдаваться предмету своего увлечения безраздельно. Такой всепоглощающей была его страсть к книгам. Так непреодолимо и всегда влекло его «авторство». Так же искренно было его чувство, если он привязывался к человеку.
Едва ли не первой в его жизни сильной привязанностью (после матери) была Фенечка Щепотьева, дочь видного нижегородского чиновника и редактора «Нижегородских губернских ведомостей». Семья Щепотьевых жила в доме Добролюбовых. Николай брал у них книги для чтения; обращался он к отцу Фенечки и по делу, несколько раз пытаясь писать для газеты.
Фенечке было всего 12 лет, когда Добролюбов испытал безотчетное влечение к ней. Шестнадцатилетнему подростку, до крайности не избалованному знакомствами и дружбой, она вдруг показалась каким-то неземным созданием, чуть ли не ангелом, появившимся среди грубых людей, олицетворением добра и красоты.
О своем чистом и искреннем первом чувстве Добролюбов прекрасно рассказал на страницах дневника. Когда Щепотьевы на время уехали из города, он записал: «И вот два дня прошло без них, и я не исцеляюсь от тоски моей, а только все больше и больше грущу и печалюсь. Редко-редко я на минуту забуду о ней, но потом тотчас же снова что-нибудь напомнит, или просто сердце само скажется и так жалобно заговорит о ее очаровательной прелести. Я не могу назвать; не могу прибрать имени для этого мрачного, грустного чувства, которое постоянно ощущаю в себе с тех пор, как расстался с ней. Что-то подобное должно быть, кажется, после смерти близкого или нежно любимого человека. Какая-то пустота кругом, как будто в мире нет более людей; какое-то безотрадное горе, как будто бы нет более на свете радостей; какое-то отвращение ко всякому занятию, как будто бы все предметы слишком ничтожны, когда не одушевляет их ее присутствие».
Он считал, что Фенечка не может ответить на его чувство не только по молодости лет – это еще пол-беды, годы придут, но и по многим другим причинам. Во-первых, она была ослепительно прекрасна, а его «мачеха-природа» сделала неловким и некрасивым («Нынешний вечер я пожалел, что я так дурен лицом, а это со мной не часто бывает»). Во-вторых, размышляя о возможности женитьбы в будущем, он пришел к выводу, что у него нет никаких перспектив, потому что Фенечка ему «не по плечу». Дело в том, что она принадлежала к более высокому социальному кругу, к так называемому «порядочному обществу», в котором – Добролюбов это знал – пошлый светский любезник и глупый болтун пользовались неизмеримо большим успехом, чем «мрачный ученый» или «гордый талант».
Бывая у Щепотьевых, Добролюбов, может быть впервые, довольно остро ощутил свое «разночинное» происхождение и пожалел, что его воспитание было начисто лишено светского лоска.
Второе увлечение Добролюбова, о котором мы должны теперь вспомнить, связано с именем семинарского преподавателя Ивана Максимовича Сладкопевцева. История привязанности к нему Добролюбова может показаться почти неестественной, настолько напряженными переживаниями она сопровождалась. Однако эта история помогает нам понять всю меру одиночества Добролюбова и представить себе всю силу его влечения к людям.
Случилось так, что Сладкопевцева назначили учителем немецкого языка в параллельное отделение того класса, в котором учился Добролюбов. Поэтому он долго не мог с ним познакомиться. Наконец Добролюбов нашел подходящий предлог и отправился к нему с визитом. Смущаясь, он переступил порог казенной квартиры Ивана Максимовича. Сладкопевцев так рассказывает об этом своих воспоминаниях: «Знал я, что он сын губернского священника, что он самый лучший ученик из 70 учеников своего класса; но его необычайная робость, какая-то угрюмость, даже будто забитость, прямо противоречили, на мой взгляд, тому и другому. «Это ли, – думал я, – сын городского священника? Несомненно также, что он считается отличным учеником: но отчего он так стеснен, так молчалив, даже будто неразвит?» Я принялся, однако, шевелить эту, как мне казалось, запуганную натуру; говорил, что-то много, и особенно старался говорить ласково… Но гость не поддавался… Закончу я, – он и подавно молчит, опустив глаза; заговорю – он поднимет голову и слушает…»
Так произошло первое знакомство (в июне 1852 года). С осени, после каникул, дружба упрочилась. Добролюбов робел уже гораздо меньше, хотя и был по-прежнему малоразговорчив. Он стал часто бывать у Сладкопевцева. Иван Максимович охотно рассказывал ему о своем учении, о Петербурге, где только что окончил духовную академию.
Иван Максимович настойчиво советовал своему молодому другу как можно скорее оставить семинарию и поступить в университет.
– А если не удастся в университет, – говорил он, – тогда можно поступить и в духовную академию, только, конечно, в петербургскую. В конце концов академия вас не стеснит, потому что, окончив ее, вы в столице всегда найдете подходящее для себя занятие…
Эти слова запомнились Добролюбову и сыграли свою роль в тех решениях, которые ему предстояло принять в ближайшее время.
Несмотря на его обычную замкнутость, Сладкопевцев все-таки сумел подметить, что в душе юноши постоянно таилась насмешка над горькой действительностью. Но эта насмешка «была глубоко закупорена в его сосредоточенной натуре, была слишком не размашиста и холодно-скромна».
Для Добролюбова дружба со Сдадкопевцевым была одной из немногих попыток ближе сойтись с людьми. Нет сомнения, что Сладкопевцев был неизмеримо лучше, интереснее большинства тех, кто окружал Добролюбова в нижегородские годы. Чернышевский свидетельствует, что он «по своему уму и характеру был действительно человек, достойный уважения и любви». И все же, признавая достоинства Сладкопевцева, надо сказать, что Добролюбов сам создал себе этот кумир, наделил его теми свойствами, какие ему хотелось в нем видеть. Так сильна была жившая в душе юноши мечта о настоящем человеке, достойном уважения и дружбы.
Общение с ним было полезно для Добролюбова. Правда, на развитие его понятий и убеждений Сладкопевцев не мог оказать влияния (об этом говорит и Чернышевский), но в то же время пример честного, доброго и разумного человека благотворно действовал на юношу, на его нравственный облик, укреплял в нем добрые чувства. Сам Добролюбов склонен был очень высоко оценивать ту роль, которую играл Сладкопевцев в его жизни.
В ноябре 1852 года стало известно, что Ивана Максимовича переводят из Нижнего в Тамбов преподавателем тамошней семинарии, в которой он сам когда-то учился. Добролюбов долго не мог забыть этого человека, к которому испытывал такую искреннюю и горячую симпатию. Он писал ему в Тамбов длинные письма, служившие как бы продолжением дневниковых записей. В одном из таких писем Добролюбов признавался: «Никогда не забуду я этих вечеров, проведенных с Вами наедине, этой живой, одушевленной речи, в которой я участвовал только тем, что слушал ее. И мог ли я после этого не привязаться к Вам всеми силами молодой души, которая находила в Вас приближение к своему идеалу?..»
Получив отказ отца относительно университета, Добролюбов не мог примириться с необходимостью остаться еще надолго в семинарии. Он без конца перебирал в памяти все, что слышал от Сладкопевцева о Петербурге и об академии, которую тот окончил, и, наконец, решил, что ему ничего не остается, как пойти на соглашение с отцом. Он понял, что академия. для него единственный выход, единственный предлог. Только бы вырваться из Нижнего! Лишь бы попасть в столицу, в Петербург, а там будет видно…
Оставалось поговорить с отцом. На этот раз «папенька» оказался гораздо уступчивее. Он, правда, сказал несколько слов о молодости Николая, но тот возразил, что молодому еще легче учиться, и вопрос был решен.
В марте 1853 года все бумаги были посланы в Петербург, в академию. Однако сомнения продолжали мучить Добролюбова. Он и радовался предстоящему отъезду, возможности вырваться, наконец, из «грязного омута», расстаться с ненавистной семинарией, и вместе с тем тревожился, вспоминая, что духовная академия – это вовсе не то, о чем он мечтал, к чему себя готовил. «Мысль поступить в университет не оставляет меня», – так писал он уже через день после того, как бумаги были отосланы в столицу, в адрес академии.
* * *
Последнее лето в Нижнем Добролюбов провел, готовясь к предстоящим экзаменам, размышляя о будущем и не забывая своих обычных литературных занятий.
Александр Иванович с удивлением замечал, что его сын с особенным усердием сидел над историей, словесностью и математикой – предметами, которые ему не надо было сдавать при поступлении в академию.
– Да что ты все этим занимаешься, – спрашивал отец, – разве это там требуют?
Он отвечал что-то неопределенное и продолжал свои занятия.
Ему шел восемнадцатый год. Многое изменилось к этому времени в его духовном облике. Не осталось и следа от прежней философии покорности и преклонения перед авторитетами. Процесс бурного умственного развития привел к крушению наивно-идеалистического миросозерцания. Глубокий внутренний кризис нанес непоправимый удар его религиозным представлениям, впрочем, далеко еще не изжитым окончательно.
Процесс возмужания юноши наглядно проявился в его отношении к собственному поэтическому творчеству. Пересматривая свои прежние стихи, он был разочарован их условной сентиментальностью, риторическим пафосом и резонерством, вычитанным в чужих сочинениях.
Любопытно, что он к этому времени вообще забывает о стихах, хотя до сих пор занимался ими постоянно и неутомимо. В предыдущем, 1852 году он написал около сорока стихотворений, а в 1853 только двенадцать – и все в первой половине года. Его влечет теперь к прозе, к картинам реальной жизни. Он садится за работу и совсем незадолго до отъезда из дома пишет большую повесть «Провинциальная холера», вложив в нее весь запас своих жизненных наблюдений (в Нижнем в то время были случаи заболевания холерой). Молодой автор сделал попытку правдиво рассказать о нравах косной провинциальной среды, которую он хорошо знал, обличить предрассудки и суеверия, распространенные в этой среде. В повести нет «больших художественных обобщений, однако Добролюбов предстает перед нами уже как человек, умеющий подняться над изображаемой жизнью, способный отнестись иронически к ее смешным и темным сторонам, осудить их.
В связи с этим надо заметить, что в те годы в Нижнем, по-видимому, все же был какой-то круг передовых людей, с которыми мог соприкасаться Добролюбов. Общение с ними укрепляло в нем чувство неудовлетворенности окружающей жизнью, помогало освободиться от заблуждений. К сожалению, мы можем судить об этом только по нескольким строчкам дневника, где упоминается некий Флегонт Алексеевич Васильков, учившийся в Нижегородской семинарии. Добролюбов встречался с Васильковым перед отъездом в Петербург и вел с ним разговоры, о которых долго потом не мог забыть. Спустя несколько лет он с благодарностью вспомнил своего нижегородского знакомого и рассказал в дневнике, что Васильков говорил с ним умно и искусно, стараясь внушить ему любовь к правде, а не к авторитету и в то же время пытаясь осторожно («не пугая прямым нападением») разубедить его в том, в чем он и сам начал сомневаться, то есть в религии. Добролюбов прибавляет к своему рассказу еще несколько многозначительных слов: «Наши разговоры кончились ничем, но дело было сделано: внутренняя работа пошла во мне живее прежнего». Это позволяет нам заключить, что разговоры носили серьезный характер и что Васильков сумел оказать благотворное влияние на развитие своего собеседника.
Спустя год, уже студентом приехав в Нижний, Добролюбов снова встречался с Васильковым и вместе с ним тайно читал и обсуждал запретное тогда письмо Белинского к Гоголю.
Приближался день отъезда. Зинаида Васильевна хлопотала с утра до ночи. Она приготовила сыну такое количество мятных лепешек на дорогу, что их, по выражению его спутника, хватило бы на целую вечность. В подкладку сюртука – для безопасности! – были зашиты деньги: тридцать пять рублей серебром.
В первых числах августа Добролюбов обошел всех родных и знакомых, со всеми простился. Билет на место в дилижансе был куплен заранее.
Ясным августовским утром, провожаемый множеством родных, он погрузился в громадную карету, запряженную шестеркой лошадей и вмещавшую до двадцати человек пассажиров. Вместе с ним в качестве старшего товарища ехал Иван Гаврилович Журавлев, окончивший семинарию и отправленный учиться в Петербургскую академию на казенный счет.
Отец и мать долго смотрели вслед удалявшемуся дилижансу, который увозил их сына от родного крова. А он, уезжавший навстречу неизвестности, мог бы повторить про себя слова поэта, которые совсем еще недавно вспоминал в письме к товарищу:
И предо мною жизни даль
Лежит светла, необозрима…








