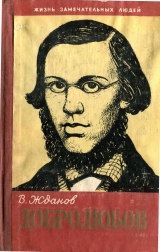
Текст книги "Добролюбов"
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Ты за что попал? – спросил меня один арестант, мальчик лет 18…
– Не знаю, брат!
– Верно, стянул что?
– А приведут меня к господам своим, те ту же пору половину головы обреют, выпорют, а там через три дня еще выпорют, а там еще через три дня выпорют; до трех раз, да и оставят.
– А разве бывало уж с тобой это?
– В другой раз… Не знаешь ты, человек милый, Сказки какой, спать не хочется.
Я стал ему рассказывать историю Ветхого завета.
– Однако, я вижу, ты из книг говоришь, – сказал мужик, выходя из-за перегородки нашей арестантской… – Скажи, человек душевный, за что тебя схватили? – спросил он меня.
– Я не мужик, а надел мужицкое платье; за это и посадили.
– Как, за мужицкую одёжу?
– Да, за мужицкую одёжу.
– Да разве мужик не человек?
На этот вопрос я не знал, что могу сказать, а потому и не отвечал ему.
– Мужик тоже человек! – убедительно говорил мой новый товарищ. – Рассказывай, что в книжках читал! – прибавил он, немного помолчав…»
Картина невероятного полицейского произвола, бесправие простых людей и дикие нравы провинциальных блюстителей порядка, достойно, продолжающих традиции гоголевских держиморд и городничих, – все это привлекло внимание Добролюбова к рассказу Якушкина о его псковских злоключениях; он думал поместить этот рассказ в «Свистке» под иронической рубрикой «Отрадные явления».
Почти в любой критической статье Добролюбова нетрудно обнаружить всегда присущее ему чувство юмора и большой талант сатирика. У него есть рецензии, похожие скорее на фельетоны, написанные по всем правилам этого жанра (такова, например, блестящая по форме рецензия на книгу «Применение железных дорог к защите материка», такова известная статья «Стихотворения М. Розенгейма» и др.). Но с особенной силой Добролюбов-сатирик развернулся в своих стихотворных памфлетах, фельетонах и пародиях на страницах «Свистка». Здесь благодаря его изобретательности появились три новых «поэта», три литературные маски: Конрад Лилиеншвагер, Яков Хам и Аполлон Капелькин. Первый из них – восторженный и туповатый либерал, шумно обличающий извозчика, получившего с седока лишнюю монету, мелкого воришку, забравшегося в чужой карман, чиновника, берущего взятки, и т. п. Ограниченный и самодовольный рифмоплет становится, в позу грозного обличителя. Его гневная речь, обращенная к мелкому взяточнику, исполнена «гражданского» пафоса:
Узнали мы теперь, откуда вы берете
Преступные гроши, исчадия греха,
Несчастных кровь и пот вы в свой карман кладете!
На праздник вам идет вдов и сирот кроха!!!
Корысти мелочной вы жертвуете честью,
Законом, правдою, любовию к добру;
Вы существуете лишь подкупом и лестью,
Вы падки к золоту, покорны серебру!!!
Вы все заражены иудиным пороком,
Меж вами царствует мздоимство, лесть и ложь…
– Но горе! Я восстал карающим пророком,
И обличу я вас за каждый лишний грош!!!
Эффект этого пародийного стихотворения основан на комическом несоответствии между пафосными интонациями и ничтожным предметом обличения – жалкими грошами, которые присвоил себе нищий чиновник. Непосредственной мишенью добролюбовской пародии были стихи М. Розенгейма, одного из типичных представителей либерально-обличительной поэзии того времени (самое имя Лилиеншвагера пародирует фамилию Розенгейма). Но, разумеется, Добролюбов метил гораздо дальше; он стремился не только подвергнуть осмеянию псевдогражданские потуги одного поэта, но и обнажить общее бессилие либерального направления в литературе. Всей своей фигурой, всеми своими стихами Конрад Лилиеншвагер должен был наглядно подтверждать ту мысль Добролюбова, которую он повторял из статьи в статью; «Бесполезны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла без уничтожения самого корня его».
Одна литературная маска привела за собой другую. В третьем номере «Свистка» появилось сообщение от редакции, где говорилось следующее: «Известный нашим читателям поэт г. Конрад Лилиеншвагер… доставил нам коллекцию австрийских стихотворений; он говорит, что перевел их с австрийской рукописи, ибо австрийская цензура некоторых из них не пропустила… Стихотворения эти все принадлежат одному молодому поэту – Якову Хаму, который, как по всему видно, должен занять в австрийской литературе то же место, какое у нас занимал прежде Державин, в недавнее время г. Майков, а теперь г. Бенедиктов и г. Розенгейм». В заключение редакция «Свистка» прибавляла: «Если предлагаемые стихотворения удостоятся лестного одобрения читателей, – мы можем представить их еще несколько десятков, ибо г. Хам очень плодовит, а г. Лилиеншвагер неутомим в переводе…»
Разумеется, все это была отлично придуманная шутка, однако в ней заключался серьезный смысл. По мысли Добролюбова, Яков Хам должен был изображать поэта-монархиста, преданного царствующей династии (очевидно, по этой причине он и мог бы занять в «австрийской литературе» то место, которое в разное время занимали Державин и Майков, поэты, слагавшие стихи в честь самодержцев). Австрия представляла собой в то время абсолютную монархию и в качестве таковой нередко служила для русских публицистов условным обозначением некоторых понятий, недопустимых в тогдашней печати. Об австрийском режиме, об австрийской цензуре говорили, имея в виду те же явления на русской почве. Вспомним, что еще в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов иронически упоминал об «австрийской подозрительности». Так возник и образ «австрийского поэта» Якова Хама, пишущего стихи на несуществующем «австрийском языке».
Добролюбов не мог открыто нападать на поэтов реакционно-славянофильского лагеря, прославлявших устои крепостнического государства, а в годы недавней Крымской войны певших казенно-патриотические гимны во славу дутого могущества самодержавия. Поэтому ему приходилось прибегать к выдумкам; необходимость заставляла изощряться в остроумии, хотя далеко не всегда эта необходимость совпадала с веселым настроением. Как раз в это время Добролюбов жаловался в одном из писем: «Ужасно приятно сочинять остроумные статейки, в то время, когда плакать хочется каждую минуту и на сердце кошки скребут».
Добролюбов выдвинул своего «австрийского поэта» в дни, когда в Европе происходили серьезные политические события. В Италии развертывалось освободительное движение, руководимое Дж. Гарибальди. Австрия, давно хозяйничавшая в Италии, поддерживала монархическое правительство Неаполя, выступала против объединения страны, против восставших республиканцев. В соответствии с этим монархист Яков Хам осуждал итальянскую «крамолу», грозил войной и усмирением «непокорных». В стихотворении «Неблагодарным народам», которое с интересом читается и теперь, он писал от имени австрийских «покровителей» Италии:
Не стыдно ль вам, мятежные языки,
Восстать на нас? Ведь ваши мы владыки!
Мы сорок лет оберегали вас
От необдуманных ребяческих проказ;
Мы, как детей, держали вас в опеке
И так заботились о каждом человеке,
Что каждый шаг старались уследить
И каждое словечко подхватить…
…Мы братски не жалели ничего
Для верного народа своего:
Наш собственный язык, шпионов, гарнизоны,
Чины, обычаи и самые законы, —
Все, все давали вам мы щедрою рукой…
И вот чем платите вы Австрии родной!
Не стыдно ль вам? Чего еще вам нужно?
Зачем не жить по-прежнему нам дружно?
Иль мало наших войск у вас стоит?
Или полиция о деле не радит?..
С помощью стихов «австрийского поэта» на итальянские темы Добролюбов давал своим читателям представление о том, как относится революционная демократия к событиям, сотрясавшим Апеннинский полуостров: нечего и говорить, что деятели «Современника» с глубоким сочувствием следили за успехами повстанцев. В то же время Добролюбов не забывал, что прямые рассуждения о подавлении мятежей, о «безумных», требующих свободы, о короле, который надеется поддержать порядок с помощью полиции, были весьма необычны для русской печати и потому воспринимались с особым чувством. И как бы Яков Хам ни восхвалял неаполитанского короля Франциска, русские читатели понимали истинный характер этих похвал и невольно проводили аналогии – те самые, которые нужны были Добролюбову.
Утешься, бедная Италия:
Закон и правду возлюбя,
Франциск не даст разлиться далее
Злу, обхватившему тебя.
Он понимает все опасности
Льстить черни прихотям слепым:
Ни конституции, ни. гласности
Не даст он подданным своим!
Не переменит он юстицию,
Не подарит ненужных льгот,
Не обессилит он полицию,
Свой нерушимейший оплот…
Читая эти стихи, нельзя было не подумать о российском монархическом режиме. Но еще более откровенно Добролюбов переводил разговор на русские темы, когда устами того же Якова Хама пародировал верноподданническое стихотворение Аполлона Майкова, прославлявшее Николая I: он почти дословно повторял майковские стихи, но вместо России подставлял Италию, вместо Николая – прежнего правителя Фердинанда, а в заключение упоминал о его здравствующем сыне и преемнике Франческо, явно намекая на нового российского «Атланта» – Александра II, продолжающего «традиции» отца-деспота. Обращаясь к королевским воинам с призывом покарать «крамольников», восставших на острове Сицилия, автор пародии заверял их в том, что в Италии восторжествует
Тот вечный идеал законного порядка,
При коем граждане покоятся так сладко,
Который водворить старался Фердинанд,
Которого достичь решительно и резко—
Предначертал себе и новый наш Атлант. —
Средь бед отечества незыблемый Франческо!
Для тех, кто знал стихотворение Майкова, появившееся во время Крымской войны, смысл этих строк был совершенно ясен. Так Добролюбову и в подцензурной печати удавалось касаться Наиболее рискованных вопросов и самых запретных тем.
Третий пародийный «поэт», созданный Добролюбовым – Аполлон Капелькин, – выступил в «Свистке» с циклом стихов, озаглавленным «Юное дарование, обещающее поглотить, всю современную поэзию».
Смысл этого заглавия состоял в следующем: «юное дарование» отличалось необычайной разносторонностью. Аполлон Капелькин писал и наивные – по молодости – стихи, невольно оказавшиеся пародиями на «чистых» лириков – Майкова, Случевского, Фета; и упражнялся в обличительном жанре; и сочинял приторно-либеральные вирши.
Это разнообразие интересов «юного дарования», по замыслу Добролюбова, должно было соответствовать разным враждебным течениям, грозившим «поглотить всю современную поэзию». С точки зрения демократа эти течения имели общую реакционно-дворянскую основу и потому легко совмещались в одном собирательном образе поэта Аполлона Капелькина.
Добролюбов разоблачал в его лице антинародную сущность всей дворянской поэзии и в особенности ее либерального крыла. В своем письме в редакцию «Свистка» восторженный Капелькин рассказывал, что он пребывает в самом радужном настроении и преисполнен розовых надежд. В таком настроении он вдруг услышал однажды заунывную крестьянскую песню. У него тотчас родился вопрос: «Отчего же она уныла, когда все кругом так весело?» Нет, – сказал я сам себе, – я должен во что бы то ни стало отыскать в ней веселые звуки. И представьте силу таланта – отыскал!»… Либеральный поэт не захотел слушать долгие, тоскливые песни пахаря, поющего о своей горькой доле:
Не хочу я слышать звуков горькой жалобы,
Тяжкого рыдания и горячих слез…
Сердце бы иссохло, мысль моя упала бы,
Если б я оставил область сладких грез…
Подобно многим другим поэтам того времени, юный лирик отрешился от жизни и погрузился в мир грез; этого оказалось достаточным, чтобы грустная песня труженика стала казаться ему веселой и радостной («…И напев тоскливый счастьем отзывается…»).
Так Добролюбов средствами сатиры боролся против искусства, чуждого народу, против тех, кто отрывал литературу от жизни, от передовых идей времени. Образы трех «поэтов», созданные им на страницах «Свистка», служили этой цели. Приемами политической сатиры Добролюбов разоблачал либерализм во всех его проявлениях. На страницах «Свистка» он предавал беспощадному осмеянию «слово гнилое и праздное». В одном программном стихотворении Добролюбов писал от имени «Свистка», который должен был появиться после большого перерыва:
И ныне явлюсь я к читателю снова;
Хочу наградить я его за терпенье,
Хочу я принесть ему свежее слово,
Насколько возможно в моем положенье…
Читатель понимал, что значит эта оговорка: положение передового журнала было тем труднее, чем больше «свежих слов» он хотел принести своему читателю. И Добролюбов прямо говорил в тех же стихах, что «Свисток» мог бы свистеть ещё громче, еще сильнее, если бы ему дали волю:
…Плясать бы заставил я дубы
И жалких затворников высвистнул к воле,
Когда б на морозе не трескались губы
И свист мой порою не стоил мне боли.
Цензура жестоко преследовала сатирический отдел журнала, пытаясь ограничить его влияние. Но «Свисток» делал свое дело и, несмотря на все препятствия, умел завоевать громадный авторитет в обществе. По мнению «Современника», его «свист» можно было заглушить только звоном «Колокола» из Лондона.
Лучшим свидетельством силы и действенности добролюбовской сатиры может служить та ненависть, которую вызывал «Свисток» во вражеском стане. Кто-то подсчитал, что в одном только его выпуске было задето (то есть названо по именам) больше ста человек. Очень многие, не названные прямо, принимали намеки и выпады «Свистка» на свой счет и с беспокойством ждали появления очередного номера. И неудивительно, что о «Свистке» говорили, чуть ли не скрежеща зубами. Его называли «балаганным отделом» «Современника», негодовали по поводу «зубоскальства» и «гаерства» на страницах солидного журнала. Отклики были самые разнообразные – и печатные, и устные, и письменные; был даже случай, когда после выхода очередной книжки журнала со «Свистком» на дверях добролюбовской квартиры появилась надпись «Безнравственный семинарист».
XVII. «СУД БЕСПОЩАДНЫЙ» НАД ОБЛОМОВЩИНОЙ
 начале июня 1859 года Некрасов, вернувшись поздно ночью из клуба, зашел к Добролюбову и сообщил ему, что в «Колоколе» появилась статья против «Современника», осуждающая его борьбу с либеральным обличительством, «гласностью» и т. п. Это известие сильно взволновало Добролюбова. Сначала он просто не мог поверить Некрасову. Привыкший ко всяким ударам, он меньше всего ждал его с этой стороны – от Герцена, к которому издавна относился с уважением, как к учителю и верному союзнику. «Нужно поскорее достать «Колокол» и прочесть статью, и затем решиться, что делать», – записал Добролюбов в дневнике.
начале июня 1859 года Некрасов, вернувшись поздно ночью из клуба, зашел к Добролюбову и сообщил ему, что в «Колоколе» появилась статья против «Современника», осуждающая его борьбу с либеральным обличительством, «гласностью» и т. п. Это известие сильно взволновало Добролюбова. Сначала он просто не мог поверить Некрасову. Привыкший ко всяким ударам, он меньше всего ждал его с этой стороны – от Герцена, к которому издавна относился с уважением, как к учителю и верному союзнику. «Нужно поскорее достать «Колокол» и прочесть статью, и затем решиться, что делать», – записал Добролюбов в дневнике.
Статья Герцена называлась «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!») и содержала резкие выпады против руководителей «Современника», упреки в отсутствии «гражданского чутья», в неспособности оценить первые успехи едва народившейся гласности, в попытках заглушить ее свистками и окриками. «По этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею», – восклицал Герцен, в своём заблуждении полагавший, что деятельность Добролюбова могла быть… выгодной правительству. Невозможно было представить себе большую несправедливость По отношению к русским революционерам. Ошибка Герцена объяснялась его временными либеральными колебаниями, а еще больше оторванностью от русской жизни. На расстоянии он принял либеральный туман, напущенный «обличителями» и поборниками мнимого «прогресса», за подлинное пробуждение русской общественности.
Добролюбов верно оценил политический смысл ложной позиции Герцена и тогда же записал в дневнике: «Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался, и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них, на уме мирный прогресс при инициативе сверху,» В этой записи знаменательны те слова, которыми Добролюбов определяет собственную деятельность: «призыв к революции». Этими словами Добролюбов, несомненно, хотел охарактеризовать прежде всего свои выступления, которые явились одним из главных поводов для резкого отклика со стороны Герцена («Свисток», статья «Литературные мелочи прошлого года» и др.).
Статья Герцена в «Колоколе» серьезно встревожила редакцию «Современника». Несправедливая по существу, она могла создать впечатление глубокого раскола в демократическом лагере, могла нанести ущерб авторитету революционеров. Кому-то из руководящих деятелей «Современника» предстояло отправиться в Лондон, чтобы объясниться с Герценом, выяснить недоразумение, а может быть, и договориться о единой линии в борьбе. Первым вызвался поехать Добролюбов – он готов был двинуться немедленно. Но в конце концов было решено, что поедет Чернышевский. Прямую цель его поездки окружили строжайшей тайной: о ней знали в редакции всего три-четыре человека.
Встреча Чернышевского с Герценом в Лондоне и переговоры с ним, как известно, не получили почти никакого отражения в документах того времени. Вот почему историки, потратив немало усилий, чтобы раскрыть содержание этого эпизода, до сих пор вынуждены ограничиваться лишь догадками и предположениями относительно тех вопросов, которые обсуждались двумя революционерами. Достоверно лишь то, что, пробыв в английской столице почти пять дней, Чернышевский отправился в обратный путь, неудовлетворенный результатами своей поездки. Тем не менее нельзя считать, что она была вовсе бесполезной. Немаловажным ее результатом был уже тот факт, что в одном из ближайших номеров «Колокола» Герцен опубликовал специальное разъяснение, где в известной мере признавал ошибочность своей предыдущей полемической статьи. Называя деятелей «Современника» «нашими русскими собратьями», Герцен писал: «Нам бы чрезвычайно было больно, если бы ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек».[19]19
То есть по поводу статьи «Very dangerous».
[Закрыть]
Это и последующие выступления издателя «Колокола» подтвердили, что, расходясь со своими собратьями в России по тактическим вопросам, он все же шел к правильному пониманию исторической роли нового поколения революционной молодежи, что он сумел увидеть и оценить пробуждение революционного народа у себя на родине. Герцен понял ошибочность своей позиции в споре с «Современником» и всей дальнейшей борьбой против самодержавия показал, на чьей стороне были его симпатии.
Как реагировал на выступление «Колокола» Добролюбов? Трудно допустить, чтобы он, прирожденный полемист, человек непоколебимый в своих убеждениях, к тому же еще непосредственно задетый статьей «Very dangerous!!!», ограничивался ролью пассивного наблюдателя. Трудно поверить, чтобы Добролюбова, который сам рвался в Лондон, могла удовлетворить поездка туда Чернышевского. Вернее предположить, что он должен был и самостоятельно возразить Герцену, – он не мог промолчать, ибо чувствовал себя обязанным высказать свое отношение к статье «Колокола».
Добролюбов имел возможность сделать, это двумя способами: непосредственно обратиться к Герцену или попытаться ответить ему на страницах «Современника». Можно думать, что он использовал обе эти возможности. Правда, точных сведений о том, было ли им написано письмо в Лондон, у нас нет. Однако в литературе существует очень важное, хотя и недостаточно изученное указание на этот счет. В брошюре А. Серно-Соловьевича, изданной за границей в 1867 году и представляющей собой открытое письмо к Герцену, есть такие строки:
«Позвольте посоветовать вам перечесть письмо Добролюбова к вам по этому поводу оно лучше, чем что-нибудь, должно освежить в вашей памяти давно забытые воспоминания…»[20]20
А. Серно-Соловьевич. Наши домашние дела. Вече, 1867, стр. 29.
[Закрыть]
Эти слова – единственное известное до сих пор упоминание современника о письме Добролюбова к Герцену; их, разумеется, недостаточно, чтобы признать решенным вопрос о существовании этого письма. Но нельзя и не считаться с тем, что свидетельство принадлежит человеку, близко стоявшему к кружку «Современника» и, несомненно, осведомленному в подпольных связях кружка.
Что же касается возможности ответить Герцену на страницах журнала, то Добролюбов, конечно, не мог сделать это открыто. Однако с присущей ему находчивостью он успел вписать в уже готовую к выходу в свет июньскую книжку «Современника» (1859) специальную вставку, где содержался очень сдержанный, но весьма недвусмысленный ответ Герцену. «Нас многие обвиняют, – писал здесь критик «Современника», – что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью; но мы никому не уступим в горячей любви к обличению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то ведь и смех наш происходит: мы хотим более цельного и основательного образа действий, а нас потчуют какими-то ребяческими выходками, да еще хотят, чтоб мы были довольны и восхищались» (рецензия на сборник «Весна»).
Стремлением к «более основательному образу действий», ненавистью К прекраснодушию и либеральной болтовне, презрением демократа к белоручкам и тунеядцам была проникнута статья Добролюбова, появившаяся в майской книжке «Современника». Эта статья называлась «Что такое обломовщина?». Она представляла собой важнейший программный документ борьбы революционной демократии против дворянско-крепостнической России и как бы подводила итог всей предыдущей деятельности Добролюбова по разоблачению дворянского либерализма.
Роман Гончарова «Обломов» дал критику возможность поднять серьезные политические вопросы. Добролюбов широко применил здесь свой излюбленный метод литературно-политического анализа: используя черты действительности, отраженные в романе, опираясь на них, как на авторитетное свидетельство честного художника-реалиста, он сделал революционные выводы, которых не мог иметь в виду автор романа. Разобрав характер главного героя, критик с суровой беспощадностью обнажил его классовую природу помещика-эксплуататора, живущего трудом крепостных. «…Гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, – развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обусловливаются, что кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу».
Удивительное сочетание в Обломове барства и крайнего нравственного рабства – отнюдь не только индивидуальная особенность Ильи Ильича, Добролюбов подсказывал читателю, что именно в этом проявилось дошедшее до предела историческое вырождение дворянства как общественного класса. Образ тунеядца в засаленном халате, проводящего всю свою жизнь на старом диване, неспособного ни к какому делу, разве это не олицетворение обреченной на гибель крепостнической России?
Добролюбов стремился подчеркнуть в своей статье тот факт, что в образе Обломова показан самый процесс деградации дворянства. С этой целью критик ввел в статью литературную «родословную» гончаровского героя. Еще Белинский сравнивал Онегина с Печориным, а позже – Печорина с Бельтовым. Добролюбов, следуя Белинскому, ставит этих персонажей в один ряд с Обломовым и приходит к выводу, что «родовые черты обломовского типа» можно найти еще в Онегине. «Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают от того, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым».
Внимательный, непредубежденный читатель мог найти в статье Добролюбова строки, из которых следовало, что критик видел и существенную разницу между Обломовым и его предшественниками. Так, Добролюбов писал, что от обломовского типа «не мог отделаться ни один из наших серьезных художников. Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломовым». Добролюбов, как видно из этих слов, прекрасно понимал, что Онегин, Печорин и другие литературные герои, вплоть до Обломова, каждый по-своему становились в определенные, отношения к жизни и получали соответственное этому общественное значение. Однако автора статьи «Что такое обломовщина?» мало интересовали эти различия, он упоминал о них только затем, чтобы дать картину развития типа «лишнего человека», нарисовать процесс перерождения Онегина в Обломова. При этом, естественно, на передний план были выдвинуты общие всем этим героям «родовые» черты, сам же тип получил название не по имени родоначальника, а по имени своего последнего представителя – Обломова.
Добролюбов, как и Чернышевский, давший аналогичную характеристику героям дворянской литературы в статье «Русский человек на rendez-vous» (1858), понимал их положительное значение для своего времени, но в момент, когда писалась статья об «Обломове», главной задачей демократической критики было разоблачение либерализма, а это требовало решительного развенчания «лишних людей», людей фразы, неспособных ни на какое полезное для общества дело.
Сильные стороны романа Гончарова были не только заслугой автора, но и результатом новых общественных условий, сложившихся в России к концу 50-х годов. Появление Обломова, по мнению Добролюбова, «было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознание о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является перед нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом…» В новых условиях перед читателем неизбежно возникали вопросы: что же делает этот сонный герой, облаченный в просторный халат? В чем смысл и цель его жизни? Почему он лежит на диване, когда в России настало «время работы общественной»? Острота этих вопросов, не поднимавшихся прежде, указывала на то, сколь значителен был роман, о котором заговорил Добролюбов.
Как бы дорисовывая портрет гончаровского героя, придавая ему обобщающий смысл, Добролюбов делает его символом паразитизма всего помещичьего сословия. Емкость образа позволила критику выступить со страстным революционным обличением всех общественно бесполезных людей, либеральных болтунов, всех, у кого в жизни нет такого дела, которое было бы для них «жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них, значило бы лишить их жизни».
Мы помним, Добролюбов прежде опирался на щедринское определение «талантливых натур», подразумевая под ним всю никчемность и общественную бесполезность дворянского сословия. Теперь в его распоряжении было еще более выразительное и всеобъемлющее понятие – обломовщина. Наполнив это понятие глубоким содержанием, придав ему значение символа, характеризующего все косное, пассивное, отсталое, все, что мешает развиваться, двигаться вперед, Добролюбов дал в руки молодой России острое оружие против старого мира, – недаром этот мир откликнулся злобным воем на статью об обломовщине. Новым оружием воспользовался прежде всего сам Добролюбов, принявшийся разоблачать обломовщину в ее разнообразных проявлениях:
«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, – я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
…Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это все пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих всё те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку…»
Добролюбов предупреждал, что «старая Обломовка», вопреки мнению Гончарова, вовсе не отжила свой век и что для нее рано еще писать «надгробное слово». В позднейших своих статьях критик продолжал беспощадно судить людей, «сильно захваченных обломовщиной», он по-прежнему старался выставлять наружу весь ее вред, «всю гадость, всю презренность», он указывал, насколько она пагубно влияет на молодое поколение.
Статья, посвященная роману Гончарова, сразу же получила широкое признание в кругах, передовых читателей. Сам автор «Обломова», далекий от политических позиций «Современника», тем не менее высоко оценил критический талант Добролюбова и признал, что он написал «отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину». Вскоре после появления этой статьи Гончаров писал П. В. Анненкову: «Взгляните, пожалуйста, статью Добролюбова об Обломове; мне кажется об обломовщине – т. е. о том, что она такое – уже сказать после этого ничего нельзя. Он это, должно быть, предвидел и поспешил напечатать прежде всех. Двумя замечаниями своими он меня поразил: это проницанием того, что делается в представлении художника. Да как он – не художник – знает это? Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском… Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше».
Действительно, Добролюбов с необычайным искусством проанализировал образ Обломова и показал, в каких условиях жизни сформировался этот человек; он показал также, что в его индивидуальном облике воплотился некий социальный характер, что Илья Ильич Обломов – вовсе не редкостная аномалия, а совершенно определенный социально-психологический тип, в котором сгустились и отчетливо выявились многие существенные черты помещика предреформенной эпохи. Честность, добродушие и другие умилительные качества Ильи Ильича – это только детали, индивидуальные признаки характера, а не главные его стороны. Обломов, сколько бы он ни красовался, ни прекраснодушничал, – законченный тунеядец, и это самое главное в его характеристике.
Очевидно, что роман о таком герое мог появиться только в условиях ясно обозначившегося кризиса самодержавно-крепостнического строя. Вот почему Добролюбов увидел в нем «знамение времени».
Кто же противостоит в романе Обломову? Прежде всего Штольц. Эта фигура не может нас удовлетворить, говорит критик. Штольц не тот человек, который, выражаясь словами Гоголя, сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: «вперед» (читателю статьи было ясно, что в устах Добролюбова гоголевские слова означали: «вперед, к революционному действию!»). Штольц – человек как будто бы активный, что решительно отличает его от Обломовых, но чем он занят, в чем состоит его практическая деятельность – этого писатель не показывает. Критик не винит автора, а объясняет недостаток романа объективными условиями: «литература не может забегать слишком далеко вперед жизни», а в жизни еще нет людей с цельным, деятельным характером, способных сказать «всемогущее слово».








