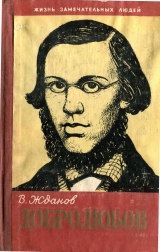
Текст книги "Добролюбов"
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
XI. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОПАГАНДИСТ
 овый, 1857 год Добролюбов встречал у Галаховых. Он продолжал заниматься с 14-летним Алексеем и довольно часто бывал в этом доме, где его принимали гостеприимно. Однако Николай Александрович, может быть, еще острее, чем раньше, ощущал себя чужим в семье крупного петербургского чиновника и помещика. Дневниковые записи начала года пестрят критическими замечаниями по адресу С. П. Галахова и его друзей. Из этих записей видно, что Добролюбов прекрасно понимал хозяина дома и знал цену «либеральным» выходкам, которыми тот любил иногда озадачить своих гостей. Добролюбов видел достоинство Галахова уже в том, что он «хоть не говорит подлостей», как некоторые из его знакомых. «Если он и не в состоянии для правды пожертвовать тем, что имеет, то, по крайней мере, может отказаться от выгод, которые мог бы получить от подлости».
овый, 1857 год Добролюбов встречал у Галаховых. Он продолжал заниматься с 14-летним Алексеем и довольно часто бывал в этом доме, где его принимали гостеприимно. Однако Николай Александрович, может быть, еще острее, чем раньше, ощущал себя чужим в семье крупного петербургского чиновника и помещика. Дневниковые записи начала года пестрят критическими замечаниями по адресу С. П. Галахова и его друзей. Из этих записей видно, что Добролюбов прекрасно понимал хозяина дома и знал цену «либеральным» выходкам, которыми тот любил иногда озадачить своих гостей. Добролюбов видел достоинство Галахова уже в том, что он «хоть не говорит подлостей», как некоторые из его знакомых. «Если он и не в состоянии для правды пожертвовать тем, что имеет, то, по крайней мере, может отказаться от выгод, которые мог бы получить от подлости».
Столь же показателен отзыв о некоем Мартынове, с которым Добролюбов, встречался у Галаховых. Первого января, на другой день после встречи Нового года, он с негодованием отметил в дневнике, что Мартынову свойственно «в высшей степени апатичное и бессмысленное презрение к русскому народу… Он уверяет…что крестьян не надо учить грамоте потому, что они, как только выучатся, так своих знаний ни на что иное не употребляют, кроме ябеды…» Естественно, что среди людей с таким образом мыслей Добролюбов не мог не чувствовать себя чужим и одиноким.
Однажды за обедом у Галаховых заговорили на тему о богатстве; Добролюбов, не принимавший участия в общем разговоре, вдруг с необычайной силой ощутил всю глубину социальной несправедливости, царящей в мире. В его дневнике на другой день появилась такая запись: «…подумал я, что много есть людей, которые и мне могут позавидовать за то, что я каждый день могу есть мясо и пироги, ездить на извозчиках, иметь теплый воротник на шинели и т. п. А пожалуй, найдутся и такие, которые позавидуют даже имеющим возможность есть хлеб каждый день… Мысли эти меня очень грустно потревожили, и социальные вопросы показались мне в эту минуту святее, чем когда-нибудь».
Спустя несколько дней после обеда у Галаховых он сидел на лекции Срезневского, и вдруг по поводу какого-то слова, случайно оброненного профессором, у него «родился целый ряд идей о том, как можно бы и как хорошо бы уничтожить это неравенство состояний, делающее всех столь несчастными, или, по крайней мере, повернуть все вверх дном, авось потом как-нибудь получше уставится все…»
Где бы ни был Добролюбов, что бы он ни делал, с кем бы ни говорил, – мысль его всегда с железным постоянством возвращалась к «социальным вопросам». Он не забывал о них и в те минуты, когда дело касалось его личной жизни. В один прекрасный день он ощутил в себе тревожное движение сердца, напомнившее о том, что молодость всегда есть молодость. Это несказанно удивило и даже испугало его: «Странное дело: несколько дней назад я почувствовал в себе возможность влюбиться; а вчера, ни с того, ни с сего, вдруг мне припала охота учиться танцовать… Чорт знает, что это такое… Как бы то ни было, а это означает во мне начало примирения с обществом… Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению: чтобы сделать что-нибудь, я не должен убаюкивать себя, не делать уступки обществу, а напротив, держаться от него дальше, питать желчь свою…»
Так сильно было развито в нем чувство долга, так беспредельна была, его преданность одной идее, ставшей целью и смыслом всей жизни, что возможность хоть в чем-то «примириться с обществом», сделать ему хотя бы ничтожную уступку пугала его, как измена своему делу, своим взглядам.
И еще одна знаменательная черта окончательно сложилась в его характере – стремление распространять свои убеждения, искать и воспитывать единомышленников, союзников и «сообщников». Эта черта была всегда ему присуща; вся деятельность его в студенческом кружке носила также ярко выраженный пропагандистский характер – достаточно вспомнить газету «Слухи». Теперь же его интересы вышли далеко за пределы кружка. В последний год студенческой жизни Добролюбов сформировался как опытный пропагандист и революционный агитатор. Он сам отметил в дневнике 19 января 1857 года: «Мои убеждения могут возбуждать людей: в этом недавно убедило меня письмо Василькова, а сегодня новым доказательством послужил разговор с Александровичем…»
Добролюбов всегда помнил, что Васильков в свое время повлиял на его развитие (перед отъездом из Нижнего). Мы знаем, что между ними возникла некоторая идейная близость и взаимное понимание, что они вместе читали и обсуждали письмо Белинского к Гоголю. Потом началась переписка, несомненно носившая политический характер, – об этом говорит хотя бы тот факт, что Васильков посылал свои письма в Петербург не иначе как с «оказией», опасаясь доверить их почте; и не случайно, конечно, от этой переписки не сохранилось никаких следов. Летом 1856 года Добролюбов послал Василькову «призывное письмо», а затем «тетрадку с сочинениями Искандера». В январе 1857 года тот вернул эту тетрадку с Митрофаном Лебедевым, приехавшим в Петербург по делам; с ним же Флегонт прислал и письмо, еще раз доказавшее Добролюбову, что его убеждения могут «возбуждать людей». Прочитав письмо, он отметил в дневнике, что оно написано «не совсем определенно», но тем не менее очень многое ему объяснило. «Я не должен оставлять этого человека…» – прибавляет Добролюбов.
Разговор со студентом Александровичем, упомянутый в дневнике, касался литературных вопросов. Лежа у себя в спальне, два товарища однажды рассуждали «о чистом и о дидактическом направлении искусства». Выяснилось, что Александрович презирает «чистое», «бесцельное» искусство и целиком стоит за дидактизм (под этим словом разумелась идейная направленность искусства, его политическая тенденция), но в то же время не умеет избавиться от ложной мысли, будто дидактизм придает мертвенность и холодность поэтическому произведению. Добролюбов разъяснил недоумение Александровича так: «…дидактизм отвлеченный, головной, нужно отличать от дидактизма, перешедшего в жизнь, в натуру поэта, в инстинктивное чувство добра и правды, чувство, придающее жизнь, энергию и поэзию произведению гораздо более, нежели просто какое-нибудь чувство природы или безотчетного наслаждения красотой и т. п.».
Добролюбов выразил здесь мысль, которую позднее неоднократно развивал в критических статьях. Эта мысль поразила Александровича своей глубиной и справедливостью, и он тут же попросил позволения записать все, что высказал Добролюбов. Последний был доволен успехом своих рассуждений и, видимо, после разговора с товарищем написал статью на ту же тему, озаглавив ее «Нечто о дидактизме в повестях и романах». Статья эта осталась ненапечатанной при жизни автора, хотя она написана превосходно и дает ясное представление о литературно-критических воззрениях Добролюбова в студенческие годы». Продолжая традиции Белинского, молодой кри тик защищал принципы реализма и народности, доказывал, что литература только тогда приобретет серьезное значение в духовной жизни народа, когда ее произведения наполнятся живым, современным общественным содержанием, а не будут «праздными порождениями прихотливой фантазии».
В этих своих ранних суждениях о месте и значении литературы в обществе Добролюбов выступал как последовательный революционный демократ, ученик Белинского и соратник Чернышевского. Он оставался страстным пропагандистом революционных идей, когда говорил или писал на литературные темы.
К этому времени Добролюбов имел обширный круг знакомых, число которых увеличивалось с каждым днем. Он поддерживал старые связи с несколькими петербургскими семьями, знал множество студентов, причем не только из своего института, но и из университета, из Медико-хирургической академии и т. д.; он не упускал случая поговорить даже со случайно встретившимся человеком. Можно без преувеличения сказать, что Добролюбов старательно вербовал единомышленников в самых разных общественных кругах, среди самых различных людей. Всюду выступал он в качестве неутомимого пропагандиста. В дневнике нашла отражение, разумеется, только небольшая часть эпизодов, рисующих его в этой роли.
Вот примеры, относящиеся только к началу 1857 года. 7 января он зашел к студенту университета Решеткину. На другой день в дневнике появилась запись: «Этот молодой человек успешно развивается… Уважение к разумным убеждениям уже сильно в его душе. Мы толковали с ним о несоразмерности состояний, о роскоши, о браке, и он совсем не чуждается радикальных объяснений, которые я делал ему на этот счет. В глубине души он даже сочувствует им…»
Девятнадцатого января Добролюбов долго, разговаривал со своим однокурсником Николаем Преображенским. «Я толковал ему о необходимости стать в ближайшее соприкосновение с жизнью и обратить свою наблюдательность на жизненные интересы, а не на отвлеченные воззрения…» Эти советы характерны для Добролюбова: его все более властно охватывала жажда настоящей деятельности, он все более укреплялся в своем отвращении к «книжной сосредоточенности» и отвлеченным стремлениям.
Двадцать второго января он встретил в Александро-Невской лавре неповоротливого и гнусавого архиерея Феофила, бывшего прежде ректором Нижегородской семинарии. Добролюбов и тут не отступил от своих правил: он немедленно начал ругать преосвященного Иеремию, критиковал его распоряжения, а затем стал нападать «на произвол, на официальную формальность, пренебрежение к личности и т. п.». Чем руководствовался при этом молодой агитатор? Ведь не думал же он обратить толстого Феофила в свою веру, хотя тот и поддакивал ему и со многим соглашался? Ответ на это содержится в дневнике: «Влияния большого, конечно, мои слова не могут иметь, Но все-таки, может быть, он и вспомнит их когда-нибудь…»
Шестнадцатого января к нему явился Митрофан Лебедев, только что приехавший из Нижнего, чтобы поступить на службу. Это был человек по-своему замечательный, по выражению Добролюбова. Из него не вышел поэт, хотя он и писал стихи в семинарии; зато он оказался талантливым самоучкой-изобретателем и в качестве такового придумал какое-то усовершенствование в огнестрельном оружии. Счастье улыбнулось Лебедеву: его вызвали на Сестрорецкий оружейный завод (под Петербургом), и хотя изобретение не было принято, однако ему предложили там работать.
Добролюбов с некоторым удивлением узнал об этом; он считал, что ограниченность интересов и неразвитость его бывшего товарища, а теперь и родственника (сестра Лебедева вышла замуж за дядю Добролюбова, Василия Ивановича) мешают ему стать творческим человеком. «Оно, конечно, ружье – штука не философская, но все-таки изобретение и смирение разума как-то в голове моей не совмещались». Когда же Лебедев пришел, то Добролюбов с великой радостью прочел в его глазах «пробуждающуюся мысль». Проговорив с ним полчаса, он понял, что влияние Флегонта Василькова, с которым общался Лебедев в Нижнем, дало благотворные результаты: «Митрофан мой не то, что был прежде. Два года тому назад читал я ему стихи «Русскому царю», и он ужасался, теперь он готов и даже стремится читать все, что только может указать ему истину, и просил меня руководить его чтениями. Увидим».
Через несколько дней Лебедев получил от своего товарища книгу Герцена «О развитии революционных идей в России».
* * *
Как-то в начале января профессор латинской словесности Благовещенский, перед тем как приступить к лекции, подозвал к себе студента Добролюбова и сказал, что он порекомендовал его некоему Татаринову в качестве домашнего учителя для его пятнадцатилетней дочери. Это обрадовало и взволновало Добролюбова. Ему очень недоставало тепла, уюта, ласки. Собираясь на другой день ехать на Моховую к Татариновым, он записал: «Что, если она хорошенькая и умная девушка?.. Что, если это доброе и радушное семейство?.. В теперешнем своем настроении я рад всякой живой душе, которой мог бы говорить о своих душевных тревогах…»
В шесть часов вечера, полный надежд и опасений, он предстал перед усатым симбирским помещиком, недавно приехавшим в Петербург с женой и дочерью. После нескольких слов новый знакомый, свирепый только на первый взгляд, понравился Добролюбову. Он имел университетское образование и оказался человеком довольно свободных взглядов; в ответ на осторожные вопросы о характере будущих занятий он прямо заявил, что учитель может внушать ученице все, что считает справедливым, не стесняясь «ни православием, ни монархизмом». Это очень обрадовало Добролюбова, и он сказал:
– В таком случае занятия с вашей дочерью будут для меня истинным наслаждением.
Тут же выяснилось, что Татаринов, будучи сам помещиком, тем не менее «стоит за освобождение крестьян». Уважение к нему Добролюбова возросло еще больше, когда он узнал, что после столкновения с симбирским губернатором его новый знакомый был сослан в деревню и в этой связи приобрел репутацию опасного вольнодумца. Впоследствии, в конце 50-х годов, он был привлечен к работе по подготовке крестьянской «реформы» и сблизился со многими либеральными деятелями того времени; в его доме собиралось большое общество, велись разговоры на тему о предстоящем «освобождении»; случалось бывать здесь и Добролюбову, тогда уже известному публицисту, – он появлялся в этом либерально-дворянском салоне для того, чтобы узнавать самые последние новости от людей, близко стоящих к правительственному комитету по крестьянским делам.

В Г Белинский

А И Герцен.
На другой день после первого знакомства Добролюбов пришел на урок к Наташе Татариновой. Он встретил застенчивую, неловкую, краснеющую девушку, почти бессловесную от смущения. Мы знаем об этом не только из записей в добролюбовском дневнике, но и со слов самой Наташи. В своих воспоминаниях она так рассказывает о первом уроке:
«…Добролюбов подумал немножко, посмотрел на меня через очки и заговорил. «Как он смотрит, – подумала я, – на молодого не похож». Когда я теперь припоминаю выражение его взгляда, я нахожу, что это замечание было довольно верно. Его небольшие, не помню, серые или карие глаза смотрели совершенно спокойно, как редко смотрят глаза у молодых людей.
– Мы с вами будем заниматься словесностью, – сказал он, – вы, вероятно, уже имеете некоторое понятие о русских писателях?
У меня по обыкновению язык прилип к гортани от робости.
– Да… – прошептала я.
– Каких же писателей вы читали?
Я молчала.
– Может быть, вы. читали что-нибудь из Пушкина, Лермонтова, Гоголя?
– Да…
– Что же именно?
– Все…
– Вот как! Который же из них вам больше нравится?
Я молчала.
– Пушкин, например, вам нравится?
– Да…
– Что же именно из его сочинений вам больше нравится, поэмы ли, проза ли, лирические ли стихотворения?
Я упорно молчала, потупя глаза в землю… В таком роде продолжался весь урок».
Добролюбов перестал задавать вопросы и начал свою лекцию. Больше часа говорил он о русской литературе, проследив ее развитие от древности до последнего времени. Вскоре он обнаружил, что его ученица довольно развита и начитанна. Однако ему очень долго не удавалось найти с ней общий язык. После нескольких уроков Добролюбов записал: «Наташа все молчит и только отвечает на мои вопросы, и то как будто нехотя. Бог ее знает, что нужно, чтобы сколько-нибудь возбудить ее любопытство». Он в первое время: ощущал некоторую неловкость, плохо представляя себе интересы ученицы, и поэтому сам был недоволен занятиями. «До сих пор этого со мной не бывало, – читаем мы в дневнике. – Мне кажется почему-то, что и мной не совсем довольны. Ну, да чорт с ними! Буду делать по-своему, не стесняясь, потому что нужды в них никакой не имею».
И он, стал «делать по-своему», то есть развивать перед юной слушательницей свои излюбленные идеи, толковать о «социальных вопросах», не считаясь с возрастом Наташи (она казалась ему ребенком). Он говорил, например, о русских народных песнях – и не упускал случая упомянуть о грубости семейных отношений в крепостной России, о рабском положении женщины. Рассказывая о русских писателях, он также оставался верен себе: высмеивал Карамзина, который был во Франции во время революции 1789 года, но интересовался только природой; осуждал монархические тенденции у Жуковского; резко отзывался о стихах крепостника Фета и т. д. Касаясь лучших произведений русской литературы, Добролюбов говорил своей ученице:
– Я не буду вам толковать о художественных красотах, обо всем этом и без меня вы будете много слышать и читать. Я же постараюсь выяснить, какая сторона жизни выражалась в таком-то произведении, какие мысли высказал такой-то писатель, были ли у него вообще какие-нибудь мысли.
Вряд ли он возлагал большие надежды на способность помещичьей дочки к восприятию передовых мнений; скорее всего он относился к этому так же, как в случае с архиереем Феофилом; может быть, и вспомнит когда-нибудь его слова… И тем не менее вскоре он заметил, что его лекции вызывают интерес. Тогда и он почувствовал себя увереннее и проще. «Сегодня мне показалось на уроке у Татаринова, что ко мне несколько расположены… Решившись действовать по-своему, я как-то более в своей тарелке, более развязен и положителен в своих замечаниях и способе занятий, нежели я сам ожидал…»
Занятия с Наташей продолжались до самых летних каникул. Добролюбов постепенно привык к новым знакомым. После урока он нередко оставался пить чай и спорить с хозяином дома. Наташа не слушала или не понимала их разговоров, но она запомнила, что отец обычно горячился, а Добролюбов возражал ему тихим, ровным голосом, попивая чай и спокойно взглядывая из-за своих очков. Дольше восьми часов он никогда не оставался. Поднимаясь с места, он объяснял с усмешкой:
– Ведь я еще ребенком считаюсь, в девять часов обязан быть в институте, а туда идти далеко…
Кроме Татариновых и Галаховых, Добролюбов бывал в эту зиму еще в доме князя Куракина, где занимался с двумя мальчиками – Анатолием и Борисом. Благодаря случайности мы подробнее всего знаем о его занятиях с Наташей, Но нет сомнений, что таким же страстным пропагандистом своих идей являлся он и перед другими учениками. Он был глубоко убежден, что воспитатель и должен быть прежде всего пропагандистом, человеком, способным содействовать «пробуждению свободной мысли» в своих воспитанниках. Задачу воспитания он видел в том, чтобы «мало-помалу разрушать авторитеты в душе ребенка», то есть внушать ему с ранних лет ненависть к идейно-моральным устоям старого мира, воспитывать нового человека, стойкого борца против крепостничества и всех: его порождений в области экономической и духовной.
Добролюбов много размышлял над вопросами воспитания. Он внимательно следил за литературой, читал все педагогические статьи, появлявшиеся в журналах, а узнав, что издатель А. А. Чумиков начинает выпускать специальный «Журнал для воспитания», он в январе, 1867 года явился к нему и предложил свои услуги.
Объясняясь с Чумиковым, Добролюбов, по всей вероятности, еще не знал, что несколько лет назад этот человек был активным пропагандистом идей Белинского, общался с членами кружка петрашевцев, разгромленного правительством. В 1851 году Чумиков, находясь в Париже, обратился к А. И. Герцену с предложением опубликовать имевшийся у него текст письма Белинского к Гоголю, строжайше запрещенный в России. Тогда же Чумиков, как установлено в последнее время, выступил в зарубежной печати с информацией о письме Белинского. В штутгартской газете «Das Ausland» 16 августа 1851 года он, впервые излагая историю этого революционного документа, писал что его тайное распространение по всей России свидетельствует о том, что эта страна «вовсе не однообразная пустыня, как многие привыкли ее рассматривать, и что государственная власть уже не в состоянии подавить в ней проявления самостоятельной мысли. Благодаря Чумикову пламенные строки письма Белинского впервые проникли в печать (в переводе на немецкий язык) и стали известны зарубежным читателям.
В разговоре с Добролюбовым Чумиков не произвел на него особого впечатления. Он показался ему человеком простодушным, скромным, «имеющим притязание на честность». Однако, когда Добролюбов поднял вопрос о направлении будущего журнала и насмешливо отозвался о «консерваторстве», Чумиков поддержал собеседника и сказал, что это отвечает и его убеждениям, что он собирается издавать журнал «в либеральном духе»; впрочем, Чумиков: тут же, по словам Добролюбова, добавил, что подобное направление скорее заслужит сочувствий публики и, следовательно, «принесет более выгод».
Добролюбов, усмехнувшись, согласился с этим и начал сотрудничать в журнале, который в самом деле занял прогрессивные позиции в области педагогики: ратовал за необходимость обновления системы воспитания, доказывал, что «каждый простолюдин» должен учиться грамоте, выступал в защиту учителей и т. д. В журнале принимали участие видные литераторы и педагоги, в том числе знаменитый педагог К. Д. Ушинский, профессор П. Г. Редкин и др. Одним из самых активных сотрудников Чумикова стал Добролюбов. На протяжении трёх лет (1857–1859) он напечатал в «Журнале для воспитания» несколько десятков статей и рецензий, посвященных главным образом детской и педагогической литературе. Эти выступления Добролюбова служили украшением журнала, сообщали ему дух боевой принципиальности и то «направление», о котором хлопотал Чумиков.
Добролюбов был непримирим ко всему, что вредило разумному воспитанию детей, ко всем, кто прививал им ложные взгляды на жизнь. Он разоблачал представителей реакционной педагогики вроде Н. А. Миллера-Красовского, автора книги «Основные законы воспитания», видевшего свою задачу в том, чтобы заставить воспитанника «повиноваться без рассуждений», то есть подавить всякое проявление личности в ребенке» Добролюбов жестоко высмеивал Миллера-Красовского как защитника системы телесных наказаний – розог и пощечин; приведя из книги «назидательный» рассказ о том, как некий благоразумный наставник вылечил мальчика Петю от упрямства с помощью «моментального действия», критик добавляет к этому, что почтенному педагогу вполне справедливо присвоено живописное, название – «рыцарь трех пощечин».
Рецензируя детские книжки, Добролюбов сурово бичевал халтуру, невежество, сюсюканье. С особенной, остротой реагировал он на фальшивое освещение «социальных вопросов». Например, попалась ему в руки книжка «Праздничные досуги», где описывалось, как богатые девочки, отправляясь на прогулку, попутно осыпают благодеяниями бедных мальчиков, занятых работой. Изложив содержание такого слащаво-благополучного рассказа, Добролюбов раздраженно замечает: «Маленькое неудобство состоит только вот в чем; бедное дитя трудится, – и все-таки оно бедное; богатое дитя гуляет, – и все-таки оно богатое. К чему же ведет такая мораль?..»
Свои взгляды на воспитание и итоги собственного педагогического опыта Добролюбов наиболее полно изложил в большой статье, озаглавленной «О значений авторитета в воспитании». Он предложил ее Чумикову; однако тот не решился опубликовать статью, которая содержала смелые мысли, изложенные свободно и ярко. Статья не пошла в «Журнале для воспитания», а появилась в печати позднее – в майской книжке «Современника» (1857).
Доказывая необходимость свободного развития человеческой личности, Добролюбов обрушился здесь на тех, кто убивает в ребенке самостоятельность, приучает его к «безусловному повиновению», к слепому преклонению перед авторитетами. «Нужно привыкать к покорности», – говорят своим воспитанникам горе-педагоги, верные слуги отживающего строя строя жизни. «Таким образом, – гневно восклицает Добролюбов, – они откровенно признаются, что имеют в виду подарить обществу будущих Молчалиных».
Как же избавить общество от появления Молчалиных? Откуда возьмутся гордые, сильные люди, полные честных гражданских стремлений? Их надо воспитать, а для этого нужны разумные воспитатели и наставники. И Добролюбов рисует тип «идеального наставника», человека твердых и непогрешимых убеждений, всесторонне развитого, широко образованного, стоящего во всех отношениях выше своего воспитанника и служащего для него примером («иначе, что выйдет, если учитель будет, например, восхищаться Державиным и заставит ученика учить оду «Бог», а тому нравится уже Пушкин…»)
И особенно важно, по мнению Добролюбова, чтобы воспитатель понимал природу ребенка, ценил заложенные в ней «внутренние сокровища», то есть присущий детям «инстинкт истины» и нравственную чистоту, которая резко отличает их от взрослых. «Главное, что должен иметь в виду воспитатель, – это уважение к человеческой природе в дитяти, предоставление ему свободного нормального развития, старание внушить ему прежде всего и более всего – правильные понятия о вещах, живые и твердые убеждения, – заставить его действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из корыстных видов похвалы и награды».
О таком идеальном воспитании юношества мечтал Добролюбов; он понимал, конечно, что осуществление этого идеала полностью возможно только в будущем, но в своей собственной деятельности он стремился воплотить принципы революционной педагогики, составлявшей органическую часть его общественно-философских воззрений. Пропаганда этих воззрений была, по убеждению Добролюбова, неотделима от задачи воспитания нового человека, борца за свободу народа.
* * *
Было время, когда 17-летний нижегородский семинарист тайно мечтал о «Северной Пальмире», об авторстве», о связях с журналистами и литераторами. Прошло четыре года, и он записал в своем дневнике:
«Я решительно втягиваюсь в литературный круг и, кажется, без большого труда могу теперь осуществить давнишнюю мечту моей жизни, потерявшую уже, впрочем, значительную часть своего обаяния после того, как я посмотрел вблизи на многих из тех господ, которых бывало считал чем-то высшим, потому что сочинения их печатались…»
По сути дела, Добролюбов уже осуществил мечту своей жизни, ибо к началу февраля 1857 года, когда были написаны эти слова, он был сотрудником двух журналов, приобрел большой авторитет в различных кругах и завоевал уважение множества людей – от рядовых студентов до Чернышевского. Он успел приобрести и определенную литературную репутацию: еще не зная его по имени, враги «Современника» почувствовали появление новой силы; те «господа», глядя на которых можно было охладеть к высокому званию литератора, имели право считать, что приобрели в его лице стойкого и пламенного противника.
Известность его к этому времени была уже настолько велика, что к нему, студенту, обращались е заказами столичные издатели. «Во вторник пришел ко мне А. И. Глазунов, и мы с ним условились, что я напишу книжку к 15 марта. В задаток получил я 25 рублей». Речь шла о популярной биографии Кольцова, предназначенной для юношеского чтения. Добролюбов с увлечением принялся за работу: Кольцов еще с детства был одним из любимых его поэтов. За две недели до срока он сдал Глазунову довольно обширную рукопись; она появилась много позднее без имени автора в виде отдельной книжки с приложением 17 избранных стихотворений Кольцова и красочных иллюстраций, которые сам Добролюбов находил «очень изящно сделанными».
Образ Кольцова, поэта-самоучки, поднявшегося из самых низов народной жизни, привлекал горячие симпатии Добролюбова. Биография поэта служила для него превосходным агитационным материалом, позволяла поднять серьезные вопросы, волновавшие демократическую интеллигенцию. Самым своим появлением кольцовская муза свидетельствовала о неиссякаемой талантливости великого народа, придавленного вековым гнетом. Понимая это, Добролюбов посвятил вводную главу своей работы рассказу о «замечательных русских людях из простого звания». «Если мы обратимся к истории, – писал он здесь, – то найдем, что из простолюдинов наших очень нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души, и светлым умом, и чистым благородством своих стремлений…» Для примера он ссылается на «темного нижегородского мещанина» Козьму Минина, спасшего Россию в тяжелое время, костромского крестьянина Ивана Сусанина, архангельского мужика Ломоносова, заключавшего в себе «целую академию и университет», нижегородского мещанина Кулибина, знаменитого русского механика. Кольцов, по мнению критика, занимал видное место среди этих людей, вышедших из народа и кровно с ним связанных. Было бы ошибкой думать, что кольцовские песни замечательны только тем, что их автор принадлежал к «простому званию», – они представляли собой выдающееся явление прежде всего благодаря своей глубокой жизненной правдивости, искренности чувства, подлинной поэтичности.
Добролюбов подробно говорит о русских народных песнях, сравнивает с ними песни Кольцова.
Песня, рожденная народом, входит в литературу, обогащает поэзию. Но Добролюбов насмешливо отзывается о тех многочисленных подражателях, которые не могли понять подлинную красоту народных песен и изготовляли неумелые подделки. Эти подражатели «не хотели понять, что достоинство поэта заключается в том, чтобы уметь уловить и выразить красоту, находящуюся в самой природе предмета, а не в том, чтобы самому выдумать прекрасное. Они воображали, что природа недостаточно хороша, и что нужно украшать ее. Поэтому и народные песни показались им дикими и грубыми, потому что в них верно и без всяких прикрас отражается грубый быт простолюдинов…».
В этих словах верный ученик Чернышевского сформулировал главный принцип революционно-демократической теории искусства, гласящий, что прекрасное есть жизнь. С точки зрения этого принципа все преимущества были на стороне Кольцова (по сравнению с Мерзляковым, Дельвигом, Цыгановым и другими «подражателями»). «В его стихах впервые увидали мы чисто. русского человека, с русской душой, с русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа, человека, жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие. Его песни по своему духу во многом сходны с народными песнями, но у него более поэзии, потому что в его песнях более мыслей и эти мысли выражаются с большим искусством, силою и разнообразием…»
Эти суждения о творчестве Кольцова Добролюбов подробно развернул в своей статье, проникнутой, духом воинствующего демократизма, стремлением доказать, что сила поэта состоит в его близости к народу, в умении понять нужды и чаяния народа, в верности и правдивости изображения предметов. Молодой критик издевался над теми, кто судил о народе (и даже сочинял песни от его имени), не имея понятия о подлинной, жизни, зная ее только понаслышке и считая, что отличие крестьянина от всех других людей состоит в том, что он не бреет бороды, не понимает тонкости обращения и не делает визитов, Ничего не зная о тяжелом труде и великих страданиях народа, такие сочинители представляли себе мужика сидящим у ручейка и поющим чувствительные песни или сладко играющим на свирели. Совсем не то Кольцов, сам испытавший все нужды простого народа и проникшийся его, мыслями, сумевший впервые в нашей поэзии правдиво показать душу русского крестьянина.








