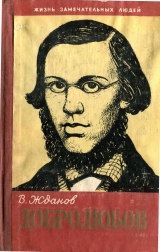
Текст книги "Добролюбов"
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Второй человек, противостоящий Обломову, – Ольга. По своему развитию она, по мнению Добролюбова, представляет высший идеал, какой только может воплотить русский писатель в художественном образе, основываясь на понимании тенденций развития общественной жизни. Таких людей в жизни еще нельзя встретить, но Ольга – это «не сентенция автора, а живое лицо», в ее сердце и голове мы замечаем веяние новой жизни, к которой она «несравненно ближе Штольца». Поэтому, заканчивая статью, Добролюбов высказывает следующее мнение о будущности этих двух людей: «Штольц не пойдет на борьбу с «мятежными вопросами», он смиренно склонит голову; Ольга, если это случится, оставит Штольца так же, как она оставила Обломова. «Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтобы произнести над нею, суд беспощадный…»
В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов окончательно развенчал героев дворянской литературы и произнес свой суд над всей либерально-дворянской интеллигенцией. Он показал, что за красивыми фразами скрывается весьма неприглядный облик либералов, готовых в любую минуту предать народ в угоду своим корыстным классовым интересам. Незабываемая по яркости картина, нарисованная в статье (в дремучем лесу гибнет народ, обманутый теми, кто обещал ему спасение), должна была наглядно убедить читателя, что угнетенным людям неоткуда ждать помощи, а надо надеяться только на себя, на свои силы. Это было грозное предупреждение: народ, если только он «сознал необходимость настоящего дела», сметет со своего пути и Обломовых и всех, кто лживыми словами захочет обмануть его доверие.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.
Эти строки из крыловской басни Добролюбов взял в качестве эпиграфа к другой своей статье, продолжавшей дело разоблачения либерализма, – «Русская сатира в век Екатерины». Уже самый эпиграф, призывавший не тратить слов, а браться за дело, уже первые строки статьи («Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать…») говорили читателям «Современника» о том, что перед ними не только серьезное историко-литературное исследование, но прежде всего злободневное выступление, знаменовавшее собой дальнейшую борьбу «Современника» с либерализмом и либеральным обличительством в литературе. Добролюбов как бы развивал здесь главные мысли своей статьи об обломовщине – на этот раз на основе исторического материала. Он не скрывал, что его работа задумана с вполне современной целью: разоблачить убожество и беспомощность сатириков-обличителей. Но «о настоящем времени всегда трудно произносить откровенное и решительное суждение»; поэтому критик и обратился к русской сатире XVIII века, так же не умевшей указать «действительные средства поправить дело», как не умели этого сделать современные обличители. «Умилительная смесь негодования и восторга» доставляла, по словам Добролюбова, нашим сатирикам прошлого «так много обломовской миловидности и так мало действительной силы…» (из этих слов видно, как широко пользовался критик понятием «обломовщина»).
Либеральные ученые подробно описывали в своих трудах сатирические усилия писателей XVIII века, но никогда не задумывались над вопросом – «какие результаты произошли в самой жизни от столь ярых обличений». Добролюбов с неумолимой последовательностью доказывает, что этих результатов не было вовсе. Через всю статью он проводит мысль: «Наша сатира не то и не так обличает», доказывая это при помощи огромного фактического материала. Сатирики высмеивали мелкие, частные недостатки, но «никогда почти не добирались… до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия».
Правда, сами сатирики, пребывавшие в «забавных иллюзиях», искренне считали, что они делают большое и важное дело, воображали, что от их слов может произойти «поправление нравов» в целой России. Но нападали они главным образом на такие явления, которые в царствование Екатерины представляли собой остатки и пережитки старины, преследовавшиеся самим правительством. Неудивительно, что благодаря этому «сатира на все современное общество являлась в произведениях благородных сатириков не чем иным, как особым способом прославления премудрой монархини».
Точно так же и в других вопросах сатира, неоднократно подчеркивает Добролюбов, нападала «не на принцип, не на основу зла, а только на злоупотребления того, что в наших понятиях есть уже само по себе зло». И критик приходил к выводу, поражающему своей смелостью: главная причина бессилия дворянской сатиры заключалась в том, что она «не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить».
Если бы Добролюбов не ссылался на свою предыдущую статью, где речь шла о поверхностном характере современной ему сатиры, если бы настойчиво не подчёркивал он мысль о том, что «наша литература сто лет обличает недуги общества, и все-таки недуги не уменьшаются», – и тогда внимательному читателю было бы понятно, что его смелые выводы относятся не только к прошлому, но и к современному состоянию литературы. Больше того – они относятся не только к литературе, но и к общественной жизни: Добролюбов подводит читателя к выводу о необходимости коренного изменения существующих общественных отношений. Он указывает на решительную неспособность прежней сатиры к активному обличению. Дворянско-крепостнический характер екатерининской сатиры вполне объясняет, по мнению Добролюбова, ее бездейственность, ее враждебность интересам народа.
С замечательной последовательностью критик утверждает также свою излюбленную мысль: русская сатира XVIII века была ненародной не только потому, что она защищала интересы правящего класса (как в 60-е годы XIX века либеральное обличительство выражало интересы либерального дворянства), но и потому, что «вся литература тогда была делом не общественным, а занятием кружка, очень незначительного». Народ, массы не имели возможности слагать «злейших сатир» против своих угнетателей. В тех же случаях, когда отдельные лучшие люди пытались говорить голосом народа (Добролюбов выделяет журналы Н. И. Новикова и сочинения Радищева), их благородные попытки почти не имели успеха, ибо на долю этих людей выпадали тяжелые кары. Радищев за свое «Путешествие из Петербурга в Москву» – книгу, составлявшую «единственное исключение в ряду литературных явлений того времени», был награжден Сибирью, Новиков посажен в Шлиссельбургскую крепость, а народ все равно ничего не знал об этих попытках. Интересно, что Добролюбов сумел оценить по достоинству «Отрывок из путешествия» И*** Т***, напечатанный в «Живописце» Новикова; проницательный критик обнаружил в нем «ясную мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе».
Так, в статье «Русская сатира в век Екатерины», углубив отдельные наблюдения, намеченные ещё в работе о «Собеседнике», Добролюбов вынес свой беспощадный приговор революционного демократа антинародным тенденциям в дворянской литературе XVIII века. Устами Добролюбова революционная демократия вынесла приговор всей дворянской культуре и самому дворянству как классу.
XVIII. ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ «ТЕМНОГО ЦАРСТВА»?
 етом 1859 года Чернышевские сняли дачу на Петровском острове и пригласили к себе Добролюбова. Он стал часто приезжать, иногда проводя у них по нескольку дней подряд. Квартиру он снимал в это время на Моховой (на Литейном у Некрасова он прожил около года). С Николаем Александровичем жили теперь брат Володя, готовившийся к поступлению в гимназию, и дядя Василий Иванович (брат отца), переехавший в Петербург после смерти жены. Василий Иванович с уважением относился к племяннику, старательно помогал чем мог в его делах, вел все домашнее хозяйство.
етом 1859 года Чернышевские сняли дачу на Петровском острове и пригласили к себе Добролюбова. Он стал часто приезжать, иногда проводя у них по нескольку дней подряд. Квартиру он снимал в это время на Моховой (на Литейном у Некрасова он прожил около года). С Николаем Александровичем жили теперь брат Володя, готовившийся к поступлению в гимназию, и дядя Василий Иванович (брат отца), переехавший в Петербург после смерти жены. Василий Иванович с уважением относился к племяннику, старательно помогал чем мог в его делах, вел все домашнее хозяйство.
У Чернышевских Николай Александрович чувствовал себя лучше, чем дома. Ольга Сократовна любила его, как родного брата, не говоря уже о самом Николае Гавриловиче, который буквально обожал своего младшего друга, прислушивался к каждому его слову. Интересное свидетельство об этом сохранилось в письме Чернышевского от 11 августа 1858 года: «…мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах, милый друг Николай Александрович. В вас я вижу как будто своего брата», – так писал он Добролюбову.
В семье Чернышевских Добролюбову пришлось испытать серьезное увлечение: сестра хозяйки дома, 19-летняя Анна Сократовна, стала предметом его нежной влюбленности.
Они познакомились еще зимой в Петербурге. Ольга Сократовна с сестрой постоянно приглашали Николая Александровича на прогулки по Невскому, которые они любили совершать в предобеденные часы. Случалось им кататься на лошадях, бродить по магазинам Гостиного двора. В мае, после переезда на дачу, они стали видеться чаще. Анюта охотно кокетничала с Добролюбовым и нравилась ему все больше и больше. По словам Чернышевского, он полюбил ее «простым, добрым, беззаветным чувством благородного юноши». После некоторых колебаний он, наконец, решился и сделал ей предложение. Сначала Анюта ответила отказом; светская девушка, любившая балы, справедливо, по мнению Чернышевского, рассудила, что она и он не пара. Однако по другим, несколько противоречивым, сведениям она была не так уж легкомысленна, и предложение Добролюбова в конце концов было принято. Тогда в дело вмешалась старшая сестра, решившая расстроить эти планы.
– Какая же жена ему Анюта? – говорила Ольга Сократовна. – Она милая, добрая девушка, но она пустенькая девушка. Ни за что не соглашусь испортить жизнь Николая Александровича для счастья моей сестры!
По требованию жены Чернышевский должен был отвезти Анюту в Саратов, к родителям. Он рассказывает, что перед отъездом «разлучаемые все плакали, сидя рядом и по временам обнимаясь. Добролюбов плакал, как девушка». Потом он жаловался Чернышевскому на жестокость Ольги Сократовны.
В конце концов Анюта уехала на родину, где она вышла замуж до крайности неудачно. Добролюбов долго не мог ее забыть. Осенью, вскоре после ее отъезда, он писал Бордюгову: «У меня остался только ее портрет, который стоит того, чтоб ты из Москвы приехал посмотреть на него… Я часто по нескольку минут не могу от него оторваться… Это такая прелесть, что я не знаю ничего лучше…»
Добролюбову, жившему слишком мало, не суждено было встретить женщину, которая была бы ему «парой», то есть могла бы понять и разделить его стремления. А он мечтал именно о такой любви, основанной на сходстве интересов и убеждений. Однажды Бордюгов написал, что читает журнальные статьи Добролюбова вместе со своей подругой, которая восхищается его остроумием; Николай Александрович ответил в Москву своему товарищу: «Я не задумаюсь признаться, что завидую твоей жизни, Твоему счастью. Если бы у меня была женщина, с которой я мог бы делить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже, вместе со мною, мои (или, положим, все равно – твои) произведения, я был бы счастлив и ничего не хотел бы более. Любовь к такой женщине и ее сочувствие – вот мое единственное желание теперь…»
Сознание невозможности осуществить это желание мучило Добролюбова, наполняло его душу тоской. Однако эта тоска прорывалась у него очень редко, может быть только в письмах к другу, с которым он привык делиться своими сердечными переживаниями. Окружающие ничего о них не знали, да и трудно было предположить, что у этого человека, буквально Сгоравшего в трудах, еще оставалось время подумать о себе, о своей личной жизни. Чернышевский вспоминает: «Я ровно ничего не знал о том, Что делает, что чувствует Добролюбов, знал только: он пишет…»
* * *
Писал он необычайно много и неутомимо. По словам Чернышевского, иногда он: обещался отдохнуть, но «никогда не в силах был удержаться от страстного труда. Да и мог ли он беречь себя? Он чувствовал, что труды его могущественно ускоряют ход нашего развития, и он торопил, торопил время…» Необычайной зрелостью мысли и таланта отмечено все, что вышло из-под его пера в последние два года жизни. Вслед за статьей об обломовщине последовали одна за другой такие статьи, как «Темное царство», «Когда же придет настоящий день?», «Черты для характеристики русского простонародья», «Луч света в темном царстве». Это были подлинные манифесты передовой литературно-общественной мысли. Каждое из боевых выступлений Добролюбова знаменовало собой новый этап в развитии политической мысли и эстетической теории революционной демократии. Каждая из этих статей имела огромный общественный резонанс, оказывала прямое влияние на умы молодежи.
Авторитет Добролюбова как критика и публициста неизмеримо вырос, это признавали даже его противники. «Уж одно то, что он заставил публику читать себя, что критические статьи «Современника», с тех пор, как г. – бов в нем сотрудничает, разрезываются из первых, в то время, как почти никто не читает критик, – уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте г. – бова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения». Так писал о Добролюбове Достоевский, выступивший с полемической статьей против литературно-политических позиций «Современника» и Добролюбова.
Достоевский не видел, что сила молодого критика была не только в литературном таланте, но прежде всего в том, что этот талант служил правому делу, служил народу, отвечал насущным запросам времени. Именно поэтому ему нетрудно было заставить публику читать себя. Революционно настроенная молодежь видела в нем своего идейного вождя и наставника. Вместе с Чернышевским Добролюбов стоял во главе освободительного движения своего времени.
Лучшие его критические статьи, посвященные пьесам Островского, романам Гончарова и Тургенева, произведениям демократических писателей и поэтов, служили революционной заповедью и учебником жизни не только для современников критика, но и для многих поколений борцов за свободу. В чем же заключалась причина их громадного общественного воздействия, далеко выходящего за пределы литературы? Прежде всего в блестящем умении Добролюбова связывать литературу с жизнью, применять тот прием, который он сам определял так: «толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения». Вот почему критик высоко ценил правду в искусстве и настойчиво требовал ее от художника. Он дорожил каждым произведением, в котором находил хотя бы крупицу правды, позволявшую ему «изучать факты нашей родной жизни». Он был убежден, что произведения художника-реалиста «дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени хорошо захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообъятны те образы, которые им созданы».
В то время вся общественная жизнь, вся общественная борьба сводилась к «крестьянскому вопросу». Отразить в этих условиях правду жизни в искусстве – значило обнажить гнилость крепостнического режима, показать силы, зреющие в народе и направленные на уничтожение отживающего общественного порядка.
Враги обвиняли Добролюбова в том, что он под видом критических разборов пишет статьи на политические темы. Но именно в этом и заключался главный источник неотразимого влияния добролюбовской критики на современников. Статьи об Островском – лучшее подтверждение этого.
В статье «Темное царство» Добролюбов показал, что главным стержнем пьес Островского является «неестественность общественных отношений, происходящая вследствие самодурства одних и бесправности других». Верно и глубоко определив общественное содержание драматургии Островского, Добролюбов вскрыл типический, обобщающий характер его образов, и они предстали перед читателем, освещенные двойным светом: сила художественного изображения дополнилась силой мысли критика.
Добролюбов убеждал читателя в том, что дело заключается вовсе не только в купцах-самодурах или в жестоких помещиках, а в самых условиях жизни, при которых возможен этот дикий и косный быт, эти тяжелые, тупые нравы и вопиющая несправедливость. Следуя Островскому, критик раскрыл перед читателями потрясающую картину «темного царства», каким была старая Россия, государство крепостников и жандармов. Он показал, к каким последствиям приводит господство жестокой самодурной силы, и в сознании многих поколений «самодурство», о котором говорит Добролюбов, по праву стало синонимом деспотизма самодержавной власти.
Можно ли было в те времена изобразить в подцензурной печати царскую Россию как страшную тюрьму, в которой задыхаются лучшие люди? Эту почти немыслимую задачу Добролюбов решил с необычайной смелостью. В своей первой статье об Островском он нарисовал незабываемый образ крепостнического царства:
«Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим бессильным ропотом… Нет ни света, ни тепла, ни простора, гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы, но иногда, на минуту, вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого – и наше сердце стесняется болью и ужасом… И неоткуда ждать им отрады, негде искать облегчения: над ними буйно и безотчетно владычествует самодурство, в лице разных Торцовых, Большовых, Брусковых, Уланбековых и пр., не признающее никаких разумных прав и требований…»
Есть ли какой-нибудь выход из этого мрака? – спрашивает критик. В произведениях Островского он не находит прямого ответа на свой вопрос. Тогда он сам подсказывает читателю, что выход все-таки есть. Этот единственный выход состоит в том, чтобы расшатать устои, на которых держатся власть и благополучие «самодуров», то есть разрушить до основания «темное царство», обрекающее миллионы людей на унижения и страдания.
Внимательно приглядываясь к героям Островского, критик обнаруживает, что среди них есть и такие, у которых не совсем еще подавлены человеческие стремления, сознание своего достоинства, затаенные мечты разорвать цепи и вырваться на свободу. «Искра» все-таки тлеется во мраке темницы. И тут же Добролюбов высказывает мысль о том, что «Темное царство» не вечно, что оно жестоко и страшно, но трусливо и вовсе не так могущественно, как кажется. Надо только собраться с духом, внушить угнетенным сознание их прав и силы, которая заключена в них самих. Надо подняться на борьбу, тогда «самодурство» отступит, зашатается и рухнет – вот к чему призывал Добролюбов.
На последних страницах своей статьи он прямо указывает, что выход из «темного царства» надо искать не в литературе, которая еще не может его указать, а в самой жизни. Он призывает читателей: «Не оглянуться ли лучше вокруг себя и не обратить ли свои требования к самой жизни, так вяло и однообразно плетущейся вокруг нас…» (а вслед за этим говорилось, что автор вынужден был выбрать для статьи «фигуральную форму»). Самодурство «бушует в разных видах» на страницах сочинений Островского. «Но и окончивши чтение, говорит Добролюбов, – и отложивши книгу в сторону, и вышедши из театра после представления одной из пьес Островского, разве мы не видим вокруг себя бесчисленного множества тех же Брусковых, Торцовых, Уланбековых, Вышневских, разве не чувствуем мы на себе их мертвящего дыхания?.. Поблагодарим же художника за то, что он, при свете своих ярких изображений, дал нам хоть осмотреться в этом темном царстве. И то уж много значит. Выхода же надо искать в самой жизни…»
По существу, критик благодарил драматурга за то, что его пьесы позволяли сделать революционные выводы, указать на необходимость борьбы с «темным царством». Добролюбов пытался именно в эту сторону устремить внимание своего читателя. А для тех, кто мог не сразу уловить запрятанное между строк существо дела, он, заканчивая статью, разъяснял: «Многие выводы и заключения, которых мы не досказали здесь, должны сами собой прийти на мысль читателю…»
Но большинство читателей и не нуждалось в этом разъяснении. Широкие круги демократической молодежи восторженно встретили статью Добролюбова, сразу оценив ее революционную остроту. «Темное царство» – великолепно, – писал автору из Вятки М. И. Шемановский, – все, кто ни читал его, интересуются знать имя автора, – разумеется, кроме отпетых, которые страшно негодуют» (письмо от 5 ноября 1859 года). Другой современник – видный публицист, революционный демократ Н. В. Шелгунов писал в своих воспоминаниях, что статья Добролюбова была «не критикой, не протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие, – это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий. Я не преувеличу, если скажу, что это было эпохой перелома всех домашних отношений, новым кодексом для воспитания свободных людей в свободной семье. Добролюбов был… неотразимым, страстным проповедником нравственного достоинства и тех облагораживающих условий жизни, идеалом которых служит свободный человек в свободном государстве».
Если Добролюбов радовался появлению в русской литературе таких произведений, которые позволяли «хоть осмотреться в темном царстве», то не менее горячо он встречал каждую новую книгу, каждого нового автора, которые правдиво говорили о нуждах народа, о росте его самосознания, о сдвигах в русской жизни, о появлении «новых людей». Такие книги позволяли критику-революционеру снова и снова поднимать вопрос: где же следует искать выход из «темного царства»?
Добролюбов особенно внимательно относился к произведениям писателей, вышедших из «низов» общества или близко знавших народную жизнь. Так, он посвятил большие вдумчивые статьи и рецензии повестям провинциального чиновника С. Славутинского, описавшего жестокое подавление крестьянского восстания в Рязанской губернии; рассказам из народного быта Марко Вовчка; очеркам и рассказам И. Кокорева из жизни московских ремесленников, согретым «горячей любовью к работящим беднякам нашим»; стихам Ивана Никитина, проникнутым любовью к людям труда – земледельцам, косарям, бурлакам, ямщикам; наконец стихам и песням Тараса Шевченко, который после возвращения из ссылки сблизился с редакцией «Современника», – Добролюбов считал, что он «поэт совершенно народный».
Оценивая «Повести и рассказы» Славутинского, Добролюбов прежде всего поставил самое их появление в связь с новыми обстоятельствами, возникшими в русской жизни во второй половине 50-х годов. Он отметил, что «крестьянский вопрос» оказался в центре всех общественных интересов, и литература, конечно, не могла не откликнуться на запросы, выдвигаемые самой жизнью. По мнению критика, в обществе начал складываться новый взгляд на народ, определяемый предчувствием «той деятельной роли, которая готовится народу в весьма недалеком будущем». Рассказы Славутинского явились подтверждением этой мысли. Добролюбов увидел в них знание народной жизни и правдивое, неприкрашенное ее изображение, свободное от фальши и сусальности, свойственной многим писателям, обращавшимся к «простому быту».
Достоинство Славутинского было в том, что он не пытался смягчить «грубый колорит крестьянской жизни». «Напротив, – писал Добролюбов, – г. Славутинский обходится с крестьянским миром довольно строго: он не щадит красок для изображения дурных сторон его… Но, несмотря на это, признаемся, рассказы г. Славутинского гораздо более возбуждают в нас уважение и сочувствие к народу, нежели все приторные идиллии прежних рассказчиков… Он говорит о мужике просто, как о своем брате: вот, говорит, он каков, вот к чему способен, а вот чего в нем нет, и вот что с ним случается, и почему».
Художественный уровень произведений Славутинского не мог удовлетворить Добролюбова, тем не менее критик оценил его очерки как известный вклад в разработку народной темы; Добролюбов был убежден, что именно с нею связано будущее русской литературы.
Озабоченный необходимостью поддерживать и воспитывать демократических писателей, способных обновить русскую литературу, Добролюбов протягивал руку каждому честному, хотя бы и очень скромному автору. Он не только давал разбор отдельных произведений – его статьи отвечали задачам идейного воспитания писателей-демократов: критик помогал им подняться на более высокую ступень идейного развития, предостерегал от ошибок и чуждых влияний, указывал и критиковал слабые стороны их творчества.
Добролюбов видел художественные недостатки рассказов Марко Вовчка, но, высоко оценивая их. правдивость в описании крестьянской жизни, в изображении «великих сил, таящихся в народе», он считал нужным горячо поддержать автора, указать, что он стоит на верном пути. Добролюбов посвятил «Рассказам из народного русского быта» М. Вовчка большую статью, озаглавленную «Черты для характеристики русского простонародья». Эта статья, насыщенная ненавистью к крепостничеству, принадлежит к числу самых выдающихся произведений критика. Она отличается глубиной содержания, остротой мысли, политической зрелостью. Ее пафос – в страстном и гневном протесте против социального угнетения, против порабощения человеческой личности.
Рассказы М. Вовчка привлекли внимание Добролюбова бесхитростными и правдивыми зарисовками горестной жизни крепостных крестьян. Это был еще один шаг на пути к созданию народной литературы. Правда, рассказы украинской писательницы еще не представляли читателям всеобъемлющей картины; да было бы и преждевременно предъявлять такие требования, поскольку народная жизнь в полном своем объеме в то время еще не могла стать материалом искусства. «Такой эпопеи, – полагал Добролюбов, – мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней. Самосознание народных масс далеко еще не вышло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом… Сознание великой роли народных масс в экономии человеческих обществ едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренно и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка».
Так писал Добролюбов, считавший, что пришло время, когда передовая литература должна «преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия». Хотя критик работал над своей статьей летом 1860 года, то есть до «крестьянской реформы», которая только подготавливалась в это время, тем не менее он счел возможным говорить о крепостничестве как об отжившем понятии, которое будто бы уже отвергнуто самим правительством («лишено покровительства законов»), Такая позиция позволяла ему открыто излагать антикрепостническое содержание рассказов М. Вовчка и, с другой стороны, гневно изобличать крепостников и реакционеров, людей, «еще верующих в святость и неприкосновенность крепостного права». Эти люди приходили в ужас от литературных произведений, в которых говорилось о тяжелой жизни народа. Они делали вид, что не верят в правдивость рассказов, рисующих стремление народа сбросить с себя ярмо рабства. Попутно Добролюбов дал сокрушительную отповедь «просвещенным» либералам, пытавшимся доказать, что «мужик еще не созрел до настоящей свободы, что он о ней и не думает, и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением…». Этим нелепым и лживым измышлениям критик противопоставил рассказ М. Вовчка «Маша», в котором шла речь о крестьянской девушке, возненавидевшей свою помещицу и, несмотря на угрозы, решительно отказавшуюся работать у нее на барщине. Угнетенная своим бесправным состоянием, Маша таяла у всех на глазах, и только слух о воле, обещанной барыней, возвращает ее к жизни.

Восстание крестьян. С картины И. Самохвалова.

Н. А. Серно-Соловьевич.

М. Л. Михайлов.
В тогдашней литературе нашлось бы не много произведений, с такой прямотой рисующих тоску по воле, зреющую в народе.
Добролюбов понимал, что люди, питающие «тайную симпатию к крепостным отношениям», назовут рассказ М. Вовчка фальшивым: они не допускают мысли о том, что в простой мужицкой натуре может столь развиться сознание прав своей личности. Но ему, критику «Современника», рассказ дал повод, чтобы высказать глубокие мысли о положении крепостного крестьянства, о деспотизме и рабстве, о подавлении естественных стремлений человека, о том, как пробуждается и крепнет среди «простолюдинов» чувство протеста, сознание своего человеческого достоинства. В судьбе и натуре Маши критик увидел характерное явление русской жизни, и он не только дал его широкое, обобщенное толкование, но и сделал из своего анализа острые политические выводы. Полемизируя с «плантаторами и художественными критиками» (как доказательно это сближение крепостников и защитников «чистого искусства»!), Добролюбов горячо доказывал, что в рассказе «Маша» описан вовсе не исключительный случай: «Напротив, – писал Добролюбов, – мы смело говорим, что в личности Маши схвачено и воплощено высокое стремление, общее всей массе русского народа, терпеливо, но неотступно ожидающей светлого праздника освобождения».
Статья «Черты для характеристики русского простонародья», полная революционных мыслей и смелых намеков на неизбежность грозного народного восстания, вызвала раздражение во вражеском лагере. Цензура вела против нее упорную борьбу и добилась того, что статья увидела свет в искаженном и урезанном виде, да и то благодаря исключительной настойчивости Чернышевского. Против статьи Добролюбова выступил в журнале «Время» Достоевский, обвинявший критика «Современника» в грубом утилитаризме, в пренебрежительном отношении к законам искусства. Зато в передовом лагере страстная антикрепостническая публицистика Добролюбова, поднявшего насущные политические вопросы, была встречена с глубоким сочувствием.
* * *
Много внимания уделял Добролюбов вопросам развития демократической поэзии. Критикуя недостатки стихов Ивана Никитина, он помогал поэту-демократу освободиться от многих его заблуждений. Критик выражал уверенность, что Никитин сумеет более прочно и сознательно примкнуть к революционно-демократическому лагерю. Он призывал поэта «выработать в душе твердое убеждение в необходимости и возможности полного исхода из настоящего порядка этой жизни для того, чтобы получить силу изображать ее поэтическим образом…». Эти слова были благотворны не только для Никитина – они содержали программу развития всей революционной литературы; из них вытекала мысль о том, что только передовой поэт, осуждающий крепостнический порядок жизни, может обрести силу подлинного художника, народного певца.








