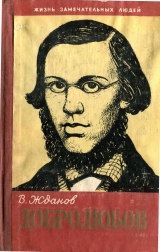
Текст книги "Добролюбов"
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Литературные враги Некрасова, пытаясь унизить поэта, ехидно упрекали его в том, что он перекладывает в стихи политические идеи Добролюбова. Однако Некрасов недаром говорил, что он ловит «звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья». Единство убеждений, роднивших крупнейшего поэта революционной демократии с ее политическими вождями, могло только возвысить Некрасова в глазах его почитателей.
Некрасов, воспитанный в школе Белинского и хорошо помнивший своего учителя, постоянно думал о нем, глядя на Добролюбова. Он не раз сравнивал их и пророчил своему молодому другу великую славу его предшественника. Уже из этого видно, каким прочным уважением пользовался Добролюбов со стороны Некрасова, и нет ничего удивительного в том, что он внимательно прислушивался к советам критика. Вся политическая атмосфера «Современника», созданная Добролюбовым и Чернышевским, оказывала благотворное воздействие на поэтический гений Некрасова.
Предполагают, что замысел одного из самых сильных некрасовских стихотворений – «Железной дороги» – возник под впечатлением статьи Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи» (1860), где подробно рассказывалось о чудовищных условиях, в которые были поставлены рабочие – строители Волжско-Донской железной дороги. Статья Добролюбова имела подзаголовок «Отчего иногда люди мрут как мухи?».
В квартире Добролюбова и под непосредственным впечатлением беседы с ним Некрасовым была написана знаменитая «Песня Еремушке», проникнутая горячим желанием пробудить в молодом поколении «человеческие стремления»:
…Братством, Равенством, Свободою
Называются они.
Добролюбов очень ценил эти стихи. В сентябре 1859 года он писал Бордюгову: «…Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить песню Еремушке Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике». Замени только слово «истина» – равенство, «лютой подлости» – угнетателям; это – опечатки… Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости…»
В своих журнальных статьях этого времени Добролюбов также цитировал «Песню Еремушке». Он понимал, как много могут сделать для возбуждения умов гражданские песни Некрасова. И он заботился о том, чтобы они распространялись в том виде, в каком выходили из-под пера поэта; он указывал (конечно, только в письмах) на те грубые искажения («опечатки»), которыми цензура калечила некрасовские стихи, пытаясь смягчить их революционную остроту.
XVI. «НЕ НАДО НАМ СЛОВА ГНИЛОГО И ПРАЗДНОГО…»
 еперь ему уже не казалось, как в прошлом году, что все написанное им слабо и бесполезно. Он с увлечением писал для «Современника», вкладывая в журнальные статьи весь пламень своего сердца. Он видел перед собой читателя и обращался к нему со своей проповедью. «Современник» стал для него трибуной, средством пропаганды, с помощью которой он мог осуществлять единственную цель своей жизни – внедрять в сознание людей идею революции, готовить свержение крепостнического строя. Одному из своих друзей Добролюбов многозначительно писал о «Современнике»: «Он для меня все более становится настоящим делом, связанным со мною кровно. Ты понимаешь, конечно, почему…» Слова «настоящее дело» особенно характерны: в устах Добролюбова они равнозначны понятию «святое дело», то есть революционное дело.
еперь ему уже не казалось, как в прошлом году, что все написанное им слабо и бесполезно. Он с увлечением писал для «Современника», вкладывая в журнальные статьи весь пламень своего сердца. Он видел перед собой читателя и обращался к нему со своей проповедью. «Современник» стал для него трибуной, средством пропаганды, с помощью которой он мог осуществлять единственную цель своей жизни – внедрять в сознание людей идею революции, готовить свержение крепостнического строя. Одному из своих друзей Добролюбов многозначительно писал о «Современнике»: «Он для меня все более становится настоящим делом, связанным со мною кровно. Ты понимаешь, конечно, почему…» Слова «настоящее дело» особенно характерны: в устах Добролюбова они равнозначны понятию «святое дело», то есть революционное дело.
Его статьи и рецензии 1859 года овеяны могучим революционным вдохновением. В этом году – на протяжении нескольких месяцев – написаны такие выдающиеся произведения литературной публицистики, как «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Русская сатира в век Екатерины». Каждой из этих статей было бы достаточно, чтобы навсегда прославить имя автора.
Но не только в таких крупных выступлениях сказался боевой темперамент Добролюбова, он ясно ощутим и во многих небольших статьях и рецензиях, имеющих тем не менее принципиальное значение. Какая-нибудь «глупейшая книга», озаглавленная «Наука жизни» и посвященная наследнику престола, вызывает у него поток гневных слов в осуждение людей, которые «с убеждением и даже пафосом излагают кодекс отвратительной морали», основанной на принципах молчалинской умеренности и угодливости, исключающих общественную активность. Забывая о цензурных запретах, Добролюбов обращается к честным людям с призывом к решимости, к действиям, доказывает назревшую необходимость «предпринять коренное изменение ложных общественных: отношений, господствующих над нами и стесняющих нашу деятельность».
Написав рецензию на книгу «Наука жизни», Добролюбов выражал опасение: пропустит ли ее цензура, – настолько смелыми он сам считал выраженные в ней мысли. Проводя идею революции («коренное изменение» общественных отношений означало именно это), он звал к деятельному труду для общего блага, говорил о праве каждого человека на счастье; он горячо убеждал и, стыдил тех, кто не чувствовал в себе довольно сия, чтобы восстать против целого и общества, и оправдывался тем, что «один в поле не воин». Словом, Добролюбов развивал здесь те самые мысли, которые составляли содержание его писем к институтским товарищам. Свои печатные выступления он адресовал им же, угадывая за ними сотни других своих читателей, представлявших целое поколение новой демократической интеллигенции. Он, так и писал, например, Бордюгову о своей рецензии на книжку «Наука жизни»: «Там, есть странички четыре для тебя. Пожалуйста, мой друг, не мирись с гадостью и подлостью: право, мы еще молоды.
И перед нами жизни даль
Лежит светла, необозрима…»
Содержание последних четырех страниц добролюбовской рецензии в «Современнике» вполне совпадает с этими словами из письма к Бордюгову: речь снова идет о необходимости «создать общественную деятельность».
«Современник» оказывал прямое и непосредственное влияние на формирование демократической идеологии. Широкие круги читателей в разных концах страны с нетерпением ждали статей Добролюбова и Чернышевского, находя в них ответы на самые животрепещущие вопросы. О популярности журнала свидетельствует письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина, который 13 февраля 1860 года писал А. В. Дружинину из Рязани:
«…Скажу Вам здесь кстати о расположении умов в провинциях относительно журналов. Всего более в ходу «Современник»; Добролюбов и Чернышевский производят фурор и о честной деятельности «Современника» говорят даже на актах в гимназиях».
Призывая к революционному разрешению кризиса, переживаемого крепостническим государством, Добролюбов вместе с Чернышевским и Некрасовым стремился пробудить к активной деятельности все оппозиционные элементы русского общества. Перед революционно-демократическим «Современником» стояла важнейшая задача – борьба за идейную подготовку крестьянской революции в стране. Необходимой составной частью этой борьбы было разоблачение либерализма во всех его проявлениях, резкое размежевание с теми, кто хотел удовольствоваться жалкими реформами; кто звонкими фразами о прогрессе и гласности пытался прикрыть свою паническую боязнь движения масс, способного свергнуть монархию, уничтожить власть помещиков.
Чернышевский на страницах «Современника» неустанно вел войну против либералов, ибо он, по словам Ленина, «ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед власть имущими»[18]18
В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 97.
[Закрыть]. Сокрушительный удар по либерализму он нанес своей известной статьей «Русский человек на rendez-vous» (по поводу повести Тургенева «Ася»), появившейся в 1858 году в журнале «Атеней». Разоблачая здесь героев либеральной фразы, неспособных к настоящему делу, Чернышевский открыто выступал против лагеря, к которому примыкал Тургенев.
Добролюбов тогда же поддержал Чернышевского. В своей статье о Станкевиче он, не называя Тургенева по имени, вскрыл либерально-дворянские основы его идейно-философских позиций. В дальнейшем Добролюбов, непримиримый противник всякой половинчатости, фальши и лицемерия, также плечом к плечу с Чернышевским выступал против либералов. В начале 1859 года в «Современнике» была опубликована его блестящая статья «Литературные мелочи прошлого года», явившаяся программным документом идейной борьбы, которую вела революционная демократия.
Статья вызвала шумное негодование во враждебном лагере: с суровой прямотой в ней ставился вопрос о беспомощности либеральничающих литераторов, наивно верящих в прогрессивные намерения правительства и мнимые успехи так называемой гласности. Но еще большее впечатление произвела та часть статьи, в которой автор проводил резкую черту между «старым поколением», сходящим с исторической сцены, и новым поколением русской молодежи, поколением разночинцев, революционных демократов.
Только немногие люди поколения 40-х годов умели, подобно Белинскому, слить самих себя со своим «принципом». «У Белинского внешний, отвлеченный принцип превратился в его внутреннюю, жизненную потребность: проповедовать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить». Белинский был не одинок: тогда появились и другие «сильные люди», проникнутые «святым недовольством» и решившиеся продолжать «борьбу с обстоятельствами» до последних сил. Явно имея в виду зарубежную деятельность Герцена и Огарева, Добролюбов глухо упоминал о людях, которые «доселе сохранили свежесть и молодость сил, доселе остались людьми будущего…».
Но это были исключения из «нормы»; большинство же деятелей «старого поколения» превратилось в «литературных Маниловых». Добролюбов особенно ополчается против так называемых «обличителей», усилия которых были направлены не против главного зла русской жизни – крепостничества и самодержавия, а против мелких, частных недостатков, критиковать которые разрешало правительство. Представители этого «сатирико-полицейского» направления в литературе не шли дальше осуждения взяточников, писарей и городовых. «Но вслушайтесь в тон этих обличений, – негодовал Добролюбов. – Ведь каждый автор говорит об этом так, как будто бы все зло в России происходит только от того, что становые нечестны и городовые грубы!»
Статья «Литературные мелочи прошлого года» важна еще в одном отношении. Выступая от имени «новых людей», Добролюбов яркими штрихами набросал типические черты своего поколения. Главное, что отличает этих «новых людей», заключается в следующем: «На первом плане всегда стоит у них человек и его прямое, существенное благо… Их последняя цель – не совершенная рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству…»
«Люди нового времени», по словам Добролюбова, приобрели опыт, которого недоставало их предшественникам. Они твердо знают, чего хотят, верят в свои силы и в свою правоту. Критик прибегает к довольно прозрачной «шахматной» аллегории. «Нынешние молодые люди», говорит он, подобно опытному шахматисту, хотят вести «серьезную игру и потому считают вовсе ненужным с первого же раза выводить слона и ферезь, чтобы на третьем ходе дать шах и мат королю. Они, наверное, рассчитывают, что это только повредит их игре, и потому подвигаются понемножку, заранее обдумав план атаки… Они также добьются своего шаха и мата; но их образ действий вернее, хотя вначале игра и не представляет ничего блестящего и поразительного».
Эти слова цензура вычеркнула из журнального текста статьи Добролюбова, догадавшись, что ссылка на шахматного короля может быть в нежелательном смысле истолкована читателями, привыкшими искать запрятанные между строк мысли автора. А тут не надо было и искать: Добролюбов, реальный политик, трезво оценивавший обстановку, в сущности, прямо говорил, что опытные, расчетливые «игроки» вернее добьются победы над «королем», чем новички, выбирающие эффектный, но рискованный ход… Чтобы мысль Добролюбова стала яснее, стоит вспомнить слова, записанные в его дневнике еще в декабре 1855 года. Тогда Добролюбов также размышлял о том, какими путями лучше двигаться к «великой цели», и говорил, что он будет действовать медленно, но расчетливо и наверняка. «…Жизнь, безопасность личную я отдам на жертву великому делу, но – это тогда только, когда самопожертвование будет обещать верный успех… Иначе… К чему губить жизнь, которая еще может быть полезна?»
В журнальной статье он, разумеется, не мог говорить о необходимости «подготовлять умы» к великому делу переворота, о готовности революционера к самопожертвованию с той откровенностью, какую позволял себе в дневнике. Но, несмотря на это, очевидно, что теперь его мысль стала более зрелой, а главное – он ощутил себя участником большого общественного движения, увидел силу молодого поколения и смело заговорил от его имени. Вот почему его статья согрета страстью революционного порыва. Могучим призывом к деятельности, к борьбе, набатным призывом к революции звучат ее заключительные строки:
«Не надо нам слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами, а нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной…»
В этих словах – весь Добролюбов, в них вся его ненависть к либеральной фразе, все его презрение к безволию и пассивности, ко всему, что могло бы отвлечь от великого дела борьбы за свободу народа. На определенном этапе освободительного движения разоблачение либерализма было одной из главных задач, которые ставила перед собой революционная демократия. Вот почему Добролюбов с такой разящей силой клеймил либералов.
Им написано немало блестящих страниц, развенчивающих прекраснодушие «людей сороковых годов», высмеивающих восторги казенных борзописцев по поводу мнимых успехов так называемой гласности, обнажающих подлинное существо всевозможных «обличителей» и лживых радетелей народа, сторонников куцых «реформ», любивших распинаться в своей любви к «бедному брату». В. И. Ленин указывал, что «последовательные демократы Добролюбов и Чернышевский справедливо высмеивали либералов за реформизм, в подкладке которого было всегда стремление укоротить активность масс и отстоять кусочек привилегий помещиков, вроде выкупа и так далее»
Добролюбовские страницы, разоблачающие российских либералов, надолго сохранили свое политическое значение. Они составляли важнейшую часть той «могучей проповеди», с помощью которой руководители «Современника» воспитывали «настоящих революционеров» (Ленин). Эту проповедь высоко ценил Ленин, явившийся наследником передовой русской общественной мысли. По словам Н. К. Крупской, Чернышевский и Добролюбов «научили его с ранней молодости внимательно вглядываться в жизнь, воспитали в нем особую настороженность к либеральному фразерству, научили ненавидеть либерализм…».
Сурово отвергая «слово гнилое и праздное», Добролюбов хотел, чтобы то слово, с которым он обращался к читателю, было «свежим и гордым», заставляющим сердце кипеть «отвагою гражданина», По природе своей он был трибун, агитатор, проповедник. Но уста его часто были скованы цензурой. Однажды Добролюбов воскликнул: «Боже мой, сколько великолепных вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!» То же самое полностью можно отнести и к нему самому. Сколько пламенных, призывных слов, обращенных к народу, могло бы выйти из-под пера критика, если бы ему не приходилось все время оглядываться на цензуру!
Теперь трудно даже представить себе, какое громадное количество сил и времени приходилось тратить ему для того, чтобы находить способы выражения своих мыслей. Приходилось рассуждать витиевато и туманно, прибегать к эзоповскому языку и всевозможным иносказаниям, приходилось ограничиваться намеками, надеясь на то, что читатель сумеет уловить ход мысли и догадаться сам о том, чего не мог сказать автор. У Добролюбова выработалась даже специальная терминология, которую научились понимать его читатели. Так, революцию он обозначал понятиями «святое дело», «особые обстоятельства», «самобытное воздействие народной жизни» и др. Не раз, доведенный до отчаяния поисками «обходных путей» и аллегорий, он прямо обращался к читателю, заявляя, что лишен возможности говорить с ним открыто, как ему бы хотелось. Одну из лучших своих статей Добролюбов заканчивал такими словами: «Многое мы не досказали, об ином, напротив, говорили очень длинно, но пусть простят нас читатели, имевшие терпение дочитать нашу статью. Виною того и другого был более всего способ выражения, – отчасти метафорический, – которого мы должны были держаться… Иногда общий смысл раскрываемой идеи требовал больших распространений и повторений одного и того же в разных видах, – чтобы быть понятным и в то же время уложиться в фигуральную форму, которую мы должны были взять для нашей статьи… Некоторые же вещи никак не могли быть удовлетворительно переданы в этой фигуральной форме, и потому мы почли лучшим пока оставить их вовсе. Впрочем, те выводы и заключения, которых мы не досказали здесь, должны сами прийти на мысль читателю, у которого достанет терпения и внимания до конца статьи».
Но даже написав статью таким образом, то есть широко использовав «фигуральную форму», Добролюбов вовсе не мог быть уверен в том, что теперь его детище, наконец, появится в журнале.
Цензорское перо издавна по справедливости считалось бичом русской литературы. Как ни тупы были царские цензоры, наблюдавшие за «Современником», однако они весьма умело калечили статьи, руководясь то трусостью, то подозрительностью, а то и настоящим чутьем к скрытой «крамоле». И нередки были случаи, когда статья, побывавшая у цензора, возвращалась в редакцию в неузнаваемом виде, вся исчерченная красными чернилами. Достаточно вспомнить, например, печальную историю статьи Добролюбова о тургеневском «Накануне»: из первого ее варианта цензура вымарала полтора листа, то есть половину всего текста. Автор написал статью заново, но она опять не была пропущена, и только третья редакция появилась в «Современнике». Такие истории происходили нередко.
Переговоры и споры с цензорами испортили немало крови Добролюбову, не говоря уже о том, что они отнимали массу времени у всех руководителей «Современника». Чернышевский писал Добролюбову о цензоре Рахманинове: «…Он глупая скотина… Впрочем, я с ним теперь приятель, но это не помогает. Я выпил у него по крайней мере 25 стаканов кофе и чаю, а пользы все-таки не было никогда». Панаев специально ездил к цензору для того, чтобы отвлекать его внимание разговорами, а в это время Чернышевский заставлял его поскорее просмотреть и подписать корректуру, да еще упрашивал Панаева: дескать, не мешайте, Иван Иванович, перестаньте рассказывать всякий вздор…
Добролюбов был упорен и настойчив, он охотно жертвовал временем и нервами, только бы не уступить, только бы отстоять свою мысль. Случилось, что даже Некрасов не выдерживал и махал рукой; Добролюбов же продолжал упорствовать и в конце, концов добивался некоторых успехов. Однажды в десятом часу вечера он приехал от цензора сильно раздраженный: оказалось, ему не удалось восстановить вычеркнутые места из чьей-то статьи, предназначенной для очередной книжки журнала. Некрасов отнесся к этому довольно спокойно, как к явлению вполне обычному:
Охота вам в такую скверную погоду ездить к цензору, толковать с ним битый час! Через два месяца пошлем к нему новый набор этой статьи, он позабудет, что уже читал ее, и, наверное, пропустит…
Добролюбов, по словам присутствовавшей при этом Панаевой, пристально смотрел на Некрасова, явно возмущенный его спокойным тоном.
– Что же, – заговорил он, сдерживая себя, – по-вашему, мы будем преподносить читателям запоздалые статьи по вопросам, которыми общество интересуется сегодня?
– Ну что делать! – возразил Некрасов.
– А небось, – иронически заметил Добролюбов, – если бы вы, проголодавшись, пришли в ресторан и заказали себе хороший обед, а вам подали подогретые кушанья, то не так покойно отнеслись бы к этому…
Некрасов встрепенулся и ответил:
– Было время, что и я так же волновался, как вы… Но горький опыт убедил меня, что надо благоразумнее относиться к подобным вещам. Вот вы волнуетесь, вредите своему здоровью, поскакали к цензору, а из этого никакого толка не вышло.
– Выйдет! – убежденным тоном ответил Добролюбов. – Я сейчас же иначе выражу те места, которые цензор выкинул, и завтра утром опять поеду к нему и не час, а два, три буду сидеть у него и толковать ему, что он словно пуганая ворона – куста боится!
Действительно, Добролюбов был неутомим и изобретателен в борьбе с цензурой. Как-то в письме к Некрасову, жаловавшемуся на притеснения, он еще раз выразил свое убеждение, что цензура не может помешать «делу таланта и мысли»; он хотел сказать, что подлинный талант непременно пробьет себе дорогу, преодолеет все препятствия. Сам Добролюбов пробивал дорогу своим мыслям с помощью разных способов и приемов, о которых можно написать целую книгу, – так они были хитроумны и своеобразны. Сошлемся для примера хотя бы на следующие слова Добролюбова из письма его к С. Т… Славутинскому (писателю, близкому к «Современнику»): «Вообще, чтобы Ваши труды не пропадали в цензуре, необходимо говорить фактами и цифрами, не только не называя вещей по именам, но даже иногда называя их именами, противоположными их существенному характеру».
Именно так нередко поступал сам Добролюбов, и мы не должны забывать об этом, читая его статьи. Вспомним, например, знаменитое сопоставление Болгарии с Россией в статье «Когда же придет настоящий день?». Болгария, говорит критик, порабощена турками, в ней «нет общественных прав и гарантий»; «Россия, напротив того, государство благоустроенное, в ней, как известно всем и каждому, существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность…». Разумеется, никто не мог бы поверить в искренность Добролюбова, когда он столь непринужденно восхвалял «мудрые законы» крепостнического государства. И даже цензура почувствовала в его словах насмешку: не решившись прямо зачеркнуть это место, она все-таки нашла нужным умерить непрошеные восторги. Цензор вычеркнул фразу «как известно всем и каждому», выбросил слово «мудрые», а в конце этой тирады оказалось изъятым замечание о том, что у нас «в виде стада никого не гоняют», которым Добролюбов заканчивал свою ироническую характеристику «благоустроенного государства».
* * *
Ирония и насмешка были действенным оружием в руках Добролюбова. Он прибегал к нему часто и охотно, особенно в тех случаях, когда ему трудно было изложить свои мысли в серьезной и спокойной форме. Он давно уже понял сокрушительную силу смеха и задумал широко использовать эту силу для дела своей борьбы и пропаганды. Юмор и сатира оказались, по сути дела, одним из средств, успешно помогавшим ему обходить цензурные препятствия. В кругу «Современника» именно так и расценивали его интерес к сатире. Антонович, например, говорит: «Постоянно занятый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей, раскрыть им глаза, а главное, пробудить в них энергию, Добролюбов находил, что серьезные журнальные статьи для этого не достаточны, что в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезное рассуждение, и что в шуточной или в сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме…»
В январском номере «Современника» за 1859 год впервые появился сатирический отдел, озаглавленный «Свисток». Этому названию суждено было вскоре приобрести громкую известность. Инициатором и главным автором «Свистка» был Добролюбов. Здесь по-настоящему развернулся его незаурядный талант сатирика. Новым видом оружия Добролюбов воевал против тех же самых врагов, которых он разил пером публициста и критика. Зубры крепостнической реакции, откупщики и другие эксплуататоры народа, представители реакционной печати, либеральные болтуны, певшие фальшивые гимны «прогрессу», аполитичные защитники «чистого» искусства, продажные поэты, отдавшие свою лиру на служение «видам правительства», – такова галерея героев добролюбовской сатиры, пригвожденных к позорному столбу и на страницах «Свистка».
Успех первых его номеров навел редакцию «Современника» на мысль о необходимости организовать специальное издание – сатирическую газету «Свисток». Больше всех хлопотал об этом Добролюбов. Он тщательно разработал программу нового издания, весьма широко задуманного; достаточно сказать, что среди его разнообразных отделов предполагался даже отдел «теории и истории сатиры». Определяя лицо будущей газеты, Добролюбов говорил, что ее задача – поражать общественные пороки, преследовать «зло и неправду» с помощью смеха и шутки. В документе, предназначенном для цензурного ведомства, Добролюбов писал: «Злоупотребления, разоблаченные серьезною литературою, – должны быть добиты смехом. Этим орудием до сих пор еще слишком мало у нас пользовались…» Далее в документе говорилось, что в русском обществе есть «две категории людей, подлежащих сатире: рутинисты, приверженцы к своим старым ошибкам и порокам и ненавидящие все новое, – и прогрессисты, кричащие о современных успехах цивилизации, о правде, свободе и чести, без надлежащего усвоения себе истинных начал просвещения и гуманности… Доселе все поражали рутинистов; но «Свисток» предполагает себе задачу не щадить и неразумных прогрессистов, так как они ложными толкованиями, безрассудными применениями могут повредить делу общественного просвещения не менее людей самых отсталых и невежественных».
Нетрудно догадаться, что под «рутинистами» Добролюбов имел в виду лагерь реакции, а под «прогрессистами» – либералов, – представлявших с точки зрения революционной демократии наибольшую опасность для дела революции. Себе же редактор «Свистка» оставлял некую третью позицию, стараясь создать у блюстителей политической нравственности впечатление, что газета будет критиковать «прогрессистов» за избыток либеральности и недостаточно глубокое усвоение «начал просвещения и гуманности». Однако обмануть бдительность цензурных властей не удалось: на ходатайство об издании газеты, поданное от имени подставного лица, последовал отказ. От больших планов пришлось отказаться.
Но и тот «Свисток», который продолжал время от времени появляться в качестве одного из отделов «Современника», Добролюбов сумел сделать боевым органом литературной и политической сатиры– Подготовленные и выпущенные им восемь номеров «Свистка» представляли собой восемь оглушительных залпов, выпущенных в стан врага, прежде всего против дворянско-буржуазного либерализма с его трусостью, продажностью, лицемерием.

Первая страница «Свистка», («Современник» № 1 за 1859 год).
Фельетоны, сатирические куплеты и стихотворные пародии Добролюбова, брызжущие талантом и остроумием, отмечены подлинной политической остротой. Важной чертой «Свистка» была его тесная связь с жизнью, стремление по-газетному откликаться на самые злободневные вопросы, самые волнующие события отнюдь не только литературного характера.
Одним из таких событий, привлекавших внимание передовой русской общественности с самого начала 1859 года, были волнения рабочих на строительстве железных дорог, главным образом Московско-Нижегородской и Волго-Донской. Строительство осуществлялось крупными дельцами-подрядчиками, которые вербовали дешевую рабочую силу из крепостных крестьян. Невероятно тяжелые условия труда, жестокость обращения, нищенская оплата и ужасающее питание (например, на одном из участков пути во Владимирской губернии рабочих кормили протухшей солониной с червями, а воду привозили из стоячей заводи, в которой местные крестьяне стирали белье) – все это привело к возмущению среди строителей, которое прежде всего выразилось в том, что они партиями начали покидать свои участки, преследуемые жандармами и подрядчиками. Добролюбов не мог не откликнуться на это. И он писал в «Свистке» о трагическом положении крепостных рабочих на постройке железной дороги; предавал позору миллионера Кокорева, который выдавал себя за гуманного человека и поклонника гласности, но в то же время наживал громадные барыши при помощи бессовестной эксплуатации крестьян, согнанных из разных местностей на строительство «чугунки» и, по существу, обреченных на вымирание (статья «Опыт отучения людей от пищи»).
Внимание «Свистка» привлекла судьба женщины, которой предстояло зимой отправиться в Сибирь по этапу вместе с колодниками за несколько тысяч верст, не будучи ни в чем виноватой. Сведения об этой вопиющей истории проникли даже в печать, но «гласность» тех времен была такова, что имена действующих лиц были заменены буквой N. а вопрос о том, кто виноват в печальном происшествии, вообще не поднимался. По этому поводу Добролюбов писал в «Свистке» от имени выдуманного нижегородского жителя Д. Свиристелева, обращаясь к либеральным болтунам и краснобаям: «…Вы очень чувствительны; услышавши о несправедливости, вы начинаете громко кричать; узнав о несчастии, горько плачете. Но вы как-то умеете возмущаться против несправедливости вообще, так же как умеете сострадать несчастию в отвлеченном смысле, а не человеку, которого постигло несчастье… От того все ваши рассуждения и отличаются таким умом, благородством, красноречием и – непрактичностью в высшей степени. Вы до сих пор разыгрываете… каких-то чувствительных Эрастов: как будто исполнены энтузиазма и силы, как будто что-то делаете, а в сущности все только себя тешите и – виноват – срамите перед нами, простыми провинциальными жителями».
Это слова подлинного революционера, человека дела, страстно ненавидящего прекраснодушие и практическую беспомощность дворянского либерализма.
Внимательно приглядываясь к окружающей жизни, редактор «Свистка» стремился повсюду отыскивать факты и примеры, рисующие мрак и беззаконие, царившие в крепостническом государстве. Так, он собирался опубликовать в «Свистке» весьма красноречивый рассказ известного этнографа и писателя-демократа П. И. Якушкина о тех издевательствах, которым тот подвергся со стороны провинциальной полиции, Якушкин в качестве собирателя народных песен ходил по деревням Псковской губернии. Он имел обыкновение одеваться в простонародный костюм и именно этим возбудил подозрение бдительного полицейского начальства. Фольклориста схватили и в течение многих дней продержали в смрадной арестантской, в ужасных условиях. Якушкин писал об этом:
«Вы знаете, что я хожу по деревням, выбираю избы для ночлегов поплоше; стало быть, к грязи присмотрелся, но такой грязи, какую я нашел в арестантской, не дай бог вам видеть; я буквально целую ночь присесть не мог…







