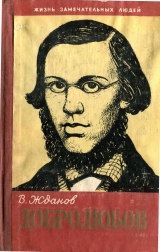
Текст книги "Добролюбов"
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
IV. ПЕРВЫЙ ГОД В ИНСТИТУТЕ
 е напрасно он занимался историей и математикой перед отъездом из Нижнего, – все это пришлось теперь как нельзя более кстати. Дело в том, что по приезде в столицу Добролюбов встретился – почти случайно – со студентами Главного педагогического института, которые без труда уговорили его отказаться от поступления в академию и попытать счастья в педагогическом институте.
е напрасно он занимался историей и математикой перед отъездом из Нижнего, – все это пришлось теперь как нельзя более кстати. Дело в том, что по приезде в столицу Добролюбов встретился – почти случайно – со студентами Главного педагогического института, которые без труда уговорили его отказаться от поступления в академию и попытать счастья в педагогическом институте.
Впрочем, его и не надо было уговаривать. Ему так хотелось избавиться от академии, а соблазн попасть в институт, считавшийся равным университету, был так велик, что он почти не колебался. Конечно, его очень смущала мысль о том, что скажет отец: он думал, что своим поступком поставит его в неловкое положение перед архиереем: тот, вероятно, рассердится, узнав, что сын священника Добролюбова поступил в светское учебное заведение. Он тут же написал домой о своих тревогах, уверяя, что будет ждать согласия родителей. Но почта двигалась в те годы медленно, и к тому времени, когда из Нижнего пришел ответ, Добролюбов уже благополучно сдал экзамены и был зачислен в список студентов.
Правда, первый ответ, полученный из дома, был неутешителен. Александр Иванович был недоволен нарушением родительской воли и сетовал на легкомыслие сына. Но в конце концов он понял, что ему придется примириться с институтом, и сообщил об этом в Петербург. К тому же оказалось, что и архиерей «Ерема» не так уж сердится: духовному начальству даже лестно было узнать, что воспитанник семинарии поступает в столичное учебное заведение. Когда все уладилось, Добролюбов в одном из писем к отцу сделал такое признание:
«…Я поехал в Духовную академию только от крайности. Давнишняя мысль моя и желание было поступить в университет; но когда сказали мне, что это невозможно, я старался найти хоть какое-нибудь средство освободиться от влияния отца Паисия и Еремы[4]4
Эти два имени вычеркнуты в тексте письма Добролюбова, вероятно, его отцом (он давал знакомым читать письма сына) и предположительно восстановлены Чернышевским (в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова»).
[Закрыть], и это средство я нашел в Петербургской академии. Но и при этом у меня всегда оставалась мысль не только поступить на статскую службу, но даже учиться в светском заведении. Мысль эта глубоко вкоренилась во мне и ничуть не была пустою мечтой… Я уже… давно понял, что я совсем не склонен и не способен к жизни духовной и даже к науке духовной».
Это слова человека, который много размышлял о себе, обрел твердость суждений и наполовину уже освободился от мглы, застилавшей ему глаза, расстался со многими предрассудками.
Вскоре начались учебные занятия, и Добролюбов с головой погрузился в науку, в новую жизнь, которая перед ним открылась.
* * *
Он был так доволен судьбой, что на первых порах ему решительно все нравилось в Петербурге, начиная от климата и кончая институтом. Товарищи, с которыми он жил теперь в одной камере (так назывались комнаты, где жили студенты), профессора, директор представлялись ему людьми необыкновенными: «Директор очень внимателен, инспектор – просто удивительный человек по своей доброте и благородству. Начальство вообще превосходное…» Он в восхищении и от институтской столовой, где студентов кормили (судя по его же описанию) более чем посредственно; в письме домой он даже нашел необходимым отметить, что за обедом каждому ставят особый прибор – это не то, что в академии, где несколько человек вместе «хлебают» из общей чаши… А если хочешь есть, добавлял новоиспеченный студент, подадут еще тарелку – совсем как дома. Но здесь он, судя по всему, покривил душой, чтобы доставить удовольствие матери; а может быть, он еще просто не знал тогда, что в обширном и тщательно разработанном «Наставлении для. студентов Главного педагогического института» было прямо указано: «За столом никто не вправе требовать себе другой порции; потому что во всяком благоустроенном казенном заведении всему ведется счет и мера».
Занятиями своими и большинством профессоров Добролюбов также был очень доволен. С интересом слушал он лекции по русской истории Н. Г. Устрялова, университетского профессора, автора многих учебников и многотомной «Истории царствования. Петра Великого» (позднее Добролюбов посвятил этому труду своего бывшего профессора обширную статью, в которой критиковал его исторические взгляды, стремление заменить историю народа историей царей). Высоко отзывался он о лекциях Н. М. Благовещенского, который вел курс латинской словесности, «Ах, если бы вы слышали нашего Благовещенского! – писал Добролюбов в Нижний своему бывшему учителю Кострову. – Как живо и увлекательно читает он «Энеиду» и делает объяснения на латинском языке. Просто заслушаешься!..»
«С дивным одушевлением также читает Лоренц», – отмечал Добролюбов; однако его лекции по истории на немецком языке были мало доступны для студента, не овладевшего языком настолько, чтобы свободно понимать живую речь. Неудачны были уроки француза Адольфа де Креси, который преподавал язык, ни слова не зная по-русски, чем ставил в трудное положение большинство студентов («…Мы сидим и напрасно напрягаем внимание»).
К «темным сторонам» института относил молодой студент и лекции профессора С. С. Лебедева по истории русской словесности. Это был любимый предмет Добролюбова, которым он увлекался с детства; однако лекции принесли ему жестокое разочарование: Лебедев был самым заурядным чиновником с убогими познаниями и жалким кругозором, ограниченным сугубо казенной точкой зрения на явления литературы. Когда позднее Добролюбов, продолжая семинарские традиции, начал писать пародии на лекции профессоров, Лебедеву суждено было стать одним из героев этих пародий, имевших большой успех и гулявших по всему институту.
Особенным уважением студентов пользовался профессор Измаил Иванович Срезневский, известный ученый-славист, академик, который вел курс славянской филологии. Это был человек, горячо преданный науке, он читал с увлечением, интересно рассказывал о своей поездке по славянским странам. В свое время он был также учителем Чернышевского, который слушал его лекции в университете и надолго сохранил с ним дружеские отношения. Срезневский первый заметил Добролюбова в институте, первый обратил внимание на его выдающиеся способности, а затем и подружился с ним. Их сближение началось после того, как студент рассказал профессору о своих этнографических и лингвистических занятиях в Нижнем, о том, как он в семинарские годы собирал областные нижегородские поговорки и пословицы. Это заинтересовало Срезневского, он выразил желание познакомиться с работой студента, дал советы, как систематизировать его собрание. Вскоре Добролюбов представил три тетрадки, содержавшие около пятисот слов с объяснениями их значения. Все собрание состояло из двух тысяч слов, но большую их часть пришлось исключить после сличения с существующими словарями. После этого работа Добролюбова приобрела несомненный научный интерес, так как состояла из областных слов, не вошедших даже в академический словарь.
В первые месяцы петербургской жизни Добролюбов чувствовал себя просто счастливым. Его дни наполнились радостным трудом, разнообразными новыми впечатлениями. С громадной охотой, с воодушевлением погрузился он в науки, занялся серьезной работой, о которой всегда мечтал. Он с удовольствием пишет родным о своих занятиях: «Принялся вплотную за греческий язык, за немецкую словесность, за географию, с увлечением читаю латинских классиков». Из множества тем, предложенных для сочинения профессором Благовещенским, он выбрал одну из самых трудных – сравнение перевода «Энеиды», Вергилия с подлинником (от этой темы отказались даже студенты старших курсов). Работа над областным словарем для Срезневского тоже требовала немалой усидчивости. Если прибавить к этому занятия по всем другим предметам, вплоть до политической экономии и законоведения, необходимость изучать языки, древние и новые, то можно представить себе, насколько загружен был рабочий день студента, начинавшийся в шесть часов утра. Неудивительно, что многие новички не успевали справляться с уроками, роптали, жалуясь на полное отсутствие отдыха и свободного времени.
Но как ни много было учебных дел, как ни поглощен был ими Добролюбов, однако он успевал и бродить по улицам, любуясь видами величественного города, и бывать изредка в театре, и осматривать музеи и художественные выставки, и работать в Публичной библиотеке. Каким-то чудом у него хватало времени еще и на то, чтобы подробно описывать свои впечатления в длиннейших письмах, которые он часто писая родным и знакомым – настолько часто, что родителей даже тревожно его пристрастие к письмам и они не раз просили сына беречь свое время. Отец убеждал его: «Не пиши, дружочек, много и ко многим… Тебе время нужно более ка полезное».
Он не очень прислушивался к этим советам, зная, как интересует родных каждая мелочь. Его многочисленные письма этого времени почти все сохранились. На редкость обстоятельные, блещущие юмором, полные интересных подробностей, они как бы заменяют прерванный дневник и служат теперь для нас незаменимым источником сведений о Добролюбове в петербургские годы его жизни. К этому надо добавить, что самый процесс писания писем, судя по всему, нисколько его не затруднял. Уже тогда он писал настолько легко и быстро, речь его лилась так непринужденно, что вряд ли можно думать, будто на письма у него уходило много времени. Писать – это была его стихия, его призвание.
Некоторые земляки Добролюбова удивлялись, что он мало рассказывает в письмах о Петербурге, не делится своими впечатлениями; говорили, что он равнодушен к окружающему, и приписывали это черствости его характера. На самом же деле он проявлял живейший интерес к новой обстановке, которая его окружала, и пользовался каждой минутой, чтобы увидеть что-нибудь новое и интересное. «Я раз пятьдесят, по крайней мере, прошел насквозь весь Невский проспект, – читаем мы в одном из первых петербургских писем, – гулял по гранитной набережной, переходил висячие мосты, глазел на Исаакия, был в Летнем саду, в Казанском соборе, созерцал картины Тициана и Рубенса…»
С волнением осматривал Добролюбов коллекции Публичной библиотеки (раз в неделю читатели допускались в книгохранилище), вглядывался в старинные книги и пожелтевшие рукописи на всевозможных языках.
И, может быть, еще сильнее задели его душу сокровища Эрмитажа, где он в первый раз провел часа четыре, но не нагляделся вдоволь и решил прийти снова при первой же возможности. Восхищаясь картинами Брюллова, мадоннами Рафаэля, портретами Рубенса и Тициана, он писал: «Это дивные произведения, о которых никакого понятия не дает ни печатный эстамп, ни мертвая ученическая копия, каких несколько случалось нам видать в прежнее время».
Таковы были первые петербургские впечатления Добролюбова. Жадно впитывал он все, что могли ему дать культура и искусство русской столицы. Он страстно хотел все увидеть, все узнать, все понять. Это был год, когда он, напряженно работая над своим развитием, продолжал накапливать силы для будущего.
* * *
Прошло совсем немного времени, и Добролюбов начал понимать, что институт был далеко не так хорош, как ему показалось на первых порах. Мы уже знаем, что некоторые профессора сразу же разочаровали молодого студента. Вскоре он увидел и многое другое. Педагогический институт уже не был рассадником вольнодумства, и профессора его давно перестали упражняться в «расколах и безверьи», по поводу чего в грибоедовские времена негодовали князья Тугоуховские. Казарменные порядки, установленные в закрытом учебном заведении, угнетающим образом действовали на студентов. Суровый режим дня и расписание, которым они подчинялись, были составлены таким образом, что не могли способствовать успешности занятий. Вот как описывал свой день сам Добролюбов в письме к двоюродному брату Михаилу Ивановичу Благообразову:
«В 6 часов раздается пронзительный звонок, и я встаю. Одевшись и умывшись, иду в камеру и принимаюсь за дело (т. е. за уроки) до половины 9-го. В это время новый звонок, и все идем завтракать. На завтрак дается, обыкновенно, булка и кружка молока… Перед завтраком читаются утренние молитвы, дневные – Апостол и Евангелие. Потом в 9 часов начинаются лекции, каждая по полутора часа. В 12 часов приносят оловянное блюдо, нагруженное ломтями черного хлеба: это еще завтрак или полдник. Потом опять лекции продолжаются до 3 часов. До обеда обыкновенно бывают четыре лекции. В три часа обед, на котором бывает три блюда, а после обеда до 4-х с половиной мы можем и даже должны гулять по городу. В половине пятого еще лекция до 6 часов. В 6 часов пьем чай, свой, не казенный. В 8½ – ужин из двух кушаний. В 10 спать отправляемся, как вот и теперь, сейчас отправляюсь. Прощай, брат, спокойной ночи…»
Регламентация институтской жизни была тяжелой и бессмысленной. Достаточно сказать, что по уставу студентам, например, запрещалось пить чай (вместо чая полагался сбитень, горячий напиток на меду). Правда, это правило нарушалось, потому что студенты не хотели отказываться от вполне невинной привычки, но им приходилось покупать чай на свои деньги, а администрация делала вид, что она этого не замечает.
Всего этого довольно долго не видел Добролюбов. Даже родные в Нижнем поняли, что распорядок дня неудобен для студентов и оставляет мало времени для самостоятельных занятий. Но он упорно доказывал, что его время «распределено, как нельзя лучше». Остались позади почти два месяца учения, когда Добролюбов вынужден был, наконец, признаться; «Надобно сказать правду, папаша: Вы совершенно правы. Времени для занятий здесь мало… Я почувствовал это теперь, когда нам дали темы для сочинений. Чары занятий так часто прерываются, что нет возможности втянуться в работу…»
Другой особенностью, института был дух религиозного ханжества, пропитывавший насквозь всю его официальную жизнь. Молитвы дважды в день, чтение евангелия, молебны и посещения церкви отнимали так много дорогого времени, что Добролюбов, которого, казалось бы, трудно было этим удивить, досадовал в письме к родным: «А право, здесь больше благочестия, чем в академии».
В «Наставлении для студентов» было сказано: «Молитвы утренняя и вечерняя должны быть совершаемы с подобающим благоговением: о малейшем беспорядке во время молитвы дежурные доносят директору». Этим разгулом казенного «благочестия» студенты были обязаны именно ему – директору института Ивану Ивановичу Давыдову, человеку, известному не столько своими учеными трудами, за которые он, однако, получил звание профессора и даже академика, сколько низостью своего характера, угодничеством перед начальством, хитростью и умением казаться совсем не тем, чем он был на самом деле. Добролюбов не раз писал домой об «учености» Давыдова, рассказывал о его удивительной доброте по отношению к студентам, с гордостью сообщал о похвалах, которые ему случалось получать от своего «деятельного, заботливого и благородного начальника»… Студент-первокурсник еще не знал, что в действительности представляет собой директор института. Позднее Добролюбову суждено было вступить в опасную борьбу с всемогущим «Ванькой», пользовавшимся покровительством весьма высоких лиц.
Неопытные студенты-новички принимали за чистую монету мягкость и обходительность Давыдова, говорившего ласковым и вкрадчивым голосом, умевшего даже «пускать слезу» в особо торжественных случаях. Эта фальшивая сентиментальность нисколько не мешала Давыдову притеснять студентов и расправляться с теми, кто был ему неугоден.
Первокурсники через некоторое время начинали ощущать, что они беззащитны и бесправны. Их постоянно корили бедностью, внушали, что они ничто и правительство их облагодетельствовало с ног до головы, допустив на паркетные полы института и позволив слушать лекции знаменитых профессоров. Они должны были испытывать вечную благодарность к начальству, которое окружало их «отеческой любовью» (директор без стеснения сам величал себя «отцом» студентов).
Бесчисленные упреки и оскорбления, по словам друга Добролюбова М. И. Шемановского, сыпались прежде всего на бывших семинаристов, которые во многом отличались от другой части студентов, сохранивших название гимназистов. Эти две группы довольно заметно враждовали между собой. «Гимназисты» были лучше воспитаны в «светском» смысле и происходили из более зажиточных семей. Это давало им возможность подсмеиваться над неуклюжестью и робостью «семинаристов».
Состав первого курса вообще был весьма разношерстный; преобладали здесь разночинцы, но и среди них были люди разного культурного уровня, съехавшиеся из разных городов, и это было одной из причин известной разобщенности студентов, начавшей стираться только на втором году совместных занятий. Добролюбов ощущал эту разобщенность и держался несколько в стороне от большинства, не умея сам сделать первые шаги к сближению. Однако были у него товарищи и в это время – хотя бы его сожители по комнате, которых он нередко угощал чаем и булкой (у многих студентов-«семинаристов» не хватало денег даже на это). Более других подружился он с Дмитрием Щегловым.
Уже к середине первого года пребывания в институте Добролюбов заслужил всеобщее уважение студентов и профессуры. Были замечены его начитанность, знания, литературные способности, умение отлично записывать лекции, склонность к серьезной работе. В это время почти все педагоги вслед за Срезневским поняли, что такого даровитого студента с такими обширными знаниями еще не бывало в институте. Понял это и Иван Иванович Давыдов. Однако для Добролюбова пора первого увлечения профессорами и занятиями быстро миновала. Он начал теперь спокойно готовиться к лекциям – ровно настолько, чтобы никто не мог его упрекнуть в недостатке знаний по программе, и не заботясь о большем; а это не требовало от него особых; усилий и прилежания. Главные же усилия он стал тратить на чтение, самообразование и на те немногие институтские работы, которые считал для себя важными (например, изучение перевода «Энеиды»).
Письма Добролюбова позволяют судить о том, как его интересы постепенно становились глубже и многообразнее. Более острым и напряженным делается его внимание к литературе. Он следит за журналами; он не пропускает ни одного слова, когда Срезневский на лекции излагает литературные новости или читает стихи. Его удручает бедность современной поэзии, в которой он видит мало больших дарований.
События Крымской войны, начавшиеся осенью 1853 года, на первых порах не задели глубоко Добролюбова, хотя его письма к родным пестрят упоминаниями о молебнах за успехи русского оружия и слухами о военных действиях, доходившими до столицы. Но знаменательно, что во всех этих откликах ясно выражено его возмущение тем ложнопатриотическим пафосом, который искусственно подогревался в императорском Петербурге. Мало интересуясь действительным положением и нуждами русской армии, героически защищавшей Крымский полуостров от англо-французского флота, петербургское «общество» увлекалось войной как очередной сенсацией, поводом для разговоров, спектаклей и благотворительности. Добролюбов в одном из писем язвительно говорит об этом: «Война, после Рашели[5]5
Элиза Рашель – знаменитая французская драматическая актриса, выступавшая в начале 50-х годов в Петербурге.
[Закрыть] теперь, кажется, нераздельно занимает умы. Пробудились политики, патриоты, хвастуны, поэты…»; «…Поэты деятельно вооружились рифмами, оседлали Пегаса». Он переписывает и посылает домой с ироническими комментариями стихи Федора Глинки, П. Вяземского, Н. Кукольника, А. Майкова, Е. Ростопчиной, безыменные куплеты, ходившие по рукам. «Всюду разлилась стихотворная горячка…» В стихах на «злобу дня» он не ищет больших достоинств – они интересны ему только как отражение современных толков и настроений.
И тут ему приходит в голову большая мысль – свидетельство серьезных раздумий о состоянии литературы: «Того и гляди, что из этого хаоса вдруг встанет могучая душа и силою поэтического чувства своего вызовет к жизни нашу упавшую поэзию» (из письма от 1 марта 1854 года). Запомним эти слова, столь характерные для будущего критика.

Н. А. Добролюбов. Фотография 1857 года.

Дом на Литейном проспекте, в котором на втором этаже помешалась редакция «Современника» и квартира Н. А Некрасова.
О новых чертах в облике Добролюбова свидетельствует и обострение его интереса к Нижнему Новгороду, к его истории и его людям. Он называл это развитием «чувства родины в теснейшем значении этого слова». Однажды студентам предложили описать в сочинении свой город, свою губернию или уезд. Добролюбову очень хотелось взяться за такое сочинение, но он отказался, считая, что не обладает достаточным запасом сведений. Рассказав об этом в письме к родителям, он добавляет: «…всякий должен знать свою губернию как можно лучше во всех возможных отношениях, и я жалею, что совсем не знаю нижегородской статистики».
Тогда же Добролюбова заинтересовала личность его земляка, знаменитого изобретателя Кулибина. Он прочел в «Москвитянине» статью о нем, рассердился на ее неполноту и вспомнил, что слышал от матери какие-то нижегородские предания об изобретателе-самоучке. Он немедленно потребовал от родителей: «…пожалуйста, напишите все, что Вы знаете об этом предмете». Отец ответил, что история Ивана Петровича Кулибина печаталась в «Нижегородских губернских ведомостях» девять лет назад (в 1845 году) чуть ли не на протяжении всего года. Этот ответ не удовлетворил Добролюбова, и на другой же день он писал: «Пожалуйста, ничего печатного. Я все перечитал о Кулибине, знаю и статью «Нижегородских ведомостей»; она не кончена, доведена только до царствования императора Павла I; – ведь после этого-то вскоре Кулибин и удалился в Нижний и жил там. Говорят, что в Нижнем есть или, по крайней мере, было много преданий о его жизни, о его смерти и т. п.».
Спустя несколько лет, перечисляя в одной из своих статей великих людей русского народа, Добролюбов не без гордости отметил: «Наш знаменитый механик, которому удивлялись иностранцы… – Кулибин, был нижегородский мещанин…»
* * *
В середине марта пришло письмо, в котором отец извещал сына о том, что у него появилась новая сестрица, названная Лизой, и что мать тяжело больна после родов. Это была отцовская предусмотрительная осторожность: на самом деле Зинаида Васильевна скончалась еще 8 марта. Александр Иванович медлил с извещением, не знал, как сказать об этом сыну.
Большое горе обрушилось на Добролюбова. Утешая в письмах отца, он напоминал ему, что только твердость воли и сила духа, проявленные в несчастьях, возвышают человека и показывают его истинные достоинства. Но сам он не находил себе места и тяжело переживал потерю нежно любимой матери.
В письмах и дневнике, полных скорби о матери, Добролюбов не раз обращается к богу в надежде успокоиться, примириться с утратой. Но это последний взрыв религиозного чувства. «Я редко могу молиться, я слишком ожесточен», – говорит: он в одном из писем. И мы узнаем, как велика была его привязанность к матери, как дорожил он материнской любовью. «Знаешь ли, – пишет он двоюродному брату, – что во всю мою жизнь, сколько я себя помню, я жил, учился, работал, мечтал всегда с думой о счастье матери? Всегда она была на первом плане; при всяком успехе, при всяком счастливом обороте дела, я думал только о том, как это обрадует маменьку… Мне кажется, что будь она счастлива, я бы тоже был счастлив её счастьем… Все исчезло для меня вместе с обожаемой матерью… Отчий дом не манит меня к себе, семья меньше интересует меня, воспоминания детства только растравляют сердечную рану…»
В эти трудные дни его поддержали и утешили два товарища, два добрых человека, как он назвал их в письме к отцу, – Александр Радонежский, рыбинский семинарист, сам недавно потерявший мать (она умерла от холеры), и особенно Дмитрий Щеглов, человек неглупый и развитой, имевший, по словам Добролюбова, стремления, до которых «еще не может подняться большая часть наших студентов».
Щеглов не только утешал Добролюбова, – в эту пору он влиял и на его идейное развитие, помогая ему освобождаться от религиозных настроений. Однако в дальнейшем пути их резко разошлись.







