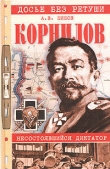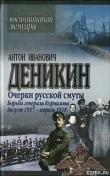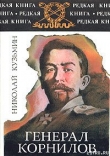Текст книги "Лавр Корнилов"
Автор книги: Владимир Федюк
Соавторы: Александр Ушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Несмотря на все уговоры, Алексеев оставался непреклонен. Когда на следующий день из Петрограда пришла официальная телеграмма по поводу назначения Корнилова, Алексеев ответил, что он категорически не согласен, а если это назначение все-таки состоится, то он немедленно подает в отставку. Деникин вспоминал: «Никогда еще Верховный главнокомандующий не был так непреклонен в сношениях с Петроградом. У некоторых, в том числе у самого Корнилова, как он мне впоследствии признался, невольно создалось впечатление, что вопрос был поставлен несколько шире, чем о назначении главнокомандующего… что здесь играло роль опасение “будущего диктатора”» {193} .
В позиции Алексеева не могло быть ничего личного. С Корниловым ему, скорее всего, прежде близко сталкиваться не приходилось. Представление Корнилова императору в сентябре 1916 года пришлось на время, когда Алексеев по болезни отсутствовал в Ставке. В роли главнокомандующего Петроградским военным округом Корнилов был подчинен военному министру, а не Алексееву. Скорее всего, реакция Алексеева была обусловлена тем, что Корнилова ему откровенно навязывали сверху. Для Алексеева Корнилов был очередным «вундеркиндом», выскочкой, которые в великом множестве появились уже в первые месяцы революции. Так или иначе, но этот эпизод зародил между двумя генералами взаимную неприязнь, потом не раз проявлявшуюся очень заметно.
В итоге Гучков уступил. Позже он вспоминал, что в других условиях попытался бы настоять на своем. Однако, предвидя в ближайшие дни свою отставку, он решил не рисковать уходом еще и Алексеева. Корнилов получил под командование 8-ю армию, входившую в состав Юго-Западного фронта. Но показательно, что Гучков ради Корнилова был готов идти на конфликт с Верховным главнокомандующим. Это означало, что те силы, которые ориентировались на военный переворот, обратили внимание на Корнилова. Для Корнилова начинался новый этап в его военной и политической карьере.
«ПОДПОЛЬЕ» И «НАДПОЛЬЕ»
С каждым месяцем, с каждой новой неделей революция раскалывала Россию. Политическим выразителем той части населения страны, кого пугала нарастающая анархия, стала партия кадетов. В последние годы существования российской монархии конституционно-демократическая партия (она же «Партия народной свободы») была крупнейшей парламентской оппозицией. При этом обе стороны, власть и оппозиция, играли по правилам, хорошим или плохим, но привычным. Теперь, когда правила изменились, кадеты оказались к этому абсолютно не готовы.
Именно отчаянной попыткой сохранить эти правила, а отнюдь не коварными антинародными замыслами, было продиктовано стремление кадетского руководства остановить революцию на стадии конституционной монархии. Сообщая в день отречения императора американским корреспондентам о предполагаемом регентстве великого князя Михаила, Милюков особо подчеркнул: «Таково наше решение и изменить его мы считаем невозможным» {194} . В те дни Милюков категорически высказывался за вступление Михаила на престол, ставя это условием своего вхождения во Временное правительство. Сохранение трона, будь на нем любой из Романовых, не могло бы пройти безболезненно для страны. По словам другого представителя кадетского руководства, для этого «потребовались бы очень решительные действия, не останавливающиеся перед кровопролитием, перед арестом Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, перед провозглашением, в случае попыток сопротивления, осадного положения» {195} . Это понимал и Милюков, когда, уговаривая Михаила принять корону, он заверял, что «вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу для защиты великого князя» {196} .
Для российского либерала смириться с необходимостью применения насилия было уже поступком (впрочем, Милюкову это было сделать проще, чем многим его сотоварищам). Еще большим поступком было бы осуществить это на практике. Кадеты сделали первый шаг, но на второй у них решительности не хватило. Куда проще оказалось превратиться из монархистов в республиканцев. Через неделю после отречения Михаила пленарное заседание кадетского ЦК с участием представителей думской фракции одобрило резолюцию, предлагавшую изменить соответствующий параграф партийной программы в смысле признания необходимости установления демократической республики.
25 марта 1917 года в Петрограде в помещении Михайловского театра открылся VII чрезвычайный съезд кадетской партии. Первый же день его работы был целиком посвящен вопросу о форме государственного правления. С докладом от имени ЦК выступил Ф.Ф. Кокошкин, профессор-юрист, считавшийся в партии главным специалистом по конституционному праву. В своей речи он подчеркнул, что кадеты «никогда в своем большинстве не считали монархию, хотя бы и парламентарную, наилучшей формой правления». Выступления делегатов с мест продемонстрировали полное преобладание республиканских настроений. В итоге обсуждения съезд принял по докладу Кокошкина резолюцию, изменявшую соответствующий параграф программы. Отныне он должен был звучать следующим образом: «Россия должна быть демократической парламентарной республикой».
Замена монархического лозунга на республиканский дала возможность сближения кадетов с умеренными социалистами. Дотоле контакты кадетов с левыми были кратковременными и эпизодическими. Сейчас же блокирование с левыми было для партии вопросом выживания. В мартовские дни 1917 года Россия словно сошла с ума. Красные флаги заполонили грады и веси. В такой ситуации кадеты с их зеленым знаменем имели реальный шанс оказаться на обочине большой политики. 23 марта член кадетского ЦК журналистка А.В. Тыркова записала в своем дневнике: «Генералы у нас есть, а армии нет. У левых армия огромная, но нет ума в центре» {197} . В этих словах содержалась вся суть «левой ориентации» кадетов. Кадеты претендовали на лидирующую роль по отношению к социалистически настроенной «безглавой» массе, даже если ради этого пришлось бы маршировать под красным флагом.
Подчас это внешнее «покраснение» производило впечатление чрезмерности. Делегаты VII съезда – «приличные пиджачные пары и сюртуки, благообразные физиономии, выразительные лбы и лысины» {198} – по закрытии последнего заседания хором пропели «Вы жертвою пали». 28 марта депутация делегатов возложила венок с красно-зеленой лентой на братскую могилу жертв революции. Далеко не всегда это делалось искренне. Как вспоминал позднее редактор кадетской газеты «Речь» И.В. Гессен, славословя революцию, ему чаще всего «приходилось попросту кривить душой» {199} .
Главная проблема была в том, что социалистические партии вовсе не собирались отдавать армию своих приверженцев под начало «генералов-кадетов». Более того, в левой прессе нападки на кадетов стали хорошим тоном. После свержения монархии кадеты стали единственной несоциалистической партией из оставшихся на политической арене и должны были за это платить. В массовом восприятии формировался карикатурный облик кадета – буржуя и империалиста. В те дни была популярна следующая частушка:
Глазки черны, ручки белы,
На ногах штиблеты.
Если хочешь Дарданеллы —
Запишись в кадеты.
Дарданеллы были здесь не самым страшным, а вот штиблеты и белые руки обладатели сапог и лаптей кадетам вряд ли бы простили.
Вполне возможно, что уже тогда в поле зрения кадетского руководства попал Корнилов. Однако у нас нет свидетельства того, что кадетские лидеры пытались в то время наладить прямой контакт с командующим Петроградским военным округом. Российские либералы привыкли строить политические комбинации и в новых условиях были не готовы к жестким решениям. Единственное, что они могли сделать, – это подготовить к таким решениям общественное мнение.
Кадеты были своего рода «надпольем», но в это же время начинает формироваться и новое, рожденное революцией «подполье». Это слово следует взять в кавычки, поскольку нелегальный статус такового «подполья» был весьма относителен. Его участники не прятались по конспиративным квартирам, но и не слишком афишировали свою деятельность. Одной из таких организаций стало «Общество экономического возрождения России». У истоков его стояли крупнейшие тогдашние финансисты А.И. Путилов и А.И. Вышнеградский.
Через двадцать лет после этих событий, уже будучи в эмиграции, Путилов рассказывал: «Временное правительство проявляло такую слабость, что опасность слева становилась для нас несомненной». У руководителей крупнейших российских банков состоялся обмен мнениями по этому вопросу. Решено было создать общество, для того чтобы подготовить избрание в будущее Учредительное собрание «умеренных буржуазных кандидатов». «Задача настолько была очевидна, – вспоминал Путилов, – что на нашу инициативу откликнулись все банковские, промышленные и страховые круги» {200} .
С мая 1917 года задуманное дело возглавил ушедший в отставку Гучков. В короткий срок на агитационные цели было собрано 4 миллиона рублей. Деньги были положены на счетах в Русско-Азиатском, Азовско-Донском и Международном Сибирском банках (все эти три банка принадлежали Путилову). Гучков потратил полмиллиона на выпуск агитационных брошюр и листовок, однако заметных результатов это не приносило. Путилов рассказывал об этом: «Думали мы, грешным делом, что ничего путного из пропаганды не выйдет. Что могло выйти, когда мы должны были говорить о “войне до победного конца”, а большевики возглашали “мир без аннексий и контрибуций”?»
Об Учредительном собрании больше не вспоминали – созыв его откладывался на неопределенное время, а до той поры могло случиться все. У Гучкова были другие идеи. Спустя пятнадцать лет он сам рассказал об этом: «С самого начала я подумал, что без гражданской войны и контрреволюции мы не обойдемся, и в числе лиц, которые могли бы возглавить движение, мог бы быть Колчак. Я думал и о Гурко, об Алексееве, но меньше, а Колчак представлялся мне подходящей фигурой…» {201} Но планы эти получили продолжение уже в другом антураже.
В начале мая 1917 года в Петрограде возникла новая организация, поставившая перед собой те же цели, что и группа Путилова – Гучкова, – «Республиканский центр». Название это было выбрано чисто случайно и не отражало характера ее деятельности. Как вспоминал потом один из ее основателей, «в Республиканском центре разговоров о будущей структуре России не поднималось; казалось естественным, что Россия должна быть республикой, отсюда и пошло название…» {202} . По своему составу «Республиканский центр» был крайне пестрым. Вступающих в организацию не спрашивали о тонкостях партийных доктрин, главным было неприятие большевизма и стремление сохранить Россию единой и сильной.
Месяцем позже в составе «Республиканского центра» возникла военная секция во главе с полковником Л.П. Дюсиметьером. Военный летчик по специальности, он привлек к работе организации своих сослуживцев из Главного управления военно-воздушного флота. Среди них был капитан В.Л. Покровский, с которым Корнилову год спустя придется столкнуться в дни боев на Кубани. Военная секция «Республиканского центра» объединила вокруг себя около десятка мелких офицерских организаций.
С деньгами у центра проблем не было: в числе его учредителей были весьма состоятельные люди. Не исключено, что «Республиканский центр» имел контакты и с «Обществом экономического возрождения России». Во всяком случае, среди основателей центра был ближайший сотрудник Путилова Ф.А. Липский. Первоначально заявленной целью «Республиканского центра» была помощь Временному правительству через «организацию общественной поддержки путем печати, собраний и проч».. Однако июльские события побудили к пересмотру этого курса.
Как прежде Гучков, а может быть, и с прямой подачи Гучкова, руководство «Республиканского центра» обратило свой взор на адмирала А.В. Колчака. В начале июля, когда Колчак, с шумом покинувший пост главнокомандующего Черноморским флотом, приехал из Севастополя в Петроград, он получил приглашение на приватную встречу. После этого Колчак стал регулярно бывать на заседаниях центра, но эти контакты прервались после его отъезда за границу.
По некоторым, впрочем, непроверенным, сведениям, на первом заседании «Республиканского центра» присутствовал и Корнилов. Это вызывает сомнения, поскольку расходится с датой отъезда Корнилова из Петрограда. В любом случае, кандидатура Корнилова на роль вождя, способного привести страну к порядку, весной 1917 года еще всерьез не рассматривалась. Безусловно, Корнилов уже тогда обладал известностью, но не следует преувеличивать ее масштабы. Побег из плена остался в прошлом, а деятельность Корнилова на посту главнокомандующего Петроградским военным округом в масштабе страны осталась почти не замеченной. Тот генерал Корнилов, каким он остался в истории русской революции, мог и не состояться. Будущий вождь, какое бы имя он ни носил, нуждался в славе, а славу эту можно было получить только на войне.
ОФИЦЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Мировая война привела к существенным изменениям в составе офицерского корпуса русской армии. Острая нехватка младшего и среднего командного состава побудила ввести ускоренный курс в военных училищах и создать специальные школы прапорщиков. Единственным критерием при отборе туда было наличие образования хотя бы на уровне четырехклассного городского училища. В результате офицерский корпус пополнился представителями тех кругов, которым в прежнее время проникнуть туда было невозможно.
Именно выходцы из средних городских слоев, крестьян, рабочих составляли ко времени революции абсолютное большинство офицеров. В просторечии их называли «штабс-капитанами», так как это был тот чин, до которого к 1917 году мог дослужиться офицер, начавший войну прапорщиком. Всего же численность офицерского корпуса к тому времени составляла от 250 до 300 тысяч человек {203} .
В большинстве своем «штабс-капитаны» не имели никаких оснований для благоговения перед монархией и потому известия о революции они встретили с радостью. Но революция уже с первых дней продемонстрировала и свои страшные стороны. «Великая и бескровная», как называли ее газеты тех дней, привела к массовым убийствам офицеров в Кронштадте и Гельсингфорсе. Нередкие случаи расправ над офицерами имели место в тыловых гарнизонах и даже на фронте.
Социальный престиж офицерства стал быстро и неуклонно падать. Принято считать, что это было реакцией солдат на жесткую дисциплину предыдущей поры. Бесспорно, свобода, воспринятая как вседозволенность, сделала свое дело. Но не солдаты писали уже упоминавшийся «приказ № 1». Он категорически запрещал выдачу оружия офицерам без согласия солдатских комитетов и тем самым огульно ставил под подозрение все офицерство как таковое. Авторы приказа – социалисты из исполкома Петроградского Совета были вполне образованными и интеллигентными людьми.
Русская радикальная интеллигенция всегда с полупрезрением относилась к офицерству. К тому же жила она в книжном мире, переполненном ассоциациями с Великой французской революцией. В результате офицерство, еще не успевшее провиниться ни в чем, заранее было объявлено «опорой контрреволюции». Стоит ли после этого удивляться тому, что Керенский и иже с ним вызывали в офицерской среде ненависть не меньшую, чем большевики?
Офицерство по природе своей особенно болезненно воспринимало развал армии. Виновных в этом не нужно было искать – это были все те же политиканы и агитаторы во главе с Керенским. Таким образом, помимо своего желания офицерство действительно превращалось в силу, ратовавшую за восстановление твердой власти. Нельзя, разумеется, преувеличивать степень консолидации внутри офицерского корпуса. Часть офицеров попыталась «демократизироваться», в той или иной мере удачно. На практике это выражалось в заигрывании с солдатами, стремлении взять на вооружение демагогию и революционную фразу. Другая, тоже немалая, часть самоустранилась от происходящего и искала лишь законных путей для дезертирства. Но были среди офицеров и те, кто твердо решил бороться с анархией.
В середине апреля 1917 года двое офицеров Ставки – полковники Д.Н. Лебедев и В.М. Пронин выступили с инициативой создания общеармейского офицерского союза. Они доложили о своем замысле начальнику штаба генералу Деникину, который, выслушав их идею, направил их к Верховному главнокомандующему генералу Алексееву. Как ни странно, поначалу этот замысел вызвал неприятие и у Алексеева, и со стороны многих представителей самого же офицерства. Основное возражение основывалось на том, что созданием союза будет внесен еще больший раскол между офицерством и солдатами. Принципиально выступая против солдатских комитетов, главное командование не могло согласиться с образованием комитетов офицерских.
Однако быстро меняющаяся ситуация заставила Алексеева переменить свое мнение. Явочным порядком, легально или полулегально, офицерские организации стали возникать уже с середины марта. Это ставило вопрос о том, кто будет контролировать стихийно начавшееся движение. Одна из действовавших к этому времени организаций – петроградский офицерский совет – объявила о созыве на начало мая Всероссийского съезда офицерских депутатов, военных врачей и чиновников. Зная имена инициаторов этого дела, можно было предположить, что решения предстоящего собрания будут выдержаны в социалистическом духе. Учитывая это, Алексеев дал согласие на проведение в Могилеве альтернативного съезда.
В первых числах мая в Могилев съехались 297 делегатов, на три четверти представлявших фронтовое офицерство. Торжественное открытие съезда состоялось 7 мая 1917 года в помещении городского театра. На первом же заседании председателем был избран полковник Л.Н. Новосильцев, командир 10-й Отдельной тяжелой батареи. Как недавний депутат Думы, представлявший в парламенте кадетскую партию, он был человеком, искушенным в политике.
Съезд открылся речью генерала Алексеева. В ней впервые прозвучало то, что уже понимали многие: «Россия погибает. Она стоит на краю пропасти. Еще несколько толчков вперед, и она всей тяжестью рухнет в эту пропасть». Закончил Алексеев свое выступление словами: «Мы все должны объединиться на одной великой платформе: Россия в опасности. Нам надо как членам великой армии спасать ее. Пусть эта платформа объединит вас и даст силы к работе» {204} .
За время своей работы с 7 по 22 мая съезд провел 13 пленарных заседаний, плюс к тому заседания комиссий и частные заседания, не имевшие официального характера. На одном из них выступил известный всей России крайне правый думский депутат В.М. Пуришкевич. В свое время популярность ему создали скандальные выступления с парламентской трибуны, а еще больше – участие в убийстве Распутина. У Пуришкевича и раньше были связи в офицерской среде (в мировую войну он заведовал одним из санитарных поездов и неоднократно выезжал на фронт). Есть сведения о том, что созданное им в 1917 году «Общество русской государственной карты» объединило вокруг себя значительное количество офицеров. Но это отнюдь не следует считать доказательством массового распространения среди офицерства монархических идей. На могилевском съезде сам Пуришкевич позиционировал себя как революционера, говоря о том, что это именно он убийством «старца» подал сигнал к перевороту.
За два дня до окончания работы съезда в Могилев прибыл военный министр Керенский. Свое выступление перед делегатами он построил в обычной для него манере, чередуя пламенные призывы к защите свободы с невнятными угрозами в адрес противников революции. Но на этот раз привычного взрыва экзальтации речь Керенского не вызвала. Участники съезда своим холодным приемом ясно продемонстрировали «вождю российской демократии», что их настроения мало совпадают с его политической линией.
В резолюциях съезда говорилось о необходимости восстановления дисциплины в армии, ликвидации искусственно создаваемой розни между солдатами и офицерами, принятия самых жестких мер против дезертиров и уклоняющихся от боя. Самым же главным результатом было создание Союза офицеров армии и флота. Председателем Главного комитета союза был избран полковник Новосильцев, его заместителями – полковники Пронин и Сидорин. Местом пребывания Главного комитета был избран Могилев. Это было принципиально важно. Делая выбор между Могилевом и Петроградом, руководители союза давали понять, что в намечающемся противостоянии Временного правительства и Ставки новая организация свою позицию определяет однозначно.
Отделы и подотделы Союза офицеров создавались при штабах крупных частей и соединений, в тыловых гарнизонах и округах. По сути дела, возникала разветвленная сеть, способная в кризисной ситуации сыграть очень важную роль.
Однако при этом надо помнить, что Союз офицеров, будучи организацией легальной, открыто свою антиправительственную позицию ни в чем не выражал. Союз готов был поддержать авторитетного лидера, выступившего бы с лозунгами наведения порядка, но сам провоцировать подобное выступление не стал.
Другой вопрос, что большая часть руководителей союза совершенно ясно склонялась к идее установления в стране твердой власти. В начале июня Новосильцев, Сидорин и еще один член Главного комитета – капитан Кравченко тайно прибыли в Москву. Здесь на квартире члена кадетского ЦК князя П.Д. Долгорукова состоялась их встреча с московскими кадетами. Московский отдел был самым сильным и влиятельным в кадетской партии, по сути, именно его позиция определяла партийную линию. Однако встреча эта представителей Главного комитета разочаровала. Новосильцев вспоминал, что его собеседники готовы были поддержать переворот, но уклонялись от какого-либо участия в его подготовке {205} .
В поисках единомышленников Новосильцев и Сидорин выехали в Петроград. Здесь они встречались с Милюковым, Родзянко и некоторыми другими политиками меньшего масштаба. У Милюкова визитеры из Могилева не вызвали энтузиазма. Он явно не верил в затею с военным переворотом, хотя от сотрудничества в будущем и не отказался. Родзянко проявил большую заинтересованность и даже назвал фамилию Брусилова в качестве возможного кандидата на роль военного диктатора. Новосильцев и Сидорин, знавшие, что Брусилов сделал ставку на Керенского, отнеслись к этому варианту скептически. Их более привлекал Колчак. Короткая встреча с Колчаком еще более утвердила их в этом мнении. В Ставку посланцы Главного комитета возвращались, уже имея определенное видение будущего.
Идея военной диктатуры, что называется, витала в воздухе. К этому склонялись руководители большинства офицерских организаций. Одна из таких групп, действовавших помимо Союза офицеров, была создана в Петрограде в мае 1917 года по инициативе генерала П.Н. Врангеля и полковника А.П. Палена. В своих мемуарах Врангель рассказал об этом так: «В помощь нам мы привлекли нескольких молодых офицеров. Нам удалось раздобыть кое-какие средства. Мы организовали небольшой штаб, прочно наладили связь со всеми военными училищами и некоторыми воинскими частями, расположенными в столице и пригородах, организовали рад боевых офицерских дружин. Работу удалось поставить отлично. Был разработан подробный план занятия важнейших центров города и захвата всех тех лиц, которые могли бы оказаться опасными» {206} .
Кандидатом на роль будущего военного диктатора, по мнению Врангеля, мог бы быть командующий 9-й армией генерал П.А. Лечицкий, незадолго до этого смещенный со своего поста. Однако Лечицкий отказался от сделанного ему предложения. Тогда Врангель нашел выход на находившегося в те дни в Петрограде ординарца Корнилова В.С. Завойко. Их встреча состоялась на квартире Завойко, жившего на набережной Фонтанки у Семеновского моста. Врангель вспоминал: «Завойко произвел на меня впечатление весьма бойкого, неглупого и способного человека, в то же время в значительной мере фантазера. Мы говорили очень мало, почти все время говорил сам Завойко. С моими мыслями он согласился с первых слов. По его словам, так же смотрел на дело и генерал Корнилов» {207} . По протекции Завойко один из членов организации Врангеля – поручик И.П. Шувалов был зачислен в штаб Корнилова.
Сам Врангель через какое-то время получил назначение на фронт, и во главе организации остался граф Пален. Но контакты между петроградским подпольем и штабом Корнилова после этого не прекратились. Более того, они стали еще прочнее. Поручик Шувалов вошел в состав руководства «Республиканского центра», и, таким образом, вся необходимая информация могла накапливаться у заинтересованных лиц.
Обратим внимание на важное обстоятельство. Весной и в начале лета 1917 года военную диктатуру определенно поддерживало только офицерское «подполье». «Надполье», в лице политических партий и их вождей, занимало позицию более осторожную. Вероятно, главной причиной этого было то, что у сторонников диктатуры не было популярного лидера. Не случайно в обойме возможных кандидатов на роль диктатора фигурировало до десяти человек. Корнилов среди них был далеко не первым. Недавний командующий столичным округом только что прибыл на фронт, где ему еще предстояло доказать, на что он способен.