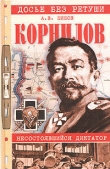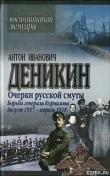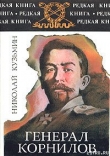Текст книги "Лавр Корнилов"
Автор книги: Владимир Федюк
Соавторы: Александр Ушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
К середине июля 1917 года обстановка на основных фронтах по-прежнему оставалась напряженной. В Галиции немцы и австрийцы продолжали теснить русские войска, и, хотя паника первых дней улеглась, конца отступлению было не видно. В этой ситуации Керенский назначил на 16 июля совещание в Ставке для выработки неотложных мер. Чрезвычайный характер этой встречи подчеркивался участием в ней отставных военачальников. Персональные приглашения получили М.В. Алексеев и бывший главнокомандующий Северным фронтом генерал Н.В. Рузский.
Брусилов от своего имени пригласил на совещание генералов В.И. Гурко и А.М. Драгомирова. Еще недавно они командовали соответственно Западным и Северным фронтами, но были смещены по настоянию Керенского. Вопрос об их участии спровоцировал неприятный инцидент. Узнав о приглашении Драгомирова и Гурко, Керенский заявил категорический протест. Брусилову пришлось спешно посылать телеграммы, отменяя свое приглашение. Генерала Гурко телеграмма не нашла, он прибыл в Ставку, но демонстративно не был допущен на заседания.
Еще одна скандальная история произошла непосредственно в день заседания. Поезд Керенского должен был прибыть в Могилев в полтретьего дня, но появился на станции на час раньше. В это время Брусилов слушал доклад своего начальника штаба генерала А.С. Лукомского. Брусилов решил не прерывать встречу и послал на вокзал своего генерала для поручений сообщить, что главнокомандующий извиняется и будет ждать премьер-министра в час, назначенный для начала заседания. По словам очевидцев, это вызвало страшное возмущение Керенского. Он почти кричал своим спутникам, что при царе генералы такого себе бы не позволили, что Брусилов еще недавно заискивал перед ним, а теперь позволяет себе игнорировать главу правительства.
Через полковника Барановского Керенский потребовал, чтобы Брусилов немедленно явился к нему в вагон. Брусилов вспоминал: «Когда я вошел в вагон министра, он мне лично не высказал своего неудовольствия и упреков не делал, но сухое, холодное отношение сразу же почувствовалось. Он потребовал доклада о положении на фронте, что я немедленно вкратце исполнил… Подробно говорить я не мог, ибо время приближалось к 4 часам, а заседание было назначено на 3 часа. Нас ждали, и я принужден был задать вопрос: не благоугодно ли ему будет отложить заседание или поторопиться ехать? На последнее он согласился, и мы поехали в генерал-квартирмейстерскую часть, где все чины совещания уже были собраны» {265} .
Помимо Керенского и Брусилова на совещании присутствовали генералы Алексеев, Рузский, Лукомский, оба генерал-квартирмейстера Ставки – И.П. Романовский и Ю.Н. Плющик-Плющевский. Правительство представлял приехавший вместе с Керенским министр иностранных дел М.И. Терещенко. На совещание были приглашены главнокомандующие Северным фронтом генерал В.Н. Клембовский и Западным – генерал А.И. Деникин (последний приехал вместе со своим начальником штаба генералом С.Л. Марковым). Главнокомандующие Румынским фронтом генерал Д.Г. Щербачев и Юго-Западным – генерал Л.Г. Корнилов не присутствовали ввиду сложной обстановки на вверенных им участках. Отсутствие Корнилова в какой-то мере восполнял комиссар Юго-Западного фронта Савинков, единственный из комиссаров, принимавший участие в заседании. В зале присутствовало еще несколько бессловесных молодых людей из свиты Керенского и двое штабных офицеров, которым было поручено вести протокол.
Совещание, которое Алексеев назвал «консилиумом врачей у постели тяжелобольного», затянулось до полуночи. На правах председателя его открыл Брусилов. Его короткая речь была составлена в выражениях осторожных и неопределенных. Брусилов еще не успел закончить, как его бесцеремонно прервал Керенский. Он сказал, что совещание должно выработать конкретные шаги по восстановлению боеспособности армии и просит высказываться именно в этой связи. Началось обсуждение. Слово было предоставлено генералу Деникину как младшему из присутствовавших. Свое выступление он начал словами: «С глубоким волнением и в сознании огромной нравственной ответственности я приступаю к своему докладу; и прошу меня извинить: я говорил прямо и открыто при самодержавии царском, таким же будем мое слово теперь – при самодержавии революционном» {266} .
Долгая речь Деникина изобиловала фактами и цифрами, он цитировал донесения командиров частей и резолюции солдатских митингов. Досталось от него и главковерху Брусилову и премьеру Керенскому. Деникин говорил: «У нас нет армии. И необходимо немедленно, во что бы то ни стало, создать ее. Новые законы правительства, выводящие армию на надлежащий путь, еще не проникли в толщу ее, и трудно сказать поэтому, какое они произвели впечатление. Ясно однако, что одни репрессии не в силах вывести армию из того тупика, в который она попала». С точки зрения Деникина, Временное правительство должно было открыто признать свои ошибки. Власть в войсках должна была быть возвращена Верховному главнокомандующему. Армию необходимо оградить от политики, комиссары и комитеты подлежат упразднению. Деникин предлагал создать в резерве отборные части в качестве орудия для наведения дисциплины и предотвращения военных бунтов.
Выступление Деникина едва не вылилось в скандал. Брусилов писал: «Керенский начал резко оправдываться, и вышло не совещание, а прямо руготня. Деникин трагично махал руками, а Керенский истерично взвизгивал и хватался за голову» {267} . В конечном счете Керенский встал и пожал Деникину руку:
– Благодарю вас, генерал, за ваше смелое искреннее слово!
Это отнюдь не означало, что Керенский согласился с программой Деникина. Скорее всего, это был очередной случай игры в «демократического премьера», которую так любил Керенский. Правительство и генералитет, как и прежде, по-разному представляли себе выход из кризиса.
Что касается Деникина, то он, по словам Алексеева, стал «героем дня» {268} . Выступавшие вслед за ним генералы Клембовский и Рузский, по сути, лишь в более мягкой форме повторили то, что уже было сказано. В заседании был объявлен перерыв, после чего Савинков огласил телеграмму Корнилова. В ней говорилось о необходимости восстановления дисциплины в войсках и в качестве условия этого – запрещении митингов и деятельности политических агитаторов. Корнилов предлагал распространить постановление о смертной казни и военно-революционных судах на тыловые округа с тем, чтобы пресечь разложение в поступающих на фронт пополнениях. Но, в отличие от Деникина, Корнилов признавал целесообразность института военных комиссаров. Более того, он предлагал учредить должности комиссаров не только в армиях, но и в корпусах, предоставив им право утверждать приговоры военно-революционных судов. В числе предложений Корнилова было и проведение чистки командного состава с целью удаления тех, кто проявил нерешительность и неспособность руководить в новых условиях.
Закончилось совещание речью Керенского. Он попытался оправдаться от высказанных ему упреков и, в свою очередь, обвинил генералитет в непонимании требований революционного времени. Никаких решений на совещании принято не было, общего языка стороны так и не нашли.
В полночь поезд премьер-министра отбыл из Могилева в Петроград. Керенский пригласил в свой вагон Савинкова и Филоненко. Всю ночь Керенский развивал перед ними планы переустройства власти. Речь шла о формировании нового состава правительства с участием авторитетных для всей страны лиц. В этой связи Керенский предложил Савинкову пост управляющего военным министерством, то есть фактически военного министра, поскольку формально эту должность премьер решил оставить за собой. Во время этого ночного разговора встал вопрос и о новом Верховном главнокомандующем.
Мысль сменить Брусилова появилась у Керенского еще раньше. Будучи вовлеченным в политику, Брусилов был вынужден колебаться между линией правительства и настроениями высшего генералитета. Это в равной мере раздражало и тех и других. Но у Керенского не было кандидатуры на место Брусилова. Из присутствовавших на совещании генералов (если не считать Брусилова и Алексеева) Керенский лучше других знал Деникина. Он много раз бывал у него на Западном фронте и в общем-то относился к Деникину с симпатией. Даже много лет спустя он писал, что Деникин был «одним из самых способных» и либерально мыслящих военачальников {269} . Но Керенский понимал, что попытки Деникина провести в жизнь изложенную им на совещании программу спровоцировали бы массовое недовольство в солдатской среде.
Когда Савинков предложил кандидатуру Корнилова, Керенский встретил ее без особого энтузиазма. Корнилова он знал плохо. Они контактировали весной в Петрограде, позднее, уже в качестве военного министра, Керенский бывал в 8-й армии, но все это были очень короткие встречи. Не слишком благоприятное впечатление на Керенского произвела настойчивость Корнилова в деле введения смертной казни. Но так был настроен не один он, а и другие старшие генералы. С другой стороны, на фоне резкого выступления Деникина, требования Корнилова казались даже умеренными. По словам Керенского, они «как будто показывали, что человек немножко шире смотрит на это» {270} . Выбора у Керенского не было, и он поддался настояниям Савинкова. 19 июля Брусилов был откомандирован в распоряжение правительства, а новым Верховным главнокомандующим назначен Корнилов.
Далее, однако, начали происходить странные вещи. Не отказываясь от назначения, Корнилов оговорил вступление в новую должность целым рядом условий. В телеграмме, отправленной в тот же день в адрес правительства, он требовал «ответственности перед собственной совестью и народом», невмешательства в назначение высшего командного состава и принятие его предложений, изложенных на совещании в Ставке.
На следующий день из Петрограда поступило распоряжение о назначении на освобождаемый Корниловым пост главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала В.А. Черемисова. Он, можно сказать, следовал за Корниловым по пятам, сначала сменив его в качестве командующего 8-й армией, а теперь фронтом. В начале июля именно 12-й армейский корпус под командованием Черемисова совершил триумфальный прорыв вражеских позиций. В этой связи Черемисову досталось немало славы. Не будем утверждать, но создается впечатление, что Корнилов ревновал к Черемисову, полагая, что тот присвоил его, Корнилова, заслуги. Во всяком случае, теперь Корнилов категорически высказался против назначения Черемисова. Об этом он известил правительство новой телеграммой. Одновременно Корнилов телеграфировал в военное министерство Савинкову, сообщая, что без получения удовлетворительных ответов на предыдущие послания он в Ставку не выедет.
Началось трехдневное «бердичевское сидение». К этому времени Брусилов из Могилева уже выехал, а Корнилов туда не прибыл. Новый Верховный главнокомандующий продолжал сидеть в Бердичеве, в штабе Юго-Западного фронта, и фактически шантажировал правительство. Свою лепту в эту историю внес Завойко. Напомним, что Корнилов согласился с требованиями Савинкова и Филоненко об удалении Завойко, но до поры предпочитал держать его при себе. Завойко же, узнав о назначении Корнилова, пришел в крайнее недовольство, ибо это не вписывалось в его планы. По расчетам Завойко, будущий Наполеон должен был сначала заработать всероссийскую славу, которая и привела бы его к вершинам власти. Завойко попытался убедить Корнилова отказаться от назначения, мотивируя это тем, что в должности главковерха ему придется нести ответственность не только за удачи, но и за поражения.
Позднее на следствии Завойко говорил, что у него создалось впечатление, что его соображения «как будто бы и разделяются генералом, но одновременно и раздражают его» {271} . Влияние Завойко было велико, но Корнилов отнюдь не собирался всецело следовать его советам. Единственное, что удалось Завойко – это уговорить Корнилова поставить перед правительством условия своего назначения.
Для уговоров Корнилова в Бердичев был командирован Филоненко. Корнилов и сам был готов к компромиссу, и потому Филоненко довольно быстро удалось найти с ним общий язык. Было решено, что «ответственность перед народом» предполагает ответственность перед Временным правительством. Правительство не будет вмешиваться в назначения на высшие командные должности, но оставляет за собой право контролировать их. Что касается требований, изложенных на июльском совещании в Ставке, то они не могут быть приняты скоропалительно. Правительство, по словам Филоненко, сочувствует Корнилову и обещает в скорейшем времени реализовать основные положения его программы. Единственное, в чем Корнилов оставался непреклонен, – это вопрос о назначении Черемисова. В итоге Черемисов был отчислен в резерв, а Корнилов, наконец, согласился принять новый пост. Главнокомандующим Юго-Западным фронтом через некоторое время был назначен генерал Деникин.
Много позже, когда уже не было в живых большинства участников этих событий, восьмидесятилетний Керенский пытался подвести итоги своей деятельности на посту премьер-министра революционной России. Среди главных своих ошибок он указал то, что не сместил Корнилова сразу же после того, как тот начал выдвигать свои требования правительству {272} . Действительно, обстоятельства назначения Корнилова Верховным главнокомандующим фактически означали капитуляцию Керенского. Капитуляцию уже вторичную, так как первой можно считать уступку в вопросе о введении смертной казни. Керенский всё, или почти всё, понимал, но он побоялся сместить главковерха на другой же день после назначения. У Керенского не было других кандидатур, а у Корнилова были влиятельные сторонники.
Для Корнилова же начинался новый этап в карьере и биографии. За предыдущие пять месяцев он и так совершил стремительный взлет, поднявшись с командира корпуса до главнокомандующего фронтом. Но только пост Верховного главнокомандующего делал его фигурой, способной на самостоятельные политические решения. Этот пост ставил его вровень с премьером, а, учитывая, что Россия была воюющей страной, в чем-то даже и выше. Может быть, другой на его месте и смог бы оставаться в рамках «технического назначения», но Корнилов уже думал о большем.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
АВГУСТ СЕМНАДЦАТОГО
МОГИЛЕВ
До начала войны Могилев был тихим и небольшим, по меркам губернского центра, городом. Положение изменилось после того, как в августе 1915 года сюда из Барановичей переехала Ставка Верховного главнокомандующего. Две с лишним тысячи новых обитателей Могилева заняли все меблированные комнаты и съемные квартиры. На запасных путях у вокзала вырос целый поселок из железнодорожных вагонов. Однако постепенно размеренный ритм провинциальной жизни подчинил себе и пришельцев. Время в Ставке текло неторопливо, подчиняясь раз и навсегда данному расписанию.
Любой посторонний человек на улице сразу бросался в глаза. Отчасти причиной этого был строгий въездной режим. На ближайших к Могилеву станциях и на городском вокзале были устроены пропускные пункты, проверявшие документы у всех пассажиров. Как ни странно, но при этом в самом Могилеве войск почти не было. Единственной строевой частью в городе был Георгиевский батальон, охранявший резиденцию Верховного главнокомандующего и другие официальные здания. С назначением Корнилова к георгиевцам прибавился Текинский конный полк. Всадники-туркмены в ярких халатах и огромных бараньих папахах стали личным конвоем нового главковерха.
Двухэтажный губернаторский дом своим фасадом выходил на центральную городскую площадь, обрамленную по кругу зданиями присутственных мест. Противоположной стороной дом был обращен к Днепру. К правому крылу губернаторского дома примыкал сад, окруженный высокой оградой. У главного входа стояли парные часовые, в вестибюле занимал пост дежурный офицер комендатуры {273} . Парадная лестница вела наверх в большой белый зал с окнами на площадь.
Старое здание еще помнило последнего русского царя. Апартаменты, которые раньше занимал Николай II, теперь стояли пустыми. В них мало кто заходил, и только редким любопытствующим гостям показывали пыльные комнаты с голыми железными кроватями и свисающими с потолка электрическими лампочками без абажуров {274} . Зато в бывшем царском кабинете все оставалось по-прежнему. В центре просторного помещения, наискосок напротив входа, стоял большой двухтумбовый стол из резного дуба. Огромная поверхность стола была затянута бордовым сукном. По стенам стояли старинный диван и кресла красного дерева. Люстра в стиле модерн со стеклянными подвесками спускалась с потолка. На столе стояла простая электрическая лампа с темным абажуром {275} .
Корнилов поселился здесь же на втором этаже в комнатах, которые когда-то занимал министр двора. Помещения для себя он специально не выбирал, а занял то, где до него жил Брусилов. Новые времена проникли и за закрытые двери губернаторского дома. В результате бывшая резиденция известного сибарита графа Фредерикса выглядела более чем скромно. Со стен исчезли картины, из шкафов – дорогой сервиз. Единственной радостью были окна на Днепр, за которым тянулась пустынная равнина.
День Корнилова начинался рано. В полвосьмого утра он был уже у себя в кабинете. После двух часов работы он обычно спускался в сад и гулял там около получаса. Такая же прогулка повторялась ближе к вечеру. Иногда рано утром, когда на улице еще не было людей, главнокомандующий в сопровождении небольшой свиты выезжал на загородную прогулку. Если его предшественники Алексеев и Брусилов предпочитали автомобиль, то Корнилов отдавал предпочтение верховой езде. Он был прирожденным кавалеристом, любил лошадей, умел с ними обращаться. Свою буланую кобылу по кличке Фатима он получил в подарок от текинцев после назначения на Юго-Западный фронт.
Ежедневно с одиннадцати до полпервого и вечером с шести до семи Корнилов принимал доклад начальника штаба и генерал-квартирмейстера. Как правило он больше слушал, нежели говорил сам, при этом на собеседника не смотрел, а рисовал какие-то картинки на лежавшем перед ним листке. Когда Корнилов бывал чем-то недоволен, он начинал бессознательно постукивать костяшками пальцев по столу.
Крайняя степень раздражения выражалась в том, что он вставал и, заложив руки за спину, отходил к окну.
В час дня Верховный садился завтракать, в семь вечера наступало время обеда. Поначалу несколько раз Корнилов ходил обедать в Офицерское собрание. Располагалось оно в здании гостиницы «Бристоль», где жили сотрудники иностранных военных миссий. Ресторан Офицерского собрания представлял собой просторный зал с небольшой сценой, всегда закрытой опущенным занавесом. Перед сценой поперек зала располагался стол для высшего генералитета. Вдоль стен шли другие столы, за которыми посетители рассаживались строго в соответствии с чинами {276} .
Ставка жила в общем-то скучно (в городе было лишь два кинематографа и театр, но он вечно стоял закрытым). Поэтому основным развлечением здесь были сплетни, а главным местом их обмена – ресторан Офицерского собрания. Появление в ресторане Корнилова каждый раз вызывало в зале такое неприкрытое оживление и провоцировало такие слухи, что в итоге он предпочел завтракать и обедать в губернаторском доме. Еду сюда приносили из ресторана, и по качеству она не отличалась от той, что предлагалась другим посетителям. Корнилов в этом отношении был очень непривередлив. Ел он медленно, но на качество еды особого внимания не обращал {277} . Из напитков в первую очередь предпочитал чай. Корнет Хаджиев вспоминал, как Корнилов попросил однажды у него зеленого чая и, попробовав, сказал: «Это не настоящий зеленый чай, который любят туркмены! Это персидский поддельный, который приготовляют персы для того, чтобы его сбыть неопытным туркменам по дешевой цене» {278} . Для Корнилова чай заваривали отдельно, очень крепкий, в специальном плоском чайничке, привезенном им когда-то из Китая.
Завтрак, как правило, длился не более получаса. За стол Корнилов обычно садился один, редко с кем-то из самых близких сотрудников. Зато на обед (в нашем понимании, скорее, ужин) всегда кто-то приглашался. Это могли быть высокопоставленные визитеры из Петрограда, генералы, приехавшие в Ставку с фронта, иностранные военные агенты. Перед едой Корнилов мог выпить рюмку водки, но не больше. О делах за обедом не говорили, беседы шли на отвлеченные темы. «Интересно и увлекательно он рассказывал сцены и картины нравов из персидской истории, – отмечал Хан Хаджиев, – вспоминал произведения персидских поэтов, часто декламируя большие отрывки на прекрасном персидском языке, переводя их после слушателям. Меткость, изящество, богатство и острота цитат очень нравились присутствующим…» {279} Корнилов очень любил рассказывать о своей службе в Туркестане, часто повторяясь, так что его знакомые могли выучить эти истории наизусть. Впрочем, он был готов внимательно выслушать и собеседника. Правда, острословов в своем окружении Корнилов не любил. Не то чтобы он не понимал шуток, просто не привык смеяться. Когда это все же случалось, из горла у него вместо смеха вырывались какие-то лающие звуки и на лице потом несколько мгновений сохранялось удивленное выражение, как будто бы он сам не мог поверить, что способен на такое.
Вечера и редкие свободные часы главковерх проводил с семьей. Жена Корнилова Таисия Владимировна и младший сын генерала Юрий (Георгий) жили здесь же в губернаторском доме, но в городе показывались очень редко. В десятых числах августа в Могилев приехала из Петрограда старшая дочь Корнилова Наталья. Она планировала задержаться всего на несколько дней, но последующие события заставили ее остаться с отцом.
Корнилов, что называется, с младых ногтей надел военную форму и когда позже ему приходилось ходить в гражданском, выглядел он в этой одежде довольно нелепо. В Ставке он носил обычный генеральский мундир – китель с погонами зигзагом, темно-синие брюки с широкими генеральскими лампасами, на шее – орден Святого Георгия III степени, на груди слева орден Святого Георгия IV степени. По Статуту георгиевские награды кавалер их должен был носить постоянно. Другие награды, в том числе российские ордена Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава, французский орден Почетного легиона, английский орден Святых Михаила и Георгия и другие, надевал крайне редко. Не любил он и украшения иного рода. Из таковых он носил только обручальное кольцо и серебряный перстень с китайскими иероглифами. Перстень этот служил Корнилову печатью для личной корреспонденции.
С Корниловым в Могилев приехали и его адъютанты – капитан А.П. Корнилов и поручик В.И. Долинский. Они были с ним начиная с марта: в штабе Петроградского округа, в 8-й армии и на Юго-Западном фронте. Позже к ним присоединился поручик Текинского полка Резак-Бек Хаджиев. Корнилов называл его «Хан» и позднее, в память о погибшем командире, Хаджиев присоединил это слово к своей фамилии. Адъютанты дежурили по очереди. Их обязанностью было докладывать о являющихся на прием, следить за бумагами и выполнять личные поручения главковерха.
Адъютантская часть находилась в ведении генерала для поручений. Эту должность при Корнилове со второй половины июля занимал полковник В.В. Голицын. С Корниловым он познакомился еще в марте, когда был назначен командовать 3-й гвардейской пехотной бригадой, находившейся в Петрограде. После ухода Корнилова с должности главнокомандующего столичным военным округом Голицын последовал за ним. Хотя ему предстояло производство в генерал-майоры, он предпочел выхлопотать увольнение от службы по состоянию здоровья, для того чтобы иметь возможность быть рядом с Корниловым {280} . Современники приписывали Голицыну сильное влияние на Корнилова. Он действительно часто бывал за завтраком у главковерха, водил какую-то дружбу с Завойко, но обычно все же предпочитал оставаться в тени.
Похоже, что Голицын восполнял для Корнилова нехватку общения. Корнилов по своему характеру был замкнутым и плохо сходился с новыми людьми. Однако перед человеком, доказавшим, как Голицын, свою преданность ему, он мог неожиданно раскрыться. Подобную же роль при Корнилове играл и Завойко. С назначением на должность главковерха, Корнилов, выполняя требования Савинкова, отослал Завойко. Но в середине августа тот вновь появился в Ставке и сразу же занял прежнее положение. Завойко поселился в губернаторском доме и общался с Корниловым почти ежедневно.
Из других старых знакомых Корнилова в Ставке постоянно находился Филоненко. Филоненко получил пост комиссара при Верховном главнокомандующем (комиссарверха) и последовал за Корниловым в Могилев. Все, в том числе и сам Корнилов, видели в Филоненко соглядатая, приставленного Савинковым. Вероятнее всего, именно поэтому Филоненко для Корнилова никогда не стал близким человеком, хотя главковерх приближал к себе и более случайных людей. Филоненко бывал у Корнилова очень часто, запросто садился с ним за стол, но в такие дни разговоры за обедом были особенно далеки от чего-то серьезного.
Большая часть сотрудников Ставки досталась Корнилову «по наследству» от его предшественников. Самой заметной фигурой среди них был начальник штаба генерал-лейтенант А.С. Лукомский. Это был, несомненно, выдающийся организатор. Накануне войны он занимал должность начальника мобилизационного отдела главного управления Генштаба. Сложнейшее дело проведения всеобщей мобилизации было в немалой мере заслугой Лукомского. За несколько месяцев до революции он стал генерал-квартирмейстером Ставки. С назначением Алексеева Верховным главнокомандующим Лукомский должен был автоматически стать начальником штаба, но тогдашний военный министр Гучков предпочел ему генерала Деникина. Лукомский ушел на должность командира 1-го армейского корпуса и вернулся в Ставку лишь при Брусилове.
Прежде Корнилов никогда не сталкивался с Лукомским по службе. В первый же день между ними состоялся сложный разговор. Лукомский заявил, что готов остаться на своем посту только при условии полного доверия к нему. Корнилов согласился с этим, но попросил Лукомского продолжать работу, а будущее оставить в зависимости от того, как сложатся их отношения. По характеру своему Лукомский был очень не похож на Корнилова. Он никогда не позволил бы себе, как тот, радикальных высказываний в республиканском духе. Однако вряд ли это диктовалось исключительно политическими симпатиями, скорее, осторожностью. Долгие годы пребывания на штабных постах дали Лукомскому навык интриг и приучили к скрытности. Он сознательно избегал сближения с кем-либо и потому оставался одним из немногих старших начальников, кто занимал ответственный пост еще при царе. Но в итоге Корнилов, несмотря на работу бок о бок с Лукомским, инстинктивно дистанцировался от него. Характерно, что позднее, при создании Добровольческой армии, Корнилов предпочел Лукомскому в должности начальника штаба генерала Романовского.
В период, о котором мы ведем речь, генерал-майор И.П. Романовский был первым генерал-квартирмейстером Ставки. С Корниловым Романовский был знаком еще со времени совместной службы в Туркестане. В мае 1917 года, когда Корнилов был назначен командующим 8-й армией, Романовский был у него начальником штаба. Тогда вместе им пришлось прослужить чуть более месяца, с тем чтобы снова встретиться уже в другом качестве в Могилеве.
Как и Лукомский, Романовский был штабным работником очень высокой квалификации. Знавшие его вспоминали, что «к нему надо было приходить с докладом не только хорошо обоснованным, но и приносить с собой груду материалов и книг Свода законов и военных распоряжений» {281} . Несколько тучный для своего сорокалетнего возраста, медлительный в движениях, Романовский производил на окружающих впечатление человека флегматичного и равнодушного ко всему. На самом деле он был очень эмоционален и особенно остро реагировал на развал страны и армии. Его показания следственной комиссии по «корниловскому» делу дышат искренностью и настоящей болью. «Самолюбие русского и самолюбие военного, может быть, оно покажется некоторым смешным, направляло меня по пути, который мог бы привести к спасению России, к спасению армии, без которой не может жить Россия. Единственным путем для меня представлялся путь сильной власти, какая будет эта власть для меня, в сущности, все равно, лишь бы она была сильная, разумная и честная, то есть русская, а не немецкая» {282} . В лице Романовского Корнилов обрел верного помощника и надежного соратника.
Второй генерал-квартирмейстер Ю.Н. Плющик-Плющевский когда-то был сослуживцем Лукомского по мобилизационному отделу Генштаба. Люди, близко общавшиеся с ним, полагали, что он, «не обладая должными качествами, часто не имел своего мнения и у него не хватало мужества защитить свои взгляды, даже когда он придерживался другого мнения» {283} . Корнилов дважды ставил вопрос о замене Плющевского, но оба раза Лукомскому удавалось его отстоять. Позже, однако, Корнилов оценил его умение работать с бумагами, быстро и четко выполнять полученные задания. Именно Плющевский был непосредственным составителем записок Корнилова, представленных им на обсуждение Временного правительства.
Атмосфера закрытости, в которой жила Ставка, создавала почву для всякого рода интриг. Они процветали и прежде, не прекратились они с назначением Корнилова. Тон в этом задавал Филоненко, видевший свою роль в том, чтобы охранять Корнилова от чуждых влияний, а заодно и присматривать за ним. В этом качестве он рьяно принялся выслеживать «монархические заговоры». Уже через два дня после назначения на новую должность Филоненко сообщил о том, что, по его данным, в Ставке готовится контрреволюционный переворот. По приказу Корнилова было проведено расследование, но выяснилось, что в основе всей этой истории лежали непроверенные, да к тому же искаженные слухи. Однако Филоненко на этом не успокоился и в результате на свет родилось «дело генерала Тихменева».
Генерал-лейтенант Н.М. Тихменев занимал пост начальника военных сообщений. По своим взглядам он был монархистом (в эмиграции он много лет состоял председателем Союза ревнителей памяти императора Николая II). Своих политических симпатий генерал Тихменев не скрывал и потому оказался наиболее удачной кандидатурой на роль главы монархического подполья.
По словам генерала Лукомского, на третий или четвертый день после появления Филоненко в Могилеве ему принесли копию телеграммы, отправленной верховным комиссаром по адресу управляющего военным министерством. «Я прочитал и ничего не понял, – вспоминал Лукомский. – Было упомянуто о “коне бледном”, скачущем через какие-то горы и чего-то затевающем. Было упомянуто среди телеграммы о начальнике военных сообщений. Я сказал, что воровского языка не понимаю и не могу разобрать в чем дело» {284} . Действительно, телеграмма могла сбить с толку кого угодно. Вот ее буквальное содержание: «То, что Ваня, Федор, Генрих, Эрна, Жорж делали с запада, теперь может быть в шатре с востока. Конь бледный близко, так мне кажется. Пожалуйста, исполните немедленно все, что завтра утром вам передам» {285} .