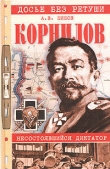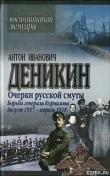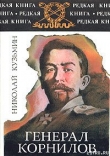Текст книги "Лавр Корнилов"
Автор книги: Владимир Федюк
Соавторы: Александр Ушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
АРЕСТ ИМПЕРАТРИЦЫ-МАТЕРИ
Одним из первых шагов Корнилова в роли главнокомандующего Петроградским военным округом стал арест бывшей императрицы. Царское Село, где тогда жила императорская семья, находилось слишком близко от Петрограда, для того чтобы остаться в стороне от происходящего. В маленьком городке начались грабежи и бесчинства. Дочь царского лейб-медика Т.Е. Боткина вспоминала свои впечатления от этих дней: «На улице творилось что-то невероятное: пьяные солдаты без ремней и расстегнутые, с винтовками и без, бегали взад и вперед и тащили все, что могли, из всех магазинов. Кто бежал с куском сукна, кто с сапогами, некоторые и так уже совершенно пьяные тащили бутылки вина и водку, другие все замотались пестрыми шелковыми лентами. Тут же бегал растерянный жид-ростовщик, бабы и гимназисты» {169} . Охрана дворца была ненадежна, и в любой момент можно было ждать самого худшего.
Новые власти, казалось бы, забыли о царской семье. В Петрограде плелась какая-то сложная интрига, одним из вольных или невольных участников которой пришлось стать Корнилову. В должность главнокомандующего Петроградским округом он, как мы уже писали, официально вступил 5 марта 1917 года. Вечером того же дня Корнилов вызвал к себе командира запасного батальона одного из гвардейских полков полковника Е.С. Кобылинского и сообщил, что ему поручается дело государственной важности. Корнилов категорически отказался говорить о характере поручения и пообещал, что все подробности он расскажет завтра.
Однако ни завтра, ни через день никаких распоряжений Кобылинский не получил. Только 8 марта, уже за полночь, ему позвонили домой и передали приказ Корнилова быть к 8 утра на Царскосельском вокзале. В ожидании поезда Кобылинский вновь попытался расспросить Корнилова о сути предстоящего дела, но тот продолжал отмалчиваться. Наконец уже в купе он сказал: «Сейчас мы едем в Царское Село. Я еду объявить государыне, что она арестована. Вы назначаетесь начальником Царскосельского гарнизона» {170} .
В дворцовой приемной Корнилова и его сопровождающих встретил обер-гофмаршал граф П.К. Бенкендорф. Корнилов попросил доложить о себе императрице. Бенкендорф ушел и, возвратившись, пригласил Корнилова и Кобылинского наверх. Далее Кобылинский пишет: «Вошли мы в детскую комнату, где никого не было. Как только мы входили в эту комнату, из другой двери вошла в комнату государыня императрица Александра Федоровна. Мы поклонились ей. Она подала Корнилову руку, мне кивнула головой. Корнилов сказал государыне: “Ваше Величество, на меня выпала тяжелая задача объявить вам постановление Совета министров, что вы с этого часа считаетесь арестованной. Если вам что-то нужно – пожалуйста через нового коменданта”».
После этого Корнилов отослал Кобылинского и остался в комнате наедине с императрицей. Их разговор не был секретом, во всяком случае Корнилов уже на следующий день сам рассказал его подробности журналистам. «У меня все больны, – заявила императрица. – Сегодня заболела моя последняя дочь. Алексей, сначала было поправлявшийся, опять в опасности». Тут она заплакала, но, справившись с собой, сказала: «Я в вашем распоряжении. Делайте со мной что хотите» {171} .
Опубликованные фрагменты из дневников графа Бенкендорфа подтверждают уже известные нам обстоятельства ареста императрицы. Но в нашем распоряжении есть еще одно свидетельство, кардинально отличающееся от прочих. Это рассказ поручика К.Н. Кологривова. В ту пору он носил погоны 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка, охранявшего Царскосельский дворец. В изложении Кологривова события выглядели так: «Между часом и двумя пополуночи наше внимание привлек необычный шум, происходивший в вестибюле, и вслед за этим нам сообщили, что приехали военный министр и главнокомандующий с какой-то депутацией и что наружные часовые, стоявшие у подъезда, не хотели их пустить во дворец. Когда я вошел в освещенный вестибюль, то увидел главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала Корнилова, военного министра Временного правительства Гучкова и группу приехавших с ними. Корнилов и Гучков были с огромными красными бантами на груди, причем банты эти были с какими-то раструбами и широкими ниспадающими лентами. Такие же красные банты были и у их спутников» {172} .
По словам Кологривова, Корнилов стоял впереди всей группы, а Гучков все время держался на втором плане. «Я вошел в вестибюль, – вспоминал Кологривов, – как раз в то время, когда Корнилов громким голосом и в грубой форме потребовал видеть “бывшую царицу”. Это были его подлинные слова». Приехавшим попытались объяснить, что вся семья уже спит, но Корнилов в ответ заявил, что «теперь не время спать». Дежурный камердинер был отправлен во внутренние покои и вернулся с известием, что императрица готова принять депутацию.
Приехавших провели на второй этаж в так называемую «Липовую» гостиную. Корнилов вошел в комнату, а Гучков остановился на пороге. В этот момент из противоположной двери показалась Александра Федоровна. Подойдя к Корнилову и не подавая ему руки, она спросила: «Что вам нужно, генерал?» Корнилов вытянулся и в почтительном тоне, что резко контрастировало с его предшествующей манерой держать себя, сказал: «Ваше императорское величество… Вам неизвестно, что происходит в Петрограде и в Царском… Мне очень тяжело и неприятно вам докладывать, но для вашей же безопасности я принужден вас…» и замялся. Императрица перебила его: «Мне все очень хорошо известно. Вы пришли меня арестовать?» – «Так точно», – ответил Корнилов. «Больше ничего?» – «Ничего». Не говоря более ни слова, императрица повернулась и ушла в свои покои. Через несколько минут дворец покинула и депутация.
Как легко увидеть, этот рассказ отличается от свидетельства Кобылинского во всех важнейших деталях. Если верить Кологривову, Корнилов почему-то приехал в Царское Село глубокой ночью. В этой поездке его сопровождал Гучков, который, опять-таки если доверять Кологривову, не сказал за все время ни слова. Да и развязные манеры Корнилова как-то не очень соответствуют его обычному поведению.
Можно было бы считать все это выдумкой от начала до конца, но рассказ Кологривова находит частичное подтверждение в воспоминаниях камердинера императрицы А.А. Волкова. По его словам выходит, что Корнилов дважды бывал в Царском Селе – один раз вместе с полковником Кобылинским и вторично – вместе с Гучковым {173} . Он не приводит даты, как, впрочем, конкретную дату не указывает и поручик Кологривов. Дневник графа Бенкендорфа уточняет ситуацию. Корнилов и Гучков посетили императрицу 5 марта, то есть за три дня до формального ареста {174} .
Напомним, что именно в этот день Корнилов вступил в обязанности главнокомандующего войсками Петроградского округа. То обстоятельство, что он первым делом поспешил к императрице, было связано со слухами о намерении толпы расправиться с обитателями дворца. Чрезвычайный характер визита объясняет и ночное время, и присутствие Гучкова. Вероятно, тогда же родилась идея сменить командование царскосельского гарнизона. Вечером все того же дня Корнилов сообщает Кобылинскому о предстоящем ему серьезном поручении. Обратим внимание еще на одну деталь – императрица, по свидетельству Кобылинского, встретила Корнилова как знакомого, подала ему руку, в то время как в отношении самого Кобылинского ограничилась кивком.
Рассказ поручика Кологривова, таким образом, отражает реальный факт ночного появления Корнилова и Гучкова в Царском Селе, но большая часть подробностей их встречи с императрицей досочинена автором. Ни о каком аресте тогда речи не шло. При желании, разумеется, ничто не мешало Корнилову и Гучкову арестовать императрицу уже 5 марта. Однако в этом не было большого смысла. Совершенно очевидно было, что мать не покинет больных детей. Поэтому-то между первым и вторым визитами Корнилова в Царское Село прошло два дня. Формальная процедура ареста носила характер символического акта и явилась результатом уступки Временного правительства давлению радикалов из Петроградского Совета.
Меньше всего инициатором этого шага был сам Корнилов. Главнокомандующий столичным округом не был самостоятельной политической фигурой. Тем не менее арест императрицы в значительной степени определил дальнейшую судьбу Корнилова. Отныне в глазах последовательных монархистов он стал «революционным генералом» со всем вытекающим отсюда отношением.
Политические взгляды самого Корнилова охарактеризовать очень трудно. Деникин писал, что по своим убеждениям Корнилов не был ни социалистом, ни реакционером. «Но напрасно было бы в пределах этих широких рамок искать какого-либо партийного штампа. Подобно преобладающей массе офицерства и командного состава, он был далек и чужд всякого партийного догматизма; по взглядам, убеждениям примыкал к широким слоям либеральной демократии; быть может, не углублял в своем сознании мотивов ее политических и социальных расхождений и не придавал большого значения тем из них, которые выходили за пределы профессиональных интересов армии» {175} . Впрочем, в первые месяцы революции все нюансы политики сводились к противопоставлению ярлыков «монархист» – «республиканец».
Многочисленные высказывания Корнилова по этому вопросу хорошо известны. Своему ординарцу В.С. Завойко он говорил, что «дорога к трону для любого из Романовых лежит через его, генерала Корнилова, труп» {176} . Много позже, уже в период борьбы с большевиками на Дону, Корнилов вновь повторил: «Я республиканец; если в России будет монархия, то мне в России места не будет» {177} . Но слова, даже вполне искренние, сами по себе не могут служить убедительным доказательством.
Если иметь в виду под монархизмом лояльность существовавшему до революции режиму, то, несомненно, Корнилов был монархистом. В подпольных кружках он не состоял и никто из знавших его не зафиксировал в его устах призывы к изменению государственного строя. Скорее наоборот, как и следовало ожидать от человека, самим родом деятельности предрасположенного к порядку и дисциплине, Корнилов с крайним раздражением относился к попыткам думских либералов расшатать власть. Генерал Е.И. Мартынов, одно время находившийся вместе с Корниловым в австрийском плену, вспоминал, что, читая в газетах о событиях в России, тот неоднократно говорил, что с удовольствием перевешал бы всех этих Гучковых и Милюковых {178} .
Но Корнилов отнюдь не принадлежал к числу убежденных приверженцев монархии. Таковых среди русского генералитета вообще было очень немного. В феврале 1917 года, когда решался вопрос об отречении царя, из всех старших воинских начальников лишь двое – командир 3-го конного корпуса граф А.Ф. Келлер и стоявший во главе гвардейской кавалерии генерал Хан-Гуссейн Нахичеванский – выразили готовность с оружием в руках встать на защиту трона. Корнилов вполне мог бы повторить слова другого персонажа той же драмы, адмирала А.В. Колчака: «Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь… Я не могу сказать, что монархия – это единственная форма, которую я признаю. Я считал себя монархистом и не мог считал себя республиканцем, потому что тогда такового не существовало в природе» {179} .
Как и Колчак, Корнилов полагал себя в первую очередь солдатом. Как тысячи других генералов и офицеров, он считал, что служит России, а не конкретному лицу, династии или политической конструкции. Трудно сказать, видел ли в действительности поручик Кологривов красный бант на груди у Корнилова или придумал эту живописную деталь позже. Даже если и видел, в этом нет ничего постыдного. Двоюродный брат царя, а в будущем – «император в изгнании» великий князь Кирилл Владимирович щеголял в эти дни красным бантом на лацкане адмиральской шинели. Красный цвет в ту пору стал «защитным цветом», частью своеобразной революционной униформы.
Весной семнадцатого монархистов в России было не найти днем с огнем. Конечно, у многих рассуждения о приверженности республиканским идеалам были чистой воды лицемерием, но для большинства граждан страны республика олицетворяла светлое будущее. Дискредитация монархии задолго до того была подготовлена слухами и сплетнями, грязными историями и анекдотами. Даже воплощение монархизма, знаменитый правый депутат Думы В.М. Пуришкевич, и тот публично заявил о своем разочаровании в монархической идее.
Но большинство приверженцев новой веры оказались в ней столь же неустойчивы, как и в старой. Весной российский обыватель, начитавшийся грязных историй о царице и Распутине, искренне полагал себя республиканцем, осенью, напуганный нарастающей разрухой, он начал тосковать о монархии. В этом мало отличались генералы и офицеры, чиновники и конторщики. Надо признать, что для тех, у кого политические идеалы сводились к существованию твердой власти, монархия была ближе, чем республика. К таковым относился и Корнилов, но у него была своя судьба. Судьба уже вела его, и он, фаталист, воспринимал это как должное. Своей карьерой, стремительным выдвижением Корнилов, несомненно, был обязан революции. Он так и остался «революционным генералом», несмотря на то, что ему уже очень скоро пришлось вступить в борьбу с теми уродливыми формами, которые революция постепенно обретала.
АПРЕЛЬСКИЙ КРИЗИС
К середине апреля 1917 года русской революции было уже полтора месяца от роду. Все это время не прекращались торжества и ликование. Но постепенно затянувшийся праздник начал производить впечатление болезненного запоя, в котором все яснее проявлялись черты будущего похмелья. Вся страна бросила работать и бесконечно митинговала. Генерал П.Н. Врангель, оказавшийся в это время в Петрограде, вспоминал: «Это была какая-то вакханалия словоизвержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул, начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь были заняты речами членов Временного правительства, членов Совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же: осуждение старого режима, апология “бескровной революции”, провозглашение “борьбы до победного конца” (до “мира без аннексий и контрибуций” тогда еще не договорились), восхваление “завоеваний революции”» {180} .
Не прошло и месяца после торжественных похорон жертв революции на Марсовом поле, как столица начала готовиться к празднованию 1 Мая. Ввиду несоответствия старого и нового стилей День международной солидарности трудящихся праздновался «досрочно» – 18 апреля. Погода в этот день выдалась не по-весеннему холодной. Небо затянули серые тучи, дул пронзительный ветер. Неву, уже проснувшуюся было после зимы, вновь затянуло тонким льдом.
Несмотря на это, с утра на улицах Петрограда появилось множество людей. Около полудня на Марсовом поле состоялись главные торжества. Огромная площадь была забита народом, то там, то тут военные оркестры играли «Марсельезу», чередуя ее с оперными и балетными мотивами. В разных концах были расставлены грузовики, задрапированные красной материей и служившие импровизированными трибунами. Вот как увидел происходящее французский посол Морис Палеолог: «Ораторы следуют без конца, один за другим, все люди из народа, все в рабочем пиджаке, в солдатской шинели, в крестьянском тулупе, в поповской рясе, в длинном еврейском сюртуке. Они говорят без конца, с крупными жестами. Вокруг них напряженное внимание; ни одного перерыва, все слушают, неподвижно уставив глаза, напрягая слух, эти наивные, серьезные, смутные, пылкие, полные иллюзии и греха слова, которые веками прозябали в темной душе русского народа» {181} .
Над толпой виднелись красные знамена. Палеолог насчитал 32 знамени с надписями «Долой войну!», «Да здравствует Интернационал», «Мы хотим свободы, земли и мира». Красными полотнищами были декорированы и официальные здания. Даже вдоль фасада Мариинского дворца, где заседало «буржуазное» Временное правительство, тянулся плакат с надписью «Да здравствует Третий Интернационал» {182} . Это особенно любопытно, поскольку создание нового, третьего по счету Интернационала было лозунгом партии большевиков. В первые недели революции большевики не представляли собой заметной силы. Но после того как в начале апреля в Петроград из-за границы вернулся Ленин, большевистская агитация становится все более громкой и агрессивной. Если раньше при упоминании Ленина вспоминался прежде всего популярный драматический актер, то теперь в глазах одних он постепенно превращался в надежду революции, для других – в главного ее врага.
Других развлечений, кроме выступлений разномастных ораторов и концертов, где музыкальные номера терялись среди все тех же политических речей, революционная столица предложить не могла. Один из современников записал в этот день в дневнике: «Все заперто, словно на город напала чума, – кино, рестораны, театры, – негде не то что повеселиться – перекусить… Трамы не ходят, так что ходи пешком по необъятному Питеру» {183} . Впрочем, желающие могли найти выход и в этой ситуации. С началом войны в России была официально запрещена торговля спиртными напитками. Но нелегальное потребление алкоголя и производство всевозможных суррогатов не прекращались, несмотря на запреты. Со времени же переворота торговля спиртным шла почти открыто. Революционный праздник был хорошим поводом для того, чтобы отметить его привычным образом. Очевидцы вспоминали, что в тот вечер пьяных на улицах Петрограда было особенно много.
На следующий день город отдыхал от утомительных праздников, а еще через день, 20 апреля, затишье взорвалось новым накалом эмоций. В этот день в газетах была опубликована нота министра иностранных дел П.Н. Милюкова, адресованная правительствам союзных держав. Появление ее было вызвано распространившимися в европейских столицах слухами о намерении России заключить сепаратный мир. Нота категорически опровергала их и подтверждала готовность Временного правительства соблюдать все ранее принятые союзнические обязательства.
В этих заявлениях не было ничего принципиально нового. По сути, обо всем этом уже говорилось в декларации Временного правительства от 27 марта 1917 года, не вызвавшей своим появлением никаких вопросов. Но за прошедшие с того времени три недели изменилась сама политическая атмосфера. Между правительством и руководством Петроградского Совета углублялись недоверие и взаимные подозрения. В ноте Милюкова содержались слова о том, что после окончания войны Россия и союзники «найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для предотвращения новых кровавых столкновений в будущем» {184} . Левые увидели в этом завуалированный намек на подтверждение тех планов территориального передела, которые были разработаны еще прежним режимом. Между тем для социалистической пропаганды лозунг «мир без аннексий и контрибуций» был одним из символов веры. Посягательство на него вызвало крайне бурную реакцию.
Уже с утра 20 апреля на улицах Петрограда стали возникать стихийные митинги сторонников и противников Милюкова. После полудня стало известно о том, что Финляндский полк в полном составе и с оружием в руках направляется к резиденции правительства. Солдаты несли с собой знамена и плакаты с лозунгами «Долой захватную политику», «В отставку Милюкова и Гучкова». Сами солдаты скорее всего и не разобрались бы в сложном языке дипломатических заявлений, но нашелся человек, который объяснил им все что нужно. Прапорщик Ф.Ф. Линде, недоучившийся студент-математик, меньшевик-интернационалист по партийной принадлежности, встал во главе колонны, направившейся свергать «министров-капиталистов». Нет сомнений в том, что Линде был искренен в своих побуждениях, но брошенная им искра едва не разожгла гражданскую войну.
Толпа солдат и рабочих окружила Мариинский дворец, не зная, что министров там нет. Заседание кабинета проходило в это время в особняке на Мойке, где располагалась квартира болевшего в те дни военного министра Гучкова. Перед концом заседания в комнате появился Корнилов. Он доложил, что в городе происходит вооруженное выступление против правительства, но командование округа располагает достаточными силами, способными навести порядок. Корнилов просил от правительства официальной санкции на применение силы. Последовало общее молчание, никто из министров не хотел высказываться первым. Наконец встал министр торговли и промышленности А.И. Коновалов. «Александр Иванович, – сказал он, обращаясь к Гучкову. – Я вас предупреждаю, что первая пролитая кровь – и я ухожу в отставку» {185} . В том же духе высказались и другие присутствовавшие. Керенский в обычной для него патетической манере подвел итог: «Наша сила заключается в моральном воздействии, в моральном влиянии, и применить вооруженную силу значило бы выступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным» {186} .
Но далеко не все министры были единодушны в непротивленческом настрое. За применение силы категорически стоял Гучков. Ему вполне сочувствовали и министры-кадеты. Позднее один из них, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, рассказал в интервью журналистам, что в период кризиса его сотоварищи по партии внесли на обсуждение правительства предложение об избрании диктатора с неограниченными полномочиями. «Мы, – вспоминал Некрасов, – желая сохранить преемственность власти, остановились на возможном исходе – создать личную диктатуру». Это же подтверждают слова другого видного кадета В.Д. Набокова, в ту пору – управляющего делами Временного правительства: «Если бы у нас была бы хоть одна дивизия в руках, мы бы попробовали».
События, происходившие в городе, казалось бы, укрепляли позицию сторонников жестких решений. Вечером на площади у Мариинского дворца, где в это время шло совещание министров с представителями Петроградского Совета, солдат и рабочих сменила многолюдная демонстрация в поддержку правительства. Появившийся на балконе дворца Милюков был встречен овациями и криками «ура!». Обращаясь к собравшимся, он сказал: «Граждане! Когда я узнал про демонстрацию с лозунгами “долой Милюкова”, я боялся не за Милюкова. Я боялся за Россию. Если бы этот лозунг выражал настроение большинства граждан, то что скажут наши союзники, что сообщили бы союзным державам мои товарищи – послы иностранных держав в Петрограде? Они сегодня послали бы телеграфные извещения своим правительствам, что Россия изменила союзникам, что она вычеркнула себя из списка держав, воюющих за свободу и за уничтожение милитаризма. Временное правительство не может встать на такую точку зрения… Как и я, оно будет защищать то положение, при котором никто не смеет упрекнуть Россию в измене. Россия никогда не согласится на сепаратный мир, на мир позорный. И мы ждем вашего доверия, которое явится тем попутным ветром, который двинет в путь наш корабль. Я надеюсь, что вы нам этот ветер устроите…» {187}
Если бы Милюков действительно хотел скорейшего преодоления кризиса, он должен был бы избегать любых высказываний, способных накалить обстановку. Сейчас же он фактически призвал своих сторонников выйти на улицу. Создается впечатление, что и левые и правые в равной мере были заинтересованы в эскалации конфликта. Атмосфера в Петрограде сгущалась. На следующий день, 21 апреля, центральные улицы города вновь были запружены манифестантами. Сторонники и противники правительства перемешались, создавая тем самым взрывоопасную смесь. На Невском у пересечения с Михайловской и Садовой в толпе прозвучали выстрелы. Было ранено, по разным данным, от пяти до семи человек. Генерал Врангель, ставший очевидцем этих событий, вспоминал: «Во время столкновения я находился как раз в “Европейской” гостинице. Услышав первые выстрелы, я вышел на улицу. Толпа в панике бежала к Михайловской площади, нахлестывая лошадей, скакали извозчики. Кучка грязных, оборванных фабричных в картузах и мягких шляпах, в большинстве с преступными, озверелыми лицами, вооруженные винтовками, с пением “Интернационала” двигалась посреди Невского. В публике кругом слышались негодующие разговоры – ясно было, что в большинстве решительные меры правительства встретили бы только сочувствие» {188} .
Известия о вооруженных столкновениях в городе заставили Корнилова действовать решительно. Главнокомандующий направил приказ начальнику Михайловского артиллерийского училища, предписывавший вывести две батареи на площадь перед Мариинским дворцом. Но солдатский комитет училища отказался выполнить этот приказ без санкции исполкома Совета, а начальник и старшие офицеры не решились действовать вопреки позиции комитета. В любом случае, приказ не остался тайной, и о Корнилове заговорили и политики, и обыватели.
В левых кругах Корнилова обвиняли в попытке военного переворота. Но если таковая попытка и имела место, то инициатором ее был не Корнилов. В то время он еще не был самостоятельной политической фигурой, способной стать «лицом» переворота. Показательно, что поступок Корнилова не вызвал наказания со стороны правительства, хотя оно накануне и отказалось санкционировать применение силы.
Позднее Гучков признал, что в апрельские дни Корнилов действовал по прямому его указанию.
Гучков раньше многих пришел к мысли о неизбежности силовых мер. Уже будучи в эмиграции, он вспоминал: «Весь план мой заключался в том, чтобы ликвидировать Совет рабочих и солдатских депутатов. Я думал, что если бы нам удалось образовать единую, свободную, ответственную перед самой собой, а не перед другими, твердую правительственную власть, то даже при всей разрухе, которая охватывала страну и фронт, шансы навести порядок были. Надо было какое-то очень кровавое действие, расправа должна была быть» {189} . По словам Гучкова, с ним был солидарен и Милюков. Однако большинство других членов Временного правительства переворот не приняли бы. Надо сказать, что колебался и сам Гучков, не зная, как отнесется страна к новому пролитию крови.
Удивительно, но поведение Корнилова было сравнительно спокойно воспринято и руководством Петроградского Совета. 21 апреля, в разгар конфликта, Совет выпустил воззвание, в котором говорилось, что любые распоряжения о выводе воинских частей на улицы города должны быть санкционированы исполкомом и подписаны не менее чем двумя его членами. В знак протеста против такого вмешательства в его компетенцию Корнилов подал на имя военного министра прошение об отставке. В нем он писал: «Находя, что таковым обращением исполнительный комитет принимает на себя функции государственной власти и что я при таком порядке никоим образом не могу принять на себя ответственность ни за спокойствие в столице, ни за порядок в войсках, я считаю необходимым просить вас об освобождении меня от обязанностей главнокомандующего войск Петроградского военного округа» {190} .
Но обе стороны не стали усугублять конфликт. Уже 26 апреля было опубликовано новое сообщение, в котором от имени исполкома говорилось о том, что руководство Совета действует в полном контакте с командованием округа. «В штаб округа еще до событий последних дней, в согласии с генералом Корниловым, были посланы постоянные комиссары исполнительного комитета – в целях взаимодействия и контакта. Эти комиссары имеют целью согласовать действия исполнительного комитета и генерала Корнилова в отношении регулирования политической и хозяйственной жизни воинских частей» {191} . Удовлетворившись этим «разъяснением», Корнилов взял прошение об отставке обратно.
По словам Гучкова, Корнилов уговаривал его одобрить делегирование представителей Совета в штаб Петроградского военного округа. «Он очень настаивал на том, чтобы согласиться, считая, что сумеет сговориться с лицами, которые командированы». Впрочем, всего через четыре дня, 30 апреля 1917 года, Корнилов все же покинул свой пост. Формальной причиной этого стал отказ одной из рот все того же Финляндского полка подчиниться его приказу. В такой ситуации либо должна была быть расформирована мятежная рота, либо уйти сам главнокомандующий, причем для правительства было проще принять последний выход.
Но, вероятнее всего, уход Корнилова был связан с отставкой Гучкова. В это время активно велись переговоры между Временным правительством и исполкомом Петроградского Совета, закончившиеся образованием коалиционного кабинета. Гучков не захотел заседать вместе с министрами-социалистами, да и для них он был слишком одиозной фигурой. В новом составе правительства пост военного министра занял А.Ф. Керенский. Однако еще до своей отставки Гучков успел позаботиться о Корнилове. Он попытался добиться назначения Корнилова на должность главнокомандующего Северным фронтом. В этом случае предполагалось позднее добиться подчинения командованию фронта петербургского гарнизона. Речь шла, таким образом, о реализации в несколько измененном виде первоначального плана, предполагавшего «растворение» распропагандированных гарнизонных полков среди фронтовых частей.
Но против назначения Корнилова неожиданно выступил Верховный главнокомандующий генерал М.В.Алексеев. Свидетелем этого эпизода стал генерал А.И. Деникин, позже подробно рассказавший о нем. Гучков вызвал Алексеева к прямому проводу в том момент, когда он принимал французскую делегацию. Деникин вспоминал: «Так как генерал Алексеев оставался на заседании, а больной Гучков лежал в постели, то переговоры, в которых я являлся посредником, были чрезвычайно трудны, и технически и по необходимости, ввиду непрямой передачи, облекать их в несколько условную форму. Гучков настаивал, Алексеев отказывался. Не менее шести раз я передавал их реплики, сначала сдержанные, потом повышенные» {192} .
Гучков говорил о том, что командовать наиболее разложившимся Северным фронтом должен человек твердый и решительный. В этом смысле, по его мнению, Корнилов был лучшей кандидатурой. Гучков не рискнул доверить телеграфной ленте свои планы и лишь намекнул на некие «политические возможности», в преддверии которых Корнилова желательно было бы иметь под рукой. На все эти аргументы Алексеев ответил категорическим отказом. «Политические возможности» он обошел молчанием, а сослался на то, что своей очереди ждут много генералов, старше Корнилова по производству и заслугам. Алексеев заявил, что до сих пор Корнилову приходилось командовать только дивизией, так как его недолгое пребывание во главе XXV корпуса имело место в условиях передышки на фронте.