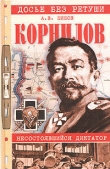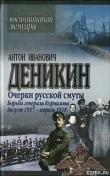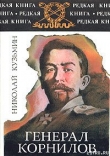Текст книги "Лавр Корнилов"
Автор книги: Владимир Федюк
Соавторы: Александр Ушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
Время поступления Корнилова в училище, как писал современник, было эпохой «самой черной реакции. Место благородного Д.А. Милютина занял… ограниченный П.С. Ванновский, установивший на артиллерию и на науку вообще крайне обскурантский взгляд… Узкий формализм, война против независимой мысли, борьба с гуманитарными идеями, слепая муштра вводились везде, и особенно в военной школе, как спасительное лекарство против свободомыслия предшествующей эпохи 60—70-х годов» {35} .
С первых дней пребывания в училище Корнилов и прибывшие с ним кадеты-земляки увидели разницу между укладом жизни в кадетском корпусе и училище, в провинциальном Омске и столичном Петербурге. Кадеты перестали быть детьми. Начиналась новая, взрослая жизнь. В училище никто не заставлял в назначенный час готовить уроки, надо было лишь «отбыть» назначенные лекции и строевые занятия, два раза в неделю сдать вечерние «репетиции» (своего рода промежуточный экзамен), а остальное время предоставлялось самому себе. Как «тратить» это время, юнкер должен был решать сам – сходить ли в увольнение или же усваивать учебную программу. А. Марков, уже в эмиграции, вспоминал, что «михайловцы и обстановка их училища произвели… впечатление настоящего храма науки, а… давние товарищи по классу приобрели скорее вид ученых, нежели легкомысленных юнкеров. Чувствовалось, что училище живет серьезной трудовой жизнью и в нем нет места показной стороне» {36} .
С первых дней пребывания в училище юнкера старших курсов начинали приобщать вновь прибывших к обычаям и негласным правилам. Юнкера младшего курса получали название «сугубые звери» и поступали по строевой части в полное распоряжение старшего курса. Приказы так называемых «благородных офицеров» (старшекурсников) должны были исполняться без промедления и беспрекословно. Так, при появлении в помещении любого юнкера старшего курса «звери» должны были вскакивать и становиться «смирно» до получения разрешения сесть. Данная «традиция» приучала видеть начальство в каждом старшем, что продолжалось затем и во время дальнейшей службы в строевых частях. Считалось, что это давало «правильное понятие о дисциплине», так как невнимание к старшему в училище «легко приучало к недостаточному вниманию к старшим вообще» {37} . Однако, согласно обычаям, старшекурсники не имели права «задевать личного самолюбия “молодого”. Последний был обязан выполнить все то, что выполняли до него юнкера младшего курса из поколения в поколение. Но имел право обжаловать в корнетский комитет то, в чем можно усмотреть “издевательство над личностью”, а не сугубым званием зверя. “Корнеты”, например, не имели права с неуважением дотронуться хотя бы пальцем до юнкера младшего курса, уж не говоря об оскорблении. Это правило никогда не нарушалось ни при каких обстоятельствах. Немыслимы были и столкновения юнкеров младшего курса между собой с применением кулачной расправы или оскорбления; в подобных случаях обе стороны подлежали немедленному отчислению из училища независимо от обстоятельств, вызвавших столкновение» {38} .
Обладавший способностями к различным наукам, в первую очередь к математике, трудолюбивый и скромный, Корнилов почти сразу же снискал уважение товарищей. Неоднократно они обращались к нему как к третейскому судье, а при общих выступлениях юнкеров делегатом к начальству выбирали всегда его. Гордый юнкер Корнилов мог постоять и за себя. Однажды один из курсовых офицеров позволил себе обидную бестактность по отношению к нему и получил должный отпор. Взбешенный офицер сделал движение, но внешне спокойный Корнилов положил руку на эфес шашки. Увидевший это начальник училища генерал Чернявский поспешно отозвал офицера в сторону. И только признанная всеми талантливость юнкера Корнилова и всеобщее уважение спасли его от суда и увольнения из училища. Однако с этого времени и до окончания училища за поведение юнкеру Корнилову ставили неудовлетворительные баллы {39} , и только «благородный Чернявский в самом конце добился 11 баллов» {40} . В аттестации, составленной в последний год пребывания в училище, можно прочитать, что он «тих, скромен, добр, трудолюбив, послушен, исполнителен, приветлив, но вследствие недостаточной воспитанности кажется грубоватым и может показаться даже резким, что нельзя приписать его недисциплинированности. Будучи очень самолюбивым, любознательным, серьезно относится к наукам и военному делу, он обещает быть хорошим офицером. Дисциплинарных взысканий не было» {41} .
Военные училища давали своим выпускникам профессиональную квалификацию очень высокого уровня. Однако гуманитарная составляющая была представлена в военном образовании гораздо слабее. Много позже журналисты пытались узнать у адъютанта Корнилова Хаджиева кто из русских художников, писателей и поэтов нравился покойному генералу. По словам Хаджиева, Корнилов «не думал о них, так как не позволяло время» {42} . Дело было, конечно, не в этом. Обстановка, в которой прошли детские годы Корнилова, не могла зародить в нем любовь к книге или музыке (хотя народные песни слушать он любил). В этом нет ничего порочного, но определенная узость знаний в последующем стала серьезной помехой для Корнилова, когда ему пришлось от вопросов сугубо военных переходить к проблемам политическим.
В 1892 году Корнилов успешно заканчивает училище по первому разряду (11,46 балла) и получает назначение в Туркестанскую артиллерийскую бригаду. После месячного отдыха, проведенного у родителей, в сентябре того же года он прибывает в Ташкент, в управление бригады, где и получает назначение в Пятую батарею. Для большинства офицеров, получивших назначение в Туркестан, это был путь в тупик. Но только не для энергичного и инициативного подпоручика Корнилова, к тому же уроженца этих мест. Здесь Лавр Георгиевич, отдавая должное службе, усиленно продолжает заниматься самообразованием, изучает «туземные» языки, бегает по урокам ради заработка, помогая материально нуждающейся семье отца. В то же самое время он, сверх обычной службы, занимается просвещением солдат, которых любил и которые отвечали ему взаимностью.
Через три года Корнилов добивается права сдавать вступительные экзамены в Академию Генерального штаба. До поступления в Академию необходимо было «держать» предварительные испытания в штабе округа. Весной 1895 года в Ташкент на испытания прибыли двенадцать офицеров. Только пять прошли предварительный отбор. Среди них был и Корнилов. В июле 1895 года командующий войсками Туркестанского военного округа подписал приказ, согласно которому офицеры отправлялись в Петербург для подготовки и сдачи вступительных экзаменов в Академию.
АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Академия Генерального штаба была образована в 1830 году, когда был утвержден разработанный генерал-квартирмейстером Нейдгартом «Устав Военной академии». Целью Академии являлось «образование офицеров для службы в Генеральном штабе и распространение военных познаний» {43} , кроме того, с 1854 года на Академии лежала еще «обязанность образовывать деятелей и руководителей для государственных геодезических работ и съемок» {44} . За пятьдесят лет существования Академии поступить в нее пыталось 3322 офицера, из которых 2088 были приняты (не считая геодезического отделения), а закончили ее только 1274. {45} Так, например, в 1832 году из 39 желающих обучаться в Академии Генерального штаба было принято 27, в 1862 году принято 77 из 144 поступавших, а в 1880-м – 125 из 215. {46} А.И. Деникин вспоминал, что «мытарства готовящихся в Академию начинались с экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими приблизительно цифрами: держало экзамен при округах 1500 офицеров; в Академию на экзамены являлось 400—550; поступало 140—150; на дополнительный курс (3-й) переходило 100; причислялось к Генеральному штабу 50. То есть, другими словами, от отсеивания оставалось всего 3,3%» {47} .
Во времена Корнилова академический курс был рассчитан на два года. Правом поступления пользовались все обер-офицеры до штабс-капитанского чина, отлично аттестованные и выдержавшие вступительные испытания. Зачисленные офицеры числились в своих полках и пользовались «всеми преимуществами службы наравне с офицерами при войсках состоящих» {48} , но поступали в распоряжение академического начальства. Сама Академия непосредственно подчинялась начальнику Главного штаба.
По возложенной на нее задаче, по объему прав и размерам учебных курсов российская Академия Генерального штаба была поставлена гораздо выше существовавших в то время за границей высших военно-учебных заведений, таких, например, как берлинская Кригс-академи или парижская Эколь д'аппликасьон д'Этат-мажор.
Положение обучавшихся в Академии офицеров было довольно тяжелым. Частые периодические испытания, поверки, экзамены и сочинения заставляли напряженно работать. Кроме этого, были и наряды в караулы, и дежурства, и строевые учения, которые также отнимали немало времени.
В 1855 году происходит слияние трех высших военно-учебных заведений: Николаевской инженерной академии, Михайловской артиллерийской и Императорской военной, переименованной в Николаевскую академию Генерального штаба, в одну Академию, которая получила наименование Императорской военной академии. Эти объединенные академии управлялись общим для них советом, председателем которого являлся начальник Главного штаба по военно-учебным заведениям генерал Я.И. Ростовцов. В годы реформ Александра II военным министром был назначен бывший в течение одиннадцати лет (1845—1856) профессором военной статистики Академии, выпускник 1836 года, генерал Д.А. Милютин, который взял дальнейшее устройство Академии «под личное свое руководство» {49} . Было решено «изъять» Академию из ведомства военно-учебных заведений и непосредственно подчинить военному министру, передав в ведение генерал-квартирмейстера.
Это мероприятие совпало с назначением в 1862 году начальником Академии генерала А.Н. Леонтьева, при котором была предпринята полная переработка академических курсов и учебных занятий. В новом положении говорилось, что «прямое назначение Академии состоит в приготовлении офицеров к службе в Генеральном штабе, причем должно быть обращено особое внимание на практические требования службы; затем уже второю целью должно быть поставлено распространение военных познаний в армии, но цель эта должна достигаться не столько постановкою предметов преподавания в Академии, сколько научными трудами профессоров, как лиц “ученого сословия”» {50} .
В 1878 году начальником Академии был назначен генерал М.И. Драгомиров – выпускник 1856 года, бывший в Академии Генерального штаба в 1860—1869 годах профессором тактики, герой последней Русско-турецкой войны. Своим авторитетом выдающегося военного ученого и опытного педагога он много сделал для подъема значения Академии, а главную задачу видел в упрочении и усовершенствовании порядка, установленного его предшественником. За одиннадцатилетнее пребывание Драгомирова на посту начальника Академии учебные курсы полностью установились и вылились в стройную систему. Так, курсы тактики, стратегии и военной истории, объединенные в одну кафедру военного искусства, «вошли в гармоническую между собою связь, взаимно дополняя друг друга, – писал генерал А.А. Гулевич. – Военная история выработалась в критическое исследование главнейших войн и кампаний, в которых стратегия и тактика черпали материалы для своих исследований. Стратегия перешла на путь научного изучения разных явлений войны в критико-исторической форме. Тактика установила свой курс в определенных пределах и выработала приемы для практического изучения свойств и способов употребления войск» {51} .
В 1889 году начальником Академии был назначен генерал Г.А. Леер, более тридцати лет занимавшийся военно-научной и педагогической деятельностью. Современники отмечали его необычайную эрудицию, глубокое знание военного дела, огромное количество научных трудов по самым разнообразным вопросам военного дела, искусство незаурядного лектора, стойкость и определенность его убеждений. По настоянию Леера в Академии была образована новая кафедра русского военного искусства. Девять лет во главе Академии стоял генерал Леер, и «научная ее репутация никогда не стояла так высоко, как в это время» {52} . А.И. Деникин писал, что под влиянием Драгомирова и Леера «воспитывалось несколько поколений Генерального штаба, и без преувеличения можно сказать, что их идеи воплощались на полях сражений в трех кампаниях: турецкой, японской и мировой» {53} .
В назначенный день прибывшие для поступления офицеры представились начальнику Императорской военной академии генерал-лейтенанту Г.А. Лееру и получили расписание предстоящих экзаменов. На семьдесят вакансий претендовало триста тридцать человек {54} . Поступавшие в Академию офицеры за четыре месяца до экзаменов освобождались от своих непосредственных служебных обязанностей. С первого же дня по прибытии в столицу офицеры вынуждены были решать ряд бытовых задач, прежде всего поиск подходящего места жительства. Многие стремились снять квартиры или комнаты в центре города, близ Английской набережной, где находилась Академия. Но в центре жилье стоило дорого, тем более что молодой поручик Корнилов должен был помогать семье. Поэтому он снял недорогую комнату в отдаленном районе, «убогую мансарду», как пишет современник {55} . В этой мансарде Корнилов стал усиленно готовиться к экзаменам.
Вступительные экзамены в Академию, по образному выражению генерала Деникина, были «страдной порой» {56} . Кроме лихорадочной зубрежки дома по ночам, поступающие присутствовали на экзаменах других отделений, чтобы ознакомиться с требованиями и приемами экзаменаторов. «Офицеры, даже пожилые, – отмечал А.И. Деникин, – превращались на время в школьников, с их психологией, приемами, с их ощущениями страха и радости» {57} . Сдавать вступительные экзамены было нелегко. Профессора-экзаменаторы были строги. «По установленному с давних пор порядку, – вспоминал А.А. Игнатьев, поступавший в Академию в 1899 году, – первым был экзамен по русскому языку. Требовалось получить не менее девяти баллов по двенадцатибалльной системе… Экзамена по русскому языку особенно боялись, так как наперед знали, что он повлечет за собою отсев не менее двадцати процентов кандидатов… Оказался опасным экзамен по математике… За длинным столом сидели имевшие вид пришельцев с того света два старика в ветхих черных сюртуках Генерального штаба с потускневшими от времени аксельбантами и генеральскими погонами.
Один из них, профессор Шарнгорст – маленький, седенький, с наивным, почти детским выражением лица, говорил мягко, вкрадчиво, но не без ядовитости, а другой – Цингер – высокий брюнет, с впавшими глазами и всклокоченными бакенбардами, ревел как лев, а в сущности, как потом оказалось, был гораздо безобиднее своего коллеги. Тут же присутствовал генерал – профессор Штубендорф. Эти три обрусевших немца были столпами, на которых держались в академии математика, астрономия и геодезия» {58} .
Высшие двенадцатибалльные оценки Корнилов получил на экзаменах по математике, фортификации, военной географии, администрации и политической истории {59} . Интересен также следующий факт, что, по правилам приема в Академию, все офицеры должны были «держать экзамен из обоих иностранных языков – французского и немецкого… Кто на приемном экзамене получил из иностранных языков 9 баллов и более, тот освобождается от обязательных занятий ими в Академии» {60} . В дальнейшем желающим слушателям была предоставлена возможность факультативно изучать английский язык.
Блестяще сдавшего экзамены (средний балл 10,93) Корнилова в начале октября 1895 года зачисляют в разряд слушателей Академии.
Корнилов застал Академию в пору серьезных преобразований. После двухлетнего обучения на основном курсе офицеры на конкурсной основе должны были пройти дополнительный курс. Причисленными к Генеральному штабу могли считаться только закончившие этот курс. «Окончившие два курса с чувством нескрываемой гордости украсили правую сторону своих мундиров, – писал граф Игнатьев, – серебряными значками в виде двуглавого орла в лавровом венке. Но не для всех этот день оказался одинаково счастливым. На дополнительный курс, предназначавшийся для специальной подготовки офицеров Генерального штаба, перевели только около шестидесяти человек, а остальные были отчислены обратно в свои части с проблематической надеждой получить в будущем внеочередное производство из капитанов в подполковники» {61} .
Одновременно с Корниловым в Академии Генерального штаба обучались будущие известные генералы императорской армии: А.К. Байов (1896 года выпуска), И.Г. Эрдели (1897), А.С. Лукомский (1897), Ф.Ф.Абрамов (1898), М.Д. Бонч-Бруевич (1898), Д.В. Филатьев (1898). Будущий Донской атаман А.П. Богаевский, окончивший Академию в 1900 году, писал в своих воспоминаниях, что «с генералом Корниловым я был вместе в Академии Генерального штаба. Скромный и застенчивый армейский артиллерийский офицер, худощавый, небольшого роста, с монгольским лицом, он был малозаметен в академии и только во время экзаменов сразу выделился блестящими успехами по всем наукам» {62} .
В 1896 году поручик Корнилов женится на дочери титулярного советника Владимира Марковина – Таисии, а в 1897-м у них рождается дочь Наталья.
Материальное положение офицеров, обучавшихся в Академии, было незавидным и даже плачевным. В среднем офицер получал примерно 80 рублей в месяц. Из этих денег производились вычеты в заемный капитал своей части и Академии, а также портному, который в рассрочку шил обмундирование. На жизнь, таким образом, оставалось не более пятидесяти рублей, что для Петербурга было очень мало. И если холостяки кое-как сводили концы с концами, то женатые офицеры «положительно бедствовали» {63} . Около трех лет обучения для многих офицерских семей были настоящим испытанием. Как правило, жены активно помогали своим мужьям: занимались перепиской выполненных заданий набело, статистическими подсчетами и т. п.
В 1897 году, закончив второй курс, Корнилов в июне находится в летнем лагере в Луге, проводит глазомерные съемки в окрестностях Петергофа. В июле его производят в очередной штабс-капитанский чин {64} , а в августе, после успешно сданных экзаменов он переведен на дополнительный курс. На дополнительном курсе лекции не читались, а сам курс предназначался для самостоятельной разработки слушателями трех контрольных тем – военно-исторической, по теории военного искусства и решение стратегически-административной задачи «на действия армейского корпуса применительно к определенному театру войны с описанием стратегических и географических особенностей этого театра» {65} . Первая, военно-историческая тема должна была подготовить будущего генштабиста к научно-исследовательской работе. Для этого выбирались операции отдельных крупных соединений или армий в войнах XIX века. Задания выбирались путем жребия. Задание по теоретической теме слушатель тянул «из кучи билетов» и должен был составить обширный доклад. Лучшие доклады публиковались. Для разработки третьей темы офицеров разбивали по группам в пять-шесть человек во главе с руководителем. Надо было сделать доклад с подробнейшим топографическим описанием конкретного района предполагаемых боевых действий, на основании статистических данных представить «наглядную картину снабжения корпуса всеми решительно видами довольствия, с графиками движения железнодорожных поездов и обозов, до полковых включительно» {66} . Для выполнения поставленных задач офицерам приходилось просиживать много часов в библиотеках и архивах, делать выписки статистических данных из ежегодных губернаторских отчетов. Потом получившуюся работу, «солидного объема», надо было переписать от руки без единой помарки с приложением образцово вычерченных схем, диаграмм и таблиц.
На каждую тему отводилось два – два с половиной месяца, после чего происходила публичная защита темы. Оценка публичной защиты тем являлась критерием для суждения о подготовленности слушателя Академии к выполнению обязанностей офицера Генерального штаба.
По всем трем темам Корнилов успешно защитился и получил высокий балл. За успехи в науках был награжден малой серебряной медалью «с занесением фамилии на мраморную доску с именами выдающихся выпускников Николаевской академии в конференц-зале Академии» {67} . Одновременно ему присваивается досрочно чин капитана – «за успешное окончание дополнительного курса» {68} .
Среди выпускников Академии, как писал А.А. Игнатьев, «были люди более или менее талантливые, были даже совсем бесталанные, но за всех можно было поручиться, что они подготовлены к выполнению любого порученного им дела с усердием и настойчивостью. При всех ее недостатках, академия все же готовила, бесспорно, квалифицированные кадры знающих и натренированных в умственной работе офицеров» {69} .
Как выпускник Академии Генерального штаба по первому разряду да еще с малой серебряной медалью, Корнилов мог воспользоваться правом преимущественного выбора места службы. Но двадцатисемилетний капитан отказывается от места в Петербурге и выбирает снова Туркестан, а до назначения туда, до глубокой осени 1898 года, проводит время на полевых занятиях в Варшавском военном округе.