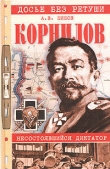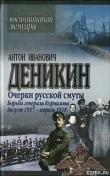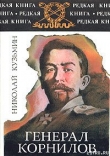Текст книги "Лавр Корнилов"
Автор книги: Владимир Федюк
Соавторы: Александр Ушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Деникин писал, что «участие Савинкова и его группы не дало армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного казака; вызвало лишь недоумение в офицерской среде» {493} . Значительной частью офицерства Савинков воспринимался прежде всего как бомбист, революционер, а значит, человек, несущий вину за происходящее. Именно этим объяснялась попытка покушения на его жизнь. Впрочем, покушение это было каким-то странным. Сам Савинков позднее рассказывал: «Ко мне на квартиру пришел артиллерийский офицер, для того чтобы меня убить, но когда мы с ним остались с глазу на глаз, он побоялся поднять оружие. В разговоре со мной он сознался, что был послан меня убить, и просил только об одном, чтобы я не давал ходу этому делу» {494} .
Просьбе этой Савинков не внял и постарался использовать происшедшее в своих целях. Он рассказал об этом инциденте Алексееву, намекнув, что против того тоже готовится покушение. Алексеев разволновался и позвал для совета Деникина и Лукомского. Отделить в этой истории правду от лжи было невозможно. В итоге было принято решение усилить охрану членов Гражданского совета, а Савинкову рекомендовано не задерживаться в Новочеркасске надолго. В начале января он покинул донскую столицу и уехал в Москву, увозя с собой письма Алексеева к Г.В. Плеханову и другому видному социалисту – Н.В. Чайковскому.
Поведение Алексеева в истории с Савинковым было очень характерно для тогдашних настроений основателя армии. Надо сказать, что по характеру своему он был человеком мнительным, к тому же давал о себе знать и возраст. Алексеев чувствовал себя обиженным тем, что его оттеснили на второй план, и потому был готов поверить в любые новые обиды. Этим-то и пользовались любители сплетен и интриг, которых тогда в Новочеркасске было более чем достаточно.
Недели две спустя после описанных событий некий капитан Капелька (князь Ухтомский), служивший в штабе Алексеева, доложил ему о новом заговоре. В армии якобы готовится переворот. Корнилов собирается свергнуть «триумвират» и объявить себя диктатором. В этой связи уже сделаны все назначения до московского генерал-губернатора включительно. Источником своих сведений Капелька называл И.А. Добрынского, подвизавшегося при Корнилове еще в августовские дни.
Алексеев потребовал объяснений и пригласил к себе для этого Корнилова и других генералов. Корнилов, узнав о сути дела, вспылил и покинул совещание. Попытки докопаться до правды ни к чему не привели. Как выяснилось, Добрынский спешно покинул Новочеркасск, даже не заплатив за. гостиничный номер. На следующий день и Алексеев и Корнилов прислали формальные письма о своем отказе от участия в дальнейшей работе: Алексеев – мотивируя это слабым здоровьем, Корнилов – желанием в скорейшее время уехать в Сибирь. Деникину вновь пришлось уговаривать сначала Алексеева, а потом вместе с атаманом Калединым вести долгую беседу с Корниловым. В результате Алексеев извинился перед Корниловым, но, похоже, остался при своих убеждениях. Во всяком случае, капитан Капелька никак не поплатился за ложный донос. Он остался служить в штабе Алексеева и был убит во время Первого кубанского похода.
Позже, когда добровольческое командование переехало в Ростов, пошли разговоры о новом заговоре, на этот раз направленном против Корнилова. Доброжелатели представили ему целый список офицеров, якобы задумавших организовать его убийство. В списке фигурировали главнейшие фигуры из окружения Алексеева. Оскорбленные этим обвинением офицеры потребовали реабилитации. Корнилов собрал их и сказал: «Дело не в Корнилове. Я просто не допускаю мысли, чтобы в армии имелись офицеры, которые могли бы поднять руку на своего командующего. Я вам верю и прошу продолжать службу» {495} .
С этих пор Алексеев и Корнилов старались по возможности избегать личных контактов. В случае необходимости они общались друг с другом в письменном виде. Это выглядело особенно странно в ту пору, когда штабы Алексеева и Корнилова располагались в одном и том же здании гостиницы «Европейская» (приметный по меркам Новочеркасска дом в три с половиной этажа и колоннами по фасаду). Однако вскоре штаб Корнилова переехал в помещение по Комитетской улице, где поселился и сам бывший главковерх.
К этому времени к нему приехала семья: жена, сын Юрий и дочь Наталья. В декабре к Наталье приезжал из Петрограда ее муж – морской офицер Маркин. Он уговаривал ее уехать с ним, но Наталья предпочла остаться с отцом. Это было ее последнее свидание с Маркиным. Позднее, уже в эмиграции, Наталья Корнилова выйдет замуж за бывшего адъютанта Алексеева А.Г. Шапрона дю Ларре.
Дочь Корнилова нашла себе работу в военном госпитале. Бок о бок с ней здесь трудилась и дочь Алексеева Вера. К счастью, конфликт отцов никак не сказывался на их взаимоотношениях. Позже к ним присоединилась молодая жена Деникина Ксения. Сорокапятилетний генерал, пользовавшийся до этого репутацией убежденного холостяка, пошел под венец с дочерью своего давнего друга, которую он когда-то знал еще ребенком. Свадьба состоялась в ноябре 1917 года в одной из маленьких церквей Новочеркасска. Медовый месяц (сократившийся до восьми дней) молодые провели в промерзшей насквозь хате на станции Славянская между Ростовом и Екатеринодаром. Можно себе представить, что чувствовали новобрачные в те дни, когда крах едва народившегося Белого движения и гибель его участников казались неминуемыми.
АРМИЯ И ПОЛИТИКА
В канун нового, 1918 года, на Рождество, Корнилов официально был объявлен командующим армией, которая с этого времени получила название Добровольческой. Пост начальника штаба армии занял генерал А.С. Лукомский. После его отъезда на Кубань в январе 1918 года его сменил генерал И.П. Романовский. Дежурным генералом был назначен генерал-майор С.М. Трухачев, начальником снабжения – генерал-лейтенант Е.Ф. Эльснер. Артиллерийскую часть возглавил полковник Мальцев, инженерную – бывший член Государственной думы Л.В. Половцев (позднее – полковник Селиванов). Должность начальника санитарной части получил полковник медицинской службы В.П. Всеволожский, интендантской – земский деятель из Таврической губернии Н.Н. Богданов {496} . Вся армия по численности немногим превышала полк военного времени. Тем не менее было начато формирование ядра 1-й Добровольческой дивизии (генерал А.И. Деникин, начальник штаба – генерал С.Л. Марков).
Цели армии были изложены в декларации от 27 декабря 1917 года. В ней говорилось о необходимости создания «организованной военной силы, которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию». Первой задачей армии должна была стать защита казачьих областей юго-востока от вторжения с севера. В будущем Добровольческая армия должна была завершить освобождение всей страны и гарантировать осуществление чаяний и воли народа. «Перед волей этой должны преклониться все классы, партии и отдельные группы населения. Ей одной будет служить создаваемая армия, и все, участвующие в ее образовании, будут беспрекословно подчиняться законной власти, поставленной этим Учредительным собранием» {497} .
Содержание и тон декларации во многом были обусловлены необходимостью успокоить казачью «демократию». Казачьи политики очень опасались обвинений в реакционности и потому с большой осторожностью относились к Добровольческой армии. Еще более сильны были эти настроения среди «иногороднего» (неказачьего) населения области. По просьбе Каледина, добровольческое командование старалось, чтобы информация о деятельности армии не просачивалась в газеты. Когда в «Телеграммах Юго-Восточного агентства» была опубликована маленькая заметка о назначении Корнилова командующим Добровольческой армией, атаман остался этим очень недоволен и лично выговорил редактору газеты капитану А. Ноль де Монклар {498} .
30 декабря 1917 года проходивший в Новочеркасске съезд иногородних потребовал «разоружения и роспуска контрреволюционной Добровольческой армии, борющейся против наступления войск революционной демократии». Для того чтобы снять назревавший конфликт, атаман Каледин попросил Алексеева выступить перед членами войскового правительства, к этому времени уже паритетного, то есть составленного в равных пропорциях из представителей казачества и «иногородних».
Встреча эта состоялась 18 января 1918 года. Алексеев коротко рассказал об истории создания армии, после чего ему был устроен настоящий допрос.
– Если у вас, генерал, существует, как вы говорите, кон такт с демократическими партиями, то почему чины вашей армии нисколько не стесняются выражать свое презрение к демократическим организациям, допуская в своих разговорах такие выражения, как «совет собачьих депутатов» и прочее?
Алексеев на это ответил:
– Прежде чем судить добровольцев, нужно вспомнить, что они пережили и переживают. Войдите в их психологию, и вы поймете происхождение этих разговоров. Ведь 90 про центов их буквально вырвались из когтей смерти и по при езде на Дон, не оправившись еще от пережитого, вынуждены были вступить в бой с советскими войсками. Из трех ночей им приходится спать только одну. Кроме того, я не понимаю, почему это вас так волнует: ведь Добровольческая армия не преследует никаких политических целей. Члены ее при своем вступлении дают подписку не принимать никакого участия в политике и заниматься какой бы то ни было политической деятельностью {499} .
Действительно, у добровольцев к этому времени сформировалась вполне определенная репутация. Говорили, например, что после взятия Ростова победители вступали в город под пение «Боже, царя храни» {500} . На деле, конечно, все было не совсем так. Мы не ошибемся, если скажем, что симпатии основной массы первых добровольцев были далеки от монархизма. В общественном сознании в ту пору еще сохранялся отрицательный стереотип монархии, созданный в предыдущие месяцы газетами и социалистической пропагандой. Правительство Керенского широко эксплуатировало слухи о якобы готовящемся монархическом заговоре, выдвигая в противовес лозунг единого фронта революционной демократии.
В результате октябрьский переворот поначалу привел к странному раздвоению оценок. Иллюстрацией этого может служить обращение, выпущенное в декабре 1917 года студенческой боевой дружиной Ростова. «Мы, дружинники, – говорилось в нем, – не признаем ни единоличной власти монарха, ни власти кучки узурпаторов, при посредстве грубой силы старающихся навязать свою волю большинству страны, ибо мы не признаем насилия… Мы боремся не с идейным большевизмом, с которым мы боролись и ныне боремся словом; нет, орудием мы боремся с тем шкурным, анархическим и разбойничьим большевизмом, который попирает всякое право и грозит погубить Россию» {501} .
Студенчество, несомненно, представляло собой специфическую категорию, но такая позиция в ту пору была свойственна не только ему. В первом варианте полковой песни корниловцев, написанном в январе 1918 года прапорщиком А.П. Кривошеевым, фигурировали характерные слова: «Русь могучую жалеем, царь нам не кумир…» Через год эту строчку пели уже по-новому: «…нам она кумир!»
Но даже те из добровольцев, кто считал себя монархистами, по сути таковыми не были. Царя большинство из них видело только на портретах или на фотографиях в «Ниве». Монархизм, в их понимании, означал неприятие революционного хаоса и анархии, тягу к сильной власти. Свидетель первых месяцев истории Добровольческой армии журналист А.А. Суворин (младший из двух сыновей к тому времени уже покойного «короля русской прессы») писал о том, что офицеры, называющие себя монархистами, «попросту не видят того, что желается им не царь, а диктатор». Они потому и идут так слепо за Корниловым, что «он и есть прирожденный диктатор, то есть то самое, что им и нужно» {502} .
Перу А.А. Суворина принадлежит и весьма характерный проект государственного переустройства России. В отличие от многих аналогичных документов, созданных уже в эмиграции, суворинский проект представляет собой едва ли не единственный пример такого рода, появившийся непосредственно в годы Гражданской войны. Он предусматривал создание в стране «державного вече», избираемого по принципу представительства от профессиональных групп, церковных приходов, городов, университетов, общественных организаций. Из своей среды вече должно было выбирать посадника, возглавлявшего исполнительную власть. Всю эту структуру венчал несменяемый и невыбираемый «великий атаман». Места еще и коронованному монарху в этой схеме просто не оставалось {503} . Обращает внимание сходство суворинского проекта с концепцией «корпоративного государства» итальянских фашистов. Напомним, что идеи фашизма, именно в итальянском его варианте, были позднее очень популярны среди белой эмиграции.
В нашем распоряжении имеется еще один любопытный документ, позволяющий реконструировать политические взгляды основателей Добровольческой армии, – так называемая «программа Корнилова». Под этим наименованием известны два несхожих документа, что подчас порождает путаницу. Мы уже писали о том, что первый из них был разработан еще в быховской тюрьме. Он включал шесть разделов, большинство из которых не касалось вопросов общественного переустройства: воссоздание боеспособной армии, продолжение войны до победного конца, восстановление дисциплины на заводах и транспорте, упорядочение продовольственного дела. Лишь требование установления сильной независимой власти и призыв отложить решение других проблем до Учредительного собрания в определенной мере носили политическую окраску {504} .
Гораздо более детален второй вариант «программы Корнилова». Впервые он был опубликован в 1923 году на страницах берлинского «Архива русской революции». Помещен он был в качестве приложения к отчету генерала В.Е. Флуга, командированного в январе 1918 года из Добровольческой армии в Сибирь. Спустя пять лет текст программы появился в другом эмигрантском издании, «Белом архиве», на этот раз в сопровождении обстоятельств ее создания.
Рассказал об этом бывший журналист газеты «Русское слово» М.С. Лембич, состоявший в описываемый период при штабе Добровольческой армии. По его словам, 22 января 1918 года он был вызван к Корнилову, который и продиктовал ему основные положения программы, с просьбой литературно обработать их. В программе провозглашались равенство граждан перед законом, свобода слова и печати, восстановление права собственности, отделение церкви от государства, введение всеобщего начального образования, право рабочих на стачки и создание профессиональных союзов.
Особенно интересно выглядит предлагавшийся в программе путь решения аграрного вопроса. Корнилов первоначально имел в виду узаконить происшедший земельный передел за счет выкупа государством захваченных крестьянами помещичьих земель. Лембич вспоминал, что таким образом генерал Корнилов «рассчитывал привлечь на сторону будущего правительства миллионы вновь образовавшихся мелких собственников» {505} . Однако в конечном счете по настоянию Милюкова этот пункт был заменен нейтральной фразой о необходимости отложить решение аграрного вопроса до Учредительного собрания.
Нетрудно заметить, что в этом варианте «программа Корнилова» была настоящей «конституцией», нацеленной не только на завтрашний день, но и на достаточно отдаленную перспективу. Составлена эта «конституция» была в весьма либеральном духе и куда более глубокой и последовательной, чем позднейшие политические декларации Деникина, Колчака и других белых вождей. Одна проблема – мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что «программа Корнилова» отражала взгляды самого Корнилова. Авторство ее различные источники приписывают и Лембичу, и Милюкову, и, что совсем уж неожиданно – Доб-рынскому {506} . Что касается других руководителей армии, то Алексеев, по словам Лембича, узнал о программе задним числом. Не упоминает о ней и Деникин. Судя по всему, январская «программа Корнилова» не носила официального характера. Появилась она в те дни, когда само существование Добровольческой армии было поставлено под угрозу, и осталась практически никому не известной.
В январе 1918 года, когда происходили описываемые нами события, самым обсуждаемым политическим вопросом был вопрос о дальнейшей судьбе разогнанного большевиками Учредительного собрания. Позднее он расколол антибольшевистский лагерь на сторонников «революционной демократии» в ее эсеровской трактовке и приверженцев собственно Белого движения. Первые ратовали за восстановление Учредительного собрания в прежнем составе, вторые либо вообще обходили этот вопрос, либо выдвигали условием новые выборы.
Можно понять, почему белым вождям было не по душе Учредительное собрание, среди делегатов которого треть была большевиками, а большинство составляли эсеры-черновцы. На «допросе» в войсковом правительстве Алексеев говорил: «Конечно, с Черновым и его партией никаких переговоров быть не может – нам с ними не по пути» {507} . Этот вопрос возник и в ходе обсуждения декларации от 27 декабря 1917 года. Присутствовавший при этом генерал А.С. Лукомский потребовал уточнить, о каком Учредительном собрании идет речь: о новом или избранном на ноябрьских выборах? По словам Лукомского, «все высказались единодушно, что об Учредительном собрании 1917 года не может быть и речи; что выборы в это собрание были проведены под давлением большевиков и что состав этого собрания не может быть выразителем мнения России» {508} .
Между тем в опубликованном тексте декларации этот принципиальный момент специально не оговаривался. Лишь в «программе Корнилова» появились слова о том, что «выборы в Учредительное собрание должны быть проведены свободно, без давления на народную волю и по всей стране» {509} . Само упоминание о выборах в будущем времени предполагало, что прежние признаются недействительными, но об этом нужно было еще догадаться. Нам кажется характерным, что все политические декларации и программы Белого движения в этот, начальный, период его истории полны недомолвок и противоречий. Не стоит искать в этом злой умысел. Скорее это было результатом того, что и рядовые участники движения, и его вожди плохо представляли отдаленные перспективы. Сложно было думать о будущем в ситуации, когда каждый день мог стать последним.
БОИ НА ДОНУ
Новый, 1918 год начинался тревожно. 2 января Корнилов пришел в общежитие на Барочной. Собрав офицеров, он обратился к ним с краткой речью: «Здравствуйте, господа! Дай Бог, чтобы этот новый год был счастливее старого. Тяжелое будет время для вас и для меня. Я объявил войну предателям Родины. Большевиков за врагов я не считаю, это лишь несчастные обманутые люди. Если же я борюсь с ними, то лишь потому, что вслед за ними мы увидим немецкие каски. Большевики – это немецкий авангард. Тяжелый будет год и тяжелая борьба. Наверное, многие из вас падут в этой борьбе, может быть, погибну и я, – но я верю в то, что Россия снова будет великой, могучей» {510} .
Корнилов собрался уходить, но его попросили остаться. Оказывается, ожидая командующего, офицеры пригласили городского фотографа и сейчас попросили Корнилова сфотографироваться с ними. Этот снимок (последний прижизненный снимок Корнилова) сохранился. В тесной, заставленной металлическими кроватями комнате столпилось множество людей. На первом плане – Корнилов. Он одет в длинное бесформенное пальто с меховым воротником, на голове – высокая барашковая папаха. Лицо его усталое и спокойное.
В начале января стало ясно, что большевики готовят генеральное наступление. Красное командование намеревалось вбить клин между территорией Дона и Украиной, где у власти находилась Центральная рада. Красные продвигались от Харькова и Луганска через Лозовую и Синельниково в направлении Новочеркасска и Ростова. 10 января штаб Добровольческой армии перебрался в Ростов. Сюда же переехала и семья командующего. Жена и дети Корнилова поселились в одноэтажном каменном доме на Ермаковском проспекте, сам же Корнилов большую часть времени проводил в помещении штаба.
Разместился штаб в особняке миллионера Парамонова на Пушкинской улице. Здание было недостроено, во многих комнатах еще не было обоев, мебель была самой разномастной. Генерал А.П. Богаевский вспоминал: «Большой дом Парамонова кипел жизнью как улей. С утра и до поздней ночи там шла нервная, лихорадочная работа, происходили совещания, приходила масса офицеров всяких чинов, сновали ординарцы с донесениями и приказами. Кроме генералов Алексеева и Корнилова, я встречал там генералов Деникина, Лукомского и многих других. Печать тревоги и тяжелой грусти лежала на всех лицах: не слышно было шутки и смеха и громкого разговора…» {511}
Корнилов занял угловой кабинет на втором этаже. В комнате постоянно были опущены шторы, но огромная люстра под потолком давала вполне достаточно света. Для того чтобы попасть к командующему, нужно было пройти целый лабиринт комнат и приемную, где дежурили Хаджиев и второй адъютант командующего – поручик Долинский. Один из визитеров, побывавших у Корнилова в эти дни, вспоминает об этом так: «В светлом кабинете за большим письменным столом, в широком кожаном кресле сидел генерал, желтый, скуластый, с по-монгольски раскосыми глазами. Он, вероятно, был мал ростом и словно утонул в кресле – над столом виднелись только голова и плечи с погонами» {512} .
В том же здании, но по другую сторону от вестибюля, располагался кабинет Алексеева. Они по-прежнему предпочитали не встречаться между собой. Даже в письменном виде генералы общались крайне редко, причем инициатором в таких случаях всегда выступал Алексеев.
По договоренности между Корниловым и Калединым Новочеркасск должны были защищать донские части, в то время как оборона Ростова передавалась добровольцам. Был еще третий фронт, южнее Ростова, у Батайска. Там добровольцам противостояли лишь немногочисленные отряды красных, и потому до начала февраля на этом участке царило относительное затишье.
На ростовском направлении линия противостояния проходила у станции Матвеев Курган примерно в 35 верстах к северу от Таганрога. Здесь оборону держали две роты – Ростовская и Георгиевская. Накануне Нового года в помощь к ним была переброшена рота 2-го Офицерского батальона и самодельный блиндированный поезд, вооруженный одним орудием. Общее командование отрядом принял полковник А.П. Кутепов. Под его началом было менее 300 человек. Силы же красных превышали по численности шесть тысяч {513} .
Пользуясь этим перевесом, красные 11 января внезапной атакой захватили Матвеев Курган. Добровольцы отступили почти на 20 верст и встали у станции Неклиновка. Сюда из Ростова спешно были переброшены подкрепления. Все, что мог выделить Корнилов, – это две роты Офицерского батальона. Но и с этими силами добровольцы на следующий день сумели отбить новую атаку красных. Противник отошел к Матвееву Кургану и несколько дней не предпринимал никаких активных действий.
В Таганроге, крупном промышленном и торговом центре, насчитывалось до 25 тысяч рабочих, в массе своей сочувствовавших большевикам. 14 января в городе началось восстание. В Таганроге стояла рота юнкеров численностью примерно 250 человек. В первые же часы восстания она оказалась разделенной надвое. Часть юнкеров засела на вокзале, вторая часть занимала Балтийский завод. Два дня осажденные отбивали атаки противника и лишь 16 января, отчаявшись получить помощь, решили пробиваться из города. При отступлении застрелился раненый командир отрада полковник Мастыко. Уйти от преследования удалось только половине юнкеров. Захваченные в плен, а также остававшиеся в госпиталях раненые были подвергнуты жестоким издевательствам и убиты.
Восстание в Таганроге коренным образом изменило ситуацию. Отряд Кутепова оказался зажат с двух сторон. К счастью, стало известно о существовании железнодорожной ветки в обход Таганрога. По ней отряд и отступил, увозя с собой артиллерию (два орудия), боеприпасы и раненых. Добровольцы закрепились на станции Бессергеновка восточнее Таганрога.
Не лучше обстояли дела и на «Новочеркасском фронте». Поразительно, но ни один казачий полк не внял приказу атамана выступить против большевиков. На фронте воевали исключительно партизанские отряды, сформированные из казаков-добровольцев. Живой легендой стал командир одного из таких отрядов есаул В.М. Чернецов. Он отличался безоглядной храбростью, заставлявшей вспомнить лучшие времена истории донского казачества. Но далеко не все его земляки следовали примеру Чернецова.
10 января в станице Каменской состоялся съезд фронтового казачества. Делегаты съезда объявили низложенными атамана и войсковое правительство и, в свою очередь, избрали Донской казачий военно-революционный комитет во главе с унтер-офицером Ф.Г. Подтелковым и прапорщиком М.В. Кривошлыковым. О подчинении Донскому ВРК объявил 21 казачий полк. Под началом же Чернецова было всего 400 сабель. Тем не менее Чернецов предъявил руководителям ВРК ультиматум, требуя подчиниться войсковому правительству. Получив отказ, он 17 января штурмом взял Каменскую. За эту фантастическую победу атаман Каледин произвел Чернецова, минуя чин, сразу в полковники.
Но даже храбрость Чернецова не могла компенсировать нехватку людей на фронте. Это заставило Каледина вновь обратиться за помощью к командованию Добровольческой армии. В распоряжение Чернецова были отправлены офицерская рота и артиллерийское орудие (то самое, «похоронное», которое незадолго до того добровольцы хитростью взяли у казаков). Для маленькой Добровольческой армии и это было слишком тяжелой жертвой. Корнилов был крайне раздражен. В беседе с ростовскими журналистами он говорил: «Я рвался из Быхова на Дон, я верил в казаков, думал вмести с ними создать плотину, которая остановила бы всероссийский поток в бездну. И нашел тех же русских солдат…» {514}
Между добровольческим командованием и донскими властями нарастали взаимные претензии. Атаман полагал помощь со стороны добровольцев недостаточной, к тому же для него унизительными были сами эти просьбы. Корнилов же считал, что от него требуют невозможного. Он резонно говорил, что оборона Донской области – это дело прежде всего самих казаков.
15 января Каледин попросил экстренно созвать заседание Гражданского совета. Члены совета собрались в восемь часов вечера в особняке Парамонова. Участник этой встречи полковник Я.М. Лисовой вспоминал: «Тихим, по обыкновению, голосом, смотря куда-то в сторону, генерал Каледин начал свой доклад». Говорил он недолго и закончил такими словами: «Таким образом, нас постепенно но верно окружают со всех сторон, и выхода нет никакого, надеяться не на кого, абсолютно не на кого, кроме как на самих себя». После атамана выступали председатель правительства М.П. Богаевский и член Войскового круга П.М. Агеев. Сообщенные ими сведения еще более усугубили и без того мрачную картину.
«Генерал Алексеев, склонившись над столом, по обыкновению что-то отмечал в своей записной книжечке; П.Б. Струве и князь Г.Е. Трубецкой тихо перешептывались; атаман застыл в своей унылой позе; Агеев без конца ходил из угла в угол; Н.Е. Парамонов, мрачно насупившись и втянув голову в плечи, казалось, ничего не видел и не слышал, остальные члены совета тоже молчали… За стеной раздавался вой ветра и мокрый обледенелый снег, как песок, хлестал в стекла окон; изредка глухо доносились одиночные ружейные выстрелы и надоедливо, монотонно такала в соседней комнате пишущая машинка» {515} .
Встал Милюков и в своей речи обвинил в создавшейся ситуации донские власти. Каледин с досадой ответил: «Мы не за критикой сюда пришли». Напряженную ситуацию попытался разрядить Алексеев. Он сказал, что нужно бороться до конца, а если станет ясно, что сил нет, – «ну что ж, и это не так уж плохо; мы тогда уйдем к Саратову или куда-нибудь за Волгу и там соберемся с силами для новой борьбы – Добровольческая армия готова к этому».
Эти слова очень взволновали атамана. «Для меня большая новость, – сказал он, – что Добровольческая армия собирается куда-то уходить из Донской области и что она даже уже готова к этому». Алексеев попытался что-то объяснить, но атаман, поклонившись всем, вышел, забыв даже в зале свою папаху {516} .
Донской атаман, 55-летний генерал от кавалерии А.М. Каледин был талантливым военным. Об этом говорит его участие в знаменитом наступлении 1916 года, когда возглавляемая им 8-я армия сыграла решающую роль в прорыве австрийского фронта. Но сейчас атаману приходилось действовать в непривычной для него политической сфере. К тому же сам Каледин был личностью сложной. На знавших его он производил впечатление человека, всегда погруженного в какие-то угрюмые думы. Никто никогда не видел его не то что смеющимся, но даже улыбающимся. «Сумрачный атаман» – эта характеристика в разных вариациях встречается у всех мемуаристов.
Мрачные настроения атамана передавались и окружающим. В атаманском дворце, всегда полном людьми, крыло, где находился кабинет Каледина, производило впечатление пустыни. Даже дежурные адъютанты предпочитали дольше необходимого не задерживаться в приемной. Деникин вспоминал о первой встрече с Калединым на Дону: «Каледин сидел в своем кабинете один, как будто придавленный неизбежным горем, осунувшийся, с бесконечно усталыми глазами» {517} . Таким же увидел его в эти дни и генерал Богаевский: «Алексей Максимович принял меня приветливо, со своим обычным сумрачным, без улыбки, видом. Он произвел на меня впечатление бесконечно уставшего, угнетенного духом человека. Грустные глаза редко поглядывали на собеседника» {518} .
Бесспорно, у Каледина чем дальше, тем больше было оснований для тяжелых дум. Принято считать, что пессимисты более реально, чем оптимисты, смотрят на окружающий мир. Но в критической ситуации, сложившейся в начале 1918 года на Дону, мрачный настрой атамана не помогал найти выход, а, скорее, усугублял происходящее.
Крайне тяжелое впечатление на Каледина, да и не только на него, произвела гибель Чернецова. 20 января отряд Чернецова атаковал станцию Глубокая, но, наткнувшись на ожесточенное сопротивление противника, отступил. Ночью остатки отряда были атакованы превосходящими силами конницы красных. Командовавший красной кавалерией войсковой старшина Голубов честным словом офицера обещал Чернецову пропустить его и его партизан при условии сдачи оружия. Слова своего Голубов не сдержал и отправил пленных на станцию Глубокая под конвоем, которым командовал уже упоминавшийся Подтелков. По дороге пленные предприняли попытку убежать, но Чернецов при этом был зарублен лично Подтелковым.