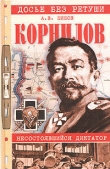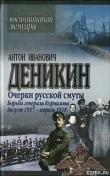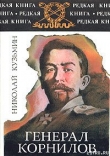Текст книги "Лавр Корнилов"
Автор книги: Владимир Федюк
Соавторы: Александр Ушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
ВО ГЛАВЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
Корнилов официально вступил в командование Юго-Западным фронтом в 7 часов вечера 7 июля 1917 года. Обстановка на фронте в этот момент была крайне серьезной. Вражеский прорыв на участке, занимаемом 11-й армией, грозил вылиться в общую катастрофу. Посланные на ликвидацию прорыва части 49-го корпуса в большинстве случаев отказывались выполнять приказы или отступали при первых же выстрелах артиллерии противника. Под угрозой оказался Тарнополь, где располагалась главная тыловая база фронта. Прикрывавший город 1-й гвардейский корпус в ночь на 7 июля самовольно покинул позиции.
Фронт рушился как карточный домик. Командующий 7-й армией генерал В.И. Селивачев, опасаясь флангового удара, был вынужден отдать приказ об отступлении. В этих условиях 8-я армия, продвинувшаяся далеко вперед, могла оказаться отрезанной от основных сил. Верховный главнокомандующий генерал А.А. Брусилов приказал Корнилову «при первой к тому необходимости отвести правофланговые корпуса 8-й армии на надежный рубеж с целью избегнуть окончательного поражения. Сократить фронт и иметь возможности образовать сильные резервы» {240} . 9 июля новый командующий армией генерал А.В. Черемисов, получивший известность взятием Галича, приказал начать отход.
Паника и дезорганизация не обошли стороной и 8-ю армию. Покидая Станислав, русские войска устроили в городе кровавый погром. В воспоминаниях генерала П.Н. Врангеля мы находим страшную картину этих дней: «Город горел в нескольких местах, толпа солдат, разбив железные шторы, громила магазины. Из окон домов неслись вопли, слышался плач. На тротуаре валялись разбитые ящики, сломанные картонки, куски материи, ленты и кружева вперемешку с битой посудой, пустыми бутылками из-под коньяка. Войсковые обозы сплошь запрудили улицы. На площади застряли артиллерийские парки. Огонь охватывал соседние дома, грозя ежеминутно взрывом снарядов» {241} .
Приказом по армиям Юго-Западного фронта от 10 июля 1917 года Корнилов предписал остановить вражеское наступление на линии реки Серет. Однако войска к этому времени уже перестали подчиняться командованию. Уже на следующий день 1-й гвардейский корпус, оборонявший Тарнополь, без боя отступил на восток. Противнику достались гигантские запасы снарядов и продовольствия на общую сумму больше 3 миллиардов рублей.
Ставка требовала от Корнилова принять все меры к прекращению отступления. По приказу Брусилова в помощь Юго-Западному фронту были переброшены два корпуса с Западного и Румынского фронтов. Но и это не помогло.
В донесениях, направляемых в Ставку, Корнилов указывал, что в создавшейся обстановке единственно возможным представляется дальнейший отход. Задачей фронтового и армейского командования, по его мнению, должны стать придание отступлению организованного характера и подготовка новой линии обороны.
Сам Корнилов позднее так рассказывал об этом: «В ночь с 7 на 8 июля я принял должность главнокомандующего войсками Юго-Западного фронта. Прорыв фронта XI армии, начавшийся утром 6 июля, был уже в полном разгаре. XI армия отступала в беспорядке. Прорыв расширялся все далее и далее, захватывая правый фланг VII армии, находившейся южнее. По донесениям с фронта, многие части не выполняли приказания. Бросали свои позиции, другие не шли на поддержку. Каждое боевое приказание обсуждалось на митингах. По всем дорогам брели толпы солдат, дезертировавших из своих частей, производя грабежи и насилия в попутных селениях» {242} .
8 июля Корнилов отправил Брусилову телеграмму, одновременно адресовав ее копию Керенскому. В телеграмме говорилось, что фронт продолжает разваливаться, хотя на одного солдата противника приходится пять русских солдат. В создавшихся условиях Корнилов считал «безусловно необходимым обращение Временного правительства и Совета к войскам с вполне откровенным и прямым заявлением о применении исключительных мер, вплоть до введения смертной казни на театре военных действий, иначе вся ответственность ляжет на тех, которые словами думают править на тех полях, где царит смерть и позор предательства, малодушия и себялюбия» {243} .
Телеграмма эта, по сути дела, очень напоминала ультиматум. Донельзя цветистый ее слог выдает автора. Текст, несомненно, был написан Завойко. В первоначальном варианте послание носило еще более резкий характер, но этому воспротивились Савинков и Филоненко. Они потребовали от Корнилова удалить Завойко из штаба фронта. Корнилов согласился, но попросил отложить этот вопрос на несколько дней.
В тот же день, когда упомянутая телеграмма ушла в Могилев и Петроград, Корнилов отправил распоряжение командующим армий и корпусов. В нем говорилось: «Самовольный уход частей я считаю равносильным с изменой и предательством, поэтому категорически требую, чтобы все строевые начальники в таких случаях, не колеблясь, применяли против изменников огонь пулеметов и артиллерии. Всю ответственность за жертвы принимаю на себя, бездействие и колебание со стороны начальников буду считать неисполнением служебного долга и буду немедленно таковых отрешать от командования и предавать суду» {244} . Фактически этим распоряжением Корнилов еще до получения ответа из Петрограда санкционировал введение на фронте смертной казни. За подобную инициативу было очень легко поплатиться должностью. На это вряд ли решился бы кто-то из других командующих фронтами, да и сам главковерх Брусилов. Корнилов сделал выбор, а зная его, можно было понять, что идти он будет до конца.
Вечером 9 июля в штабах армий и фронтов был получен ответ Керенского. Опираясь на 14-й пункт «Декларации прав солдата», премьер санкционировал применение оружия для наведения порядка среди отступающих войск. В ответе указывалось на недопустимость вмешательства комитетов в оперативные решения, а также смену и назначение командного состава. Однако вопрос о введении смертной казни в телеграмме Керенского был обойден.
По приказу Корнилова на Юго-Западном фронте были сформированы особые ударные отряды для борьбы с дезертирством, мародерством и насилием. 9 июля в расположении 11-й армии было расстреляно 14 погромщиков, схваченных на месте преступления. Объявляя об этом по армиям фронта, Корнилов сообщил, что им отдан приказ «без суда расстреливать тех, которые будут грабить, насиловать и убивать как мирных жителей, так и своих боевых соратников, и всех, кто посмеет не исполнять боевых приказов в те минуты, когда решается вопрос существования Отечества, свободы и революции». Корнилов заявлял: «Я не остановлюсь ни перед чем во имя спасения Родины от гибели, причиной которой является подлое поведение предателей, изменников и трусов» {245} .
Как и следовало ожидать, приказ Корнилова вызвал в войсках неоднозначную реакцию. Содержавшаяся в нем неприкрытая угроза не могла не породить недовольства. Начались разговоры о том, что контрреволюция поднимает голову. Уже открыто говорили, что генерал Корнилов метит в диктаторы. С другой стороны, у той части солдат, которая еще подчинялась дисциплине, поведение их сотоварищей тоже вызывало осуждение. В этой связи показательно, что ряд членов исполкома Юго-Западного фронта и армейского комитета 11-й армии еще 9 июля отправили по адресу ВЦИКа Советов телеграмму, в которой выражали свое полное согласие с расстрелом дезертиров {246} .
Позиция Корнилова нашла полную поддержку у Савинкова и Филоненко. Это получило отражение в телеграмме, посланной за их подписями 11 июля на имя Керенского. Телеграмма, а точнее обращение, была составлена почти в эпическом стиле. Сделано это было не случайно, ибо предназначалась она не только конкретному адресату, но прежде всего для широкого ознакомления.
Савинков патетически обращался к премьеру: «Как я отвечу за пролитую кровь, если не потребую, чтобы немедленно были введены с железной решимостью в армии порядок и дисциплина, которые бы не позволили малодушным безнаказанно, по своей воле, оставлять позиции, открывать фонт, губить этим целые части и товарищей, верных долгу, покрывая незабываемым срамом революцию и страну? Выбора не дано: смертная казнь тем, кто отказывается рисковать своей жизнью для родины за землю и волю». В том же духе ему вторил Филоненко: «Я могу заявить одно: смертная казнь изменникам; тогда только будет дан залог того, что не даром за землю и волю пролилась священная кровь» {247} .
Поведение Савинкова (а в дуэте с Филоненко именно он играл главную роль) характеризует скорее не его, а Корнилова. Савинков не был заговорщиком или сторонником диктатуры. Он был, как это не удивительно для недавнего подпольщика, в первую очередь государственником, приверженцем твердой власти. В Корнилове Савинков увидел человека, который сумеет обеспечить эту твердую власть, не посягая на завоевания революции. Конечно, известные сомнения у Савинкова должны были оставаться. «Наполеоновские проекты» Завойко было трудно скрыть, как трудно было не увидеть и то, что Корнилову они нравятся.
Вероятно, Савинков убедил себя в том, что он сумеет контролировать поведение Корнилова. В этом смысле характерно его требование высылки Завойко. Сам Савинков очень быстро двигался вверх. После короткого пребывания на посту комиссара Юго-Западного фронта он становится управляющим военным министерством. Присматривать же за Корниловым должен был Филоненко, назначенный на освободившуюся должность фронтового комиссара.
На все послания в свой адрес Керенский не давал ответа. Молчание премьера было связано с тем, что он в это время пытался заручиться одобрением со стороны руководства Совета. Несомненно, что после июльских дней зависимость правительства от Советов значительно ослабла. Но влияние левых партий по-прежнему было велико, и идти на конфронтацию с ними Керенский просто не мог. Лишь поздно вечером 9 июля 1917 года на совместном заседании исполкомов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была принята резолюция, объявлявшая Временное правительство «правительством спасения революции». Премьеру фактически были предоставлены неограниченные полномочия для восстановления порядка и дисциплины в армии и борьбы «со всеми проявлениями контрреволюции и анархии».
12 июля Временным правительством было принято постановление о восстановлении смертной казни через расстрел за следующие преступления: измену, побег к неприятелю, бегство с поля сражения, уклонение от участия в бою, за подстрекательство или возбуждение к сдаче, бегству или уклонению от сопротивления. Одновременно создавались военно-революционные суды, в состав которых на паритетных началах должны были входить офицеры и солдаты.
В социалистических газетах немедленно появились самые мрачные пророчества. Авторы их пугали началом контрреволюционного террора. На практике применение смертной казни широкого распространения не получило, так как большая часть воинских начальников попросту боялась брать на себя ответственность за конфирмацию приговоров. Надо признать, что в отдельных случаях имели место и более масштабные карательные операции, но это скорее было исключением из правил.
Самой крупной акцией такого рода стало разоружение 46-й пехотной дивизии на Юго-Западном фронте. В разгар немецкого наступления дивизия самовольно снялась с позиций и отошла в тыл. Солдаты прогнали офицеров и выбрали из своей среды новых командиров. В дивизии воцарилась полная анархия. Население окрестных деревень было терроризировано шайками грабителей и погромщиков. В ответ на все предложения подчиниться приказам мятежники выдвигали невыполнимые требования, вплоть до немедленного заключения всеобщего мира.
14 июля район расположения дивизии был окружен карательными отрядами. После предъявления ультиматума о сдаче два полка – Гороховский и Пултусский подчинились и выдали зачинщиков беспорядков. Остроленский полк, отказавшийся разоружиться, был обстрелян из пушек. Военно-революционный суд приговорил к смертной казни нескольких организаторов мятежа, но по ходатайству комиссара Юго-Западного фронта Филоненко они были помилованы {248} .
Еще 11 июля 1917 года, за день до того, как правительство официально приняло решение о восстановлении смертной казни на фронте, Керенский по телеграфу поспешил сообщить Корнилову о том, что его требования приняты.
Это не помешало Корнилову в тот же день отправить в адрес правительства новый ультиматум. Приводить здесь полностью это многословное послание значило бы слишком утомить читателя, поэтому мы процитируем лишь наиболее важные его фрагменты. «Армия обезумевших темных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя назвать полями сражений, царят сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия не знала с самого начала своего существования… Выбора нет: революционная власть должна встать на путь определенный и твердый. Лишь в этом спасение родины и свободы. Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого от первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет, и потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах, в целях сохранения и спасения армии для ее реорганизации на началах строгой дисциплины».
Корнилов призывал к скорейшему введению военно-полевых судов и смертной казни на фронте. Завершалось послание словами: «Довольно. Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному назначению – защиты родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего» {249} . Телеграмму сопровождала приписка Савинкова: «Я, со своей стороны, вполне разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова до слова».
Этот комментарий многое объясняет. Очевидно, что за всеми инициативами Корнилова стоял в ту пору Савинков. Без его поддержки Корнилов, быть может, не решился бы на открытое нарушение субординации, к тому же сильно отдававшее шантажом. Однако Корнилов и Савинков по-разному подходили к своему сотрудничеству. Для Корнилова Савинков был союзником, для Савинкова Корнилов скорее являлся орудием. В.Б. Шкловский, хорошо знавший всех основных участников этих событий, полагал, что Корнилов был нужен Савинкову для того, чтобы пугать Временное правительство {250} .
Разумеется, было бы ошибкой думать, что Савинков сам стремился к премьерскому креслу. Организованное им с помощью Корнилова давление на Керенского было, в понимании Савинкова, предпринято в интересах самого Керенского. Это должно было заставить того прекратить колебания, встать на позиции твердой власти. Савинков действовал методами, к которым привык за годы подполья, – хитростью и интригой. По-другому он просто не умел. Сам он при этом оставался в тени, а на первый план выдвигал Корнилова.
Савинков не учел изменившейся ситуации. Революция превратила политику из кулуарного занятия в публичное. Корнилов все больше превращался в самостоятельное действующее лицо. Лишь немногие посвященные различали за ним Савинкова. Большинство же тех, кто читал в газетах телеграммы Корнилова, видели только его. В качестве командующего армией Корнилов был одним из десятков генералов того же ранга, во главе фронта он стал одним из пяти командующих. Предпринятое им давление на Керенского сделало его фигурой, равной самому Керенскому.
КЕРЕНСКИЙ
Переломная эпоха всегда выдвигает новых людей. В этом смысле 1917 год тоже не стал исключением. Но и на фоне многих ярких фигур того времени выделяется человек, который, можно сказать, стал символом первых месяцев русской революции. В таковом качестве он остался в памяти многих. Достаточно вспомнить известные строки С. Есенина:
Свобода взметнулась неистово,
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне.
О Керенском написано много, однако и в воспоминаниях современников, и в работах позднейших историков он предстает в карикатурном виде и не иначе как в женском платье. Лишь сравнительно недавно на смену этому пришли более взвешенные оценки и не случайно в названиях книг и статей, посвященных Керенскому, как правило, фигурируют слова «феномен» и «загадка».
Действительно, взлет Керенского иначе как феноменальным не назовешь. В 36 лет, возраст для политика младенческий, он стал главой правительства огромной страны, почти диктатором. Журнал «Республика», первый номер которого, опубликованный в сентябре 1917 года, был целиком посвящен Керенскому, вышел с эпиграфом: «Его, как первую любовь, России сердце не забудет» {251} . Но загадка и состоит в том, что спустя считаные месяцы Россия вспоминала свою первую любовь с ненавистью или, в лучшем случае, с презрением. В данном случае говорить можно именно о России, ибо чувства эти объединяли и белых, и красных.
Что касается биографии Керенского, то ныне она известна неплохо, поэтому имеет смысл ограничиться основными фактами. Родился будущий глава Временного правительства в Симбирске 22 апреля 1881 года. Дата и место рождения Керенского неизбежно заставляют вспомнить другого знаменитого уроженца Симбирска. Но с Владимиром Ульяновым Керенский знаком не был – слишком велика была разница в возрасте. «Знаю только, – говорил Керенский в старости, – что он очень нравился девчонкам, хотя был и невысокого роста, но красивый. Две соплячки – мои сверстницы – были влюблены в него» {252} . Керенский и Ленин не встречались никогда, даже в 1917 году, разве что могли видеть друг друга издали.
Отец Керенского был директором Симбирской гимназии, а в 1889 году был повышен в должности и назначен главным инспектором училищ Туркестанского края. Здесь, в Ташкенте, прошла юность Керенского. Родители откровенно баловали старшего сына (в семье было еще три дочери и младший сын Федор), предрекая ему великое будущее, вплоть до того, что его школьные дневники сохранялись «для истории». Александр отвечал им нежной любовью. Опубликованные ныне его письма к родителям способны вызвать самые трогательные чувства {253} .
Гимназию Керенский закончил с медалью и уехал в столицу, где поступил в Петербургский университет. Сначала он остановил свой выбор на истории, но, видимо, прагматические соображения взяли верх, и заканчивал он курс уже по юридическому факультету. Свою профессиональную карьеру помощник присяжного поверенного Керенский начал как раз в канун первой российской революции.
В полицейских досье фамилия Керенского впервые появляется в январе 1905 года как одного из подписавших заявление протеста против ареста ряда представителей радикальной столичной интеллигенции. В декабре того же года при обыске у Керенского были обнаружены эсеровские прокламации, запрещенная множительная техника и заряженный револьвер {254} . Керенский был арестован, три месяца провел под стражей, но за недостатком улик выпущен на свободу. Впрочем, и позднее он оставался под негласным надзором полиции, фигурируя в отчетах филеров под кличкой «Скорый».
Арест в немалой мере определил характер дальнейших занятий Керенского. Как адвокат он выступал прежде всего на политических процессах. Самым известным из них был процесс армянской партии «Дашнакцутюн» и дело туркестанской организации социалистов-революционеров. В 1912 году, когда по стране прогремело известие о расстреле рабочих на Ленских золотых приисках, Керенский сам поехал на место событий, где провел собственное расследование. Итогом этого стала брошюра «Правда о Лене», немедленно конфискованная полицией и тем прибавившая популярности ее автору.
Растущая известность позволила Керенскому попробовать себя в политике. В том же 1912 году он был избран депутатом IV Думы от города Вольска Саратовской губернии. Для того чтобы иметь возможность баллотироваться, ему пришлось купить там дом за 200 рублей и превратиться таким образом в Вольского домовладельца. В Думе Керенский возглавил фракцию трудовиков и быстро стал одним из самых популярных ораторов. Но пик его карьеры приходится все-таки на 1917 год. В первом составе Временного правительства он министр юстиции, с мая – военный министр, с июля – министр-председатель.
Какие же качества позволили Керенскому пробиться на вершину власти? Поначалу лидеры крупнейших фракций Думы относились к Керенскому с оттенком снисхождения, как и к возглавляемой им трудовой группе. Но то, за кем пойдут бессловесные трудовики, нередко определяло итоги голосования, и думские вожди сами не заметили, как оказались в зависимости от Керенского. С началом мировой войны его имя фигурирует во всех политических комбинациях, обсуждавшихся в парламентских кулуарах. Поэтому появление его в первом составе Временного правительства не выглядело случайным, хотя занятый им пост министра юстиции и не относился к числу наиболее значимых. Но революция кардинально изменила прежние правила игры, и Керенский быстрее других сумел приспособиться к этому.
В весенние месяцы 1917 года самым востребованным умением в России стало умение выступать на митингах. Керенский владел им в совершенстве, и чем многочисленнее была аудитория, тем легче он подчинял ее своим эмоциям. Английский дипломат-разведчик Р. Локкарт, человек далеко не восторженный, называл Керенского одним из величайших ораторов в истории {255} . Однако странно: опубликованные речи Керенского абсолютно не производят впечатления. В них нет ни убеждающей логики, ни эффектных риторических приемов. Американская журналистка Рета Чайлд Дорр так описывала выступления Керенского: «Он слишком взвинчен на трибуне, дергается, бросается из стороны в сторону, делает шаги назад и вперед, теребит свой подбородок… Все его жесты импульсивны и нервозны, голос довольно пронзителен» {256} . Начиная речь спокойно и даже тихо, он к концу уже не говорил, а что-то отрывочно выкрикивал.
Сенатор С.В. Завадский, знавший Керенского по министерству юстиции, полагал, что его ораторские способности более воздействовали не на ум и даже не на чувства, а на нервы слушателей {257} . Выступая, он заводил не только аудиторию, но и самого себя. Не удивительно, что всплески нервной энергии чередовались у Керенского с неизбежными срывами, очень напоминавшими наркотическую абстиненцию. Ходили слухи, что он и впрямь нюхает то ли эфир, то ли кокаин, что, конечно, было неправдой.
Как талантливый артист, Керенский умел и любил нравиться, причем эта любовь подчас принимала характер болезненной страсти. Позже он рассказывал о том, что как-то на фронте его «целовала целая дивизия». После речи военного министра наэлектризованная толпа смяла охрану, чтобы лично прикоснуться к кумиру. По словам Керенского, «это было черт знает что, я был в полной уверенности, что через полчаса окажусь трупом» {258} . Однако уже в том, что он много лет спустя любил повторять эту историю, чувствовалось, как ему приятно об этом вспоминать. Это было заложено в характере, Керенскому сложно было сделать что-то с собой. Буквально за несколько дней до большевистского переворота он с гордостью сообщил своим коллегам по кабинету министров: «Знаете, что я сейчас сделал? Я подписал 300 своих портретов» {259} . Как артисту ему льстила популярность, как политик он принимал ее за искреннюю поддержку и просчитался в этом.
Конечно, к вершинам власти Керенского вознесли не только ораторские способности. Еще в бытность свою думским депутатом, Керенский приобрел неоценимый опыт по части интриг и политических комбинаций. К тому же репутация левого, почти революционера, облегчила ему общение с Советом. Коллега Керенского по парламенту, правый депутат В.В. Шульгин вспоминал: «Он рос… Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время как мы не умели даже ходить» {260} . Однако при всем этом стратегическое мышление у Керенского, похоже, отсутствовало. Он плохо видел уже на два шага вперед, не умел выделять главную цель и бросить все силы на ее достижение. Поэтесса 3. Н. Гиппиус, достаточно хорошо знавшая Керенского, полагала, что он никогда не был умен, но зато отличался гениальной интуицией {261} .
Как это ни покажется странным, но лидер вовсе не обязательно должен быть умным. Зато ему насущно необходимо другое качество: он должен уметь подбирать помощников – умных и деловых, способных на то, на что не способен он сам, но не претендующих на его место. Керенский этого таланта был лишен. У него не было «команды», людей, на которых он мог опереться. Конечно, в его окружении было много молодежи, готовой едва не молиться на него, но даже в своих товарищах по кабинету министров Керенский встречал не поддержку, а скорее недоброжелательное отношение. Считалось, что близкими к нему людьми были М.И. Терещенко (с марта по май – министр финансов, а потом до октября – министр иностранных дел) и Н.В. Некрасов (в первом составе правительства он занимал пост министра путей сообщения, потом был министром финансов и «генерал-губернатором» Финляндии). Но эти двое скорее сделали ставку на Керенского как на фаворита в политических бегах, нежели могли считаться его друзьями и единомышленниками.
В гражданских ведомствах Керенский все же мог найти людей, способных проводить его линию, пусть ненадежных, действовавших из собственной корысти, но мог. В армии у него таких людей не было. На посту военного министра он был в полной мере дилетантом. Его предшественник Гучков, хотя бы по работе в военной комиссии Думы, имел какое-то касательство к этим вопросам, Керенский же даже военного ценза не отбывал.
Главным консультантом Керенского по военным вопросам стал его шурин, полковник (позднее – генерал-майор) В.Л. Барановский. Прежде он занимал скромную должность в управлении генерал-квартирмейстера, но в начале мая был отозван в столицу и назначен главой личной канцелярии (кабинета) военного министра. Керенский писал о нем в своих воспоминаниях: «Полковник Барановский ежедневно докладывал мне о текущих событиях, следил за назначениями в Ставке и держал меня в курсе событий, которые происходили в Петрограде во время моих частых поездок на фронт» {262} . Недоброжелатели называли Барановского «нянькой», «телогреем» Керенского. Но Барановский не отличался сильным характером, да и сам не имел таких знакомств среди генералитета, чтобы быть по-настоящему полезным.
Керенский попытался найти опору в группе сравнительно молодых офицеров (большей частью в полковничьих чинах), так называемых «младотурок», привлеченных к работе еще Гучковым. Из их среды он выбрал себе товарищей (заместителей), один из них – генерал П.А. Половцев – стал преемником Корнилова на посту главнокомандующего Петроградским округом. Но и от «младотурок» Керенский всегда рисковал получить удар в спину. К слову сказать, история с «Керенским на белом коне», упомянутая в приведенных выше есенинских строках, имела место в действительности. В июне 1917 года новый военный министр задумал организовать в Павловске смотр местного гарнизона. Половцев убедил его в том, что объезжать строй нужно непременно верхом. Керенскому привели огромного белого коня, на котором некогда ездил царь. В воспоминаниях Половцева эта картина описывается так: «Он взгромоздился в седло и, взяв в руки мундштучный повод с одной стороны и трензельный с другой, поехал по фронту. В то время как один конюх следовал пешком у головы лошади, по временам давая ей направление, а другой бежал сзади, вероятно с целью подобрать Керенского, если он свалится. Рожи казаков запасной сводно-гвардейской сотни не оставили во мне никаких сомнений относительно впечатления, произведенного объездом» {263} .
«Революционный министр» обладал властью куда большей, чем была у военного министра императорской России. В мировую войну глава военного министерства отвечал в первую очередь за снабжение армии. Все важнейшие назначения производились приказом Верховного главнокомандующего. Иначе и быть не могло в ту пору, когда эту должность занимали великий князь Николай Николаевич, а потом и сам царь. Ситуация изменилась уже в первые дни революции. Начало новой практике положил Гучков, задумавший провести чистку высшего командного состава. Но Гучков хотя бы знал значительную часть старших генералов, Керенский же дотоле вряд ли был знаком с кем-то из них. Его поступки подчас производят впечатление то ли полной некомпетентности, то ли поражающей наивности.
Именно так выглядят обстоятельства назначения Брусилова на пост Верховного главнокомандующего. В середине мая Керенский, только что вступивший в обязанности военного министра, выехал на фронт. Далее следует процитировать воспоминания самого Керенского, потому что другими словами необходимых нюансов не передать. «Возвращаясь в закрытой машине из поездки по Юго-Западному фронту, мы с Брусиловым попали в небывало сильную грозу. Не знаю почему, но именно в этот момент, когда в окна машины барабанил дождь, а над головой сверкали молнии, мы ощутили какую-то взаимную близость. Разговор наш приобрел неофициальный и непринужденный характер, как водится у старых друзей… Я поделился теми трудностями, с которыми столкнулось правительство в своих отношениях с левыми политическими кругами. Брусилов же рассказал о том огромном уроне, который нанесла армии изжившая себя бюрократическая система управления, об оторванности многих высших офицеров от реальной жизни» {264} . Задумаемся – задушевного разговора достаточно для того, чтобы воюющая армия, к тому же находящаяся в критическом положении, сменила главнокомандующего.
Большая часть назначений Керенского по военному ведомству носила характер случайный. Он вынужден был либо доверять рекомендациям посторонних людей, либо полагаться на свою «гениальную» интуицию. И то и другое его часто подводило. Ситуация с выдвижением Корнилова тоже в какой-то мере носила случайный характер. Но именно в какой-то мере. В данном случае дело обстояло сложнее, потому что Корнилов в июле 1917-го был уже не просто одним из многих генералов, но постепенно превращался в политическую фигуру.