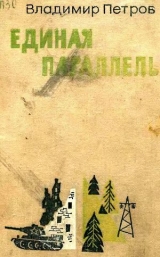
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
19
Генерал по собственному боевому опыту знал, что в долгой кровопролитной схватке самый трудный всегда – последний рывок. Тот рывок, когда до крайности напряжены физические и нравственные силы, когда кажется, что опасно перетянутой струной звонит само время. Когда до победы остается всего один шаг, но чтобы сделать его, нужно совершить сверхвозможное, по сравнению с которым все бывшие тяготы и страдания выглядят мелкими и отодвигаются на второй план.
В преддверии победы особенно остро хочется жить… Не просто победить, а уцелеть при этом, остаться живым. Хотя бы для того, чтобы самому почувствовать горькую сладость победы, чтобы встать потом во весь рост, полной грудью вдохнуть пропахший гарью воздух и сказать самому себе: «Я победил!»
Он знал, что живет сейчас этой вековечной солдатской думой не один. Десятки тысяч людей, беспредельно измотанных боями, которых вынесла огненная волна наступления к окраинам города – по огромной дуге от пологих роганских холмов, через Цвиркуны и Пятихатки, до укрытой в сосняках Куряжанки, – все они, молодые, и старые, солдаты и офицеры, пришедшие сюда от далеких родных мест, уцелевшие, милованные до сих пор фронтовой фортуной, думают об одном и том же: взять наконец город, чтобы живыми пройти по его улицам, раскаленным августовским солнцем.
А многие все-таки не пройдут…
Они останутся на журавлевском крутояре, среди бетонных развалин авиационного завода, в дергачовских оврагах и на песчаных откосах Залютина. Упадут, срезанные на бегу, так и не успев пожалеть о несбывшейся последней мечте. Город встретит свое освобождение ценой их жизни, но встретит без них…
Оперативная карта с нанесенными на ней последними данными предельно четко рисовала замысел командующего фронтом; сдавливающая подкова армий Манагарова, Шумилова, Крюченкина, Гагена. Манагаровцы, наносящие главный удар посредством обходного маневра с запада, уже очистили за несколько кровопролитных суток лесной массив, вплотную вышли к городским окраинам.
Теперь последний гвоздь в подкову должны забить его танкисты: ударом на Люботин, Коротич перерезать основную коммуникацию, питающую немецкий гарнизон – железную дорогу Харьков – Полтава. Тогда для немцев остается только «бутылочное горлышко» – дорога на Мерефу и Красноград, единственный путь отхода. Именно на этом пути (не в городе, а в поле!) будут и добивать отходящие фашистские дивизии.
А у него осталось всего сто шестьдесят танков… Да и среди них нет ни одного, не имеющего «боевых поражений».
Вспомнился канун Прохоровки, когда из кабины самолета он с гордостью оглядывал бесконечные танковые колонны, блестевшие свежей заводской краской. Их арьергарды терялись в пыли, уходили за горизонт.
Он думал о безжалостной науке войны, которая учит кровью и смертью, не прощает ошибок и не терпит теоретизированного верхоглядства. И особенно не терпит малейшего, даже однодневного отставания, предъявляя немедленно и сполна свой страшный непогрешимый счет.
Эта наука рождается войной, ею проверяется и обогащается. Интенсивность ее не сравнима ни с чем другим, ибо нигде так лихорадочно не изощрена человеческая мысль в поисках правильного решения, как именно и только в бою. Ведь речь идет о жизни и смерти.
Масштабность мышления, синтез уроков и прочная база боевого опыта – вот ее тернистый путь, уходящий в завтрашний день. А пишется она повседневно и ежечасно, пишется победами и поражениями, сожженными городами, остовами подбитых танков, орудийными залпами и солдатскими атаками, перечеркнутыми пулеметными трассами.
Генерал усмехнулся, подумав, что может со временем эти написанные войной строки лягут на бумагу под его пером. Может быть, если фронтовая судьба будет благожелательна к нему, если он останется жить…
А пока лишь карта – фиксируемое вместилище поисков, озарений, противоречивых выкладок, переменчивого счастья фронтовых удач. Он уважал карту, но не очень ей доверял. «Карта – местность (рекогносцировка) – снова карта» – в этом был стиль выработки его командирского решения.
Уже сейчас карта (на первом этапе триады) его настораживала: завтрашнее форсирование реки Уды виделось задачей крайне рискованной. Широкая заболоченная пойма – в километр-полтора – и господствующие на противоположном берегу высоты, почти не оставляли танкам шансов на успех.
Он это понял раньше, еще на фронтовом КП, когда получал задачу от командующего: нужна пехота для предварительного захвата плацдармов на том берегу.
А пехоты у него не было…
Просить у комфронта – безнадежное дело, он это понимал. Слишком критическое время, когда стрелковые дивизии обескровлены, у них, идущих на штурм города, на строжайшем учете каждая рота.
К тому же он сам полгода назад предлагал Сталину в целях мобильности исключить из состава танкового объединения чисто стрелковые подразделения. И ему уже делали намеки на этот счет.
Что ж, его рейд на Золочев, а Катукова – на Богодухов подтвердили правоту танковых командиров. Хотя здесь, под Гавриловкой, обстановка складывается совсем по-иному.
Да, война не любит и не терпит шаблона. К тому же она слишком щедра на исключения из правил. Даже твердых правил.
А пехоты у него все-таки нет…
Он вспомнил, с какой дотошностью его штабные командиры очищали в эти дни тыловые и хозяйственные службы, чтобы укомплектовать полноценную роту охраны. Улыбнулся: даже комфронта напоролся на этих гренадеров-охранников. Два дня назад в ста метрах от танкового КП машину командующего остановил сторожевой пост. Офицер-адъютант внушительно предупредил: «Едет командующий фронтом».
– Ну дак что же, – спокойно сказал пожилой усатый охранник, – Мне все равно документ нужон.
И не пропустил, пока не посмотрел этот самый «документ». Прибыв на КП, командующий долго ворчал (понаставили тут каких-то кержаков медвежатников!), однако в заключение приказал объявить постовому благодарность за проявленную бдительность.
Этим бдительным постовым оказался старый знакомый из аэродромного БАО, усатый пожилой ефрейтор, с которым генерал полтора месяца назад еще под Острогожском косил траву на взлетном поле.
Дядька невозмутимо и солидно жмурился, когда с ним беседовали генералы, изредка трогая ногтем прокуренный ус. Был он неестественно длиннорук, а от его крупной жилистой фигуры, громадных задубело-черных кулаков исходила спокойная сила, какое-то очень домашнее неколебимое благодушие.
– Пахарь войны, – сказал про него комфронта, – Этот и до Берлина дойдет.
Не дошел… Теперь уже не дойдет – сегодня утром погиб тут, на сосновой опушке, в перестрелке с блудившей по лесу случайной группой немцев.
Адъютант капитан Потанин долго потом сокрушался:
– Эх непутевый старик… Сам на свою смерть напоролся. Я ж его полдня уговаривал к вам ординарцем пойти. Варил бы сейчас генеральский чай и махру покуривал. Так нет, куда там! Я, говорит, охотничьего складу человек. Мне, дескать, с ружьем сподручнее, чем с чайником.
Смерть старого сибиряка опечалила генерала, больно задела сердце. Он знал в лицо сотни людей, встречая их на причудливых трагических дорогах войны, и еще знал, что лишь немногие из них прочно фиксируются в памяти. Остаются и долго помнятся только те, с чьим обликом и именем связаны необычайно яркие события или острые, встряхивающие душу переживания. Генерал лишь сейчас понял, что этот большеносый сутулый солдат с его крестьянскими руками, далеко торчащими из обшлагов гимнастерки, стоял от всех особняком – словно в изначалье этого третьего лета войны, кровопролитного, тягостного трудом и потерями, но победного, ведущего к будущим, еще более крупным победам. Он стоял таким, каким запомнился: в розовом утреннем свете, с литовкой на спелом июльском лугу…
И еще генерал понял, что усатый дядька-сибиряк, очевидно, виделся таким и адъютанту Потанину: не зря же он пытался приблизить его, соблазнить ординарской должностью (между прочим, даже не спросив генеральского согласия!).
А жива ли его землячка-летчица, глазастая и язвительная бабенка в офицерских бриджах? Нашла ли она того, кого искала, который «больше, чем муж»?
И тут генерал вспомнил – в который раз за этот месяц! – белобрысого мальчишку-лейтенанта, так явственно, до боли отчетливо напоминавшего родного сына. Но увидел вдруг не июльское жаркое раздолье, а зимнюю околицу большого села. Это было в начале года: по разрешению Ставки он прилетел на По-2 в глухой уголок Заволжья, куда еще в начале войны эвакуировалась его семья. Дочь с трудом узнала его, а он с трудом узнавал сына: тонкошеего вихрастого паренька…
Как ни странно, он со скрытым внутренним удовлетворением воспринял недавно доклад о безрезультатности поисков исчезнувшей в конце июля под Золочевом разведгруппы Белого. Лейтенант пропал без вести – это было лучше, чем если бы он узнал правду о его гибели. Такая формулировка оставляла надежду.
И потом он привык верить в разведчиков. Они из тех, кого более других щадит война. Они часто пропадают, чтобы воскреснуть.
Он любил разведчиков – золотые крупинки человеческих душ, которые безжалостно просеивает война. Может быть, потому, что сам когда-то начинал армейскую службу в конной разведке. Любил лично инструктировать разведгруппы, отправляющиеся за передовую, а потом по возвращении слушать их доклады, вглядываясь в опаленные смертью открытые лица, в глаза, где еще не угас огонек душевного боевого взвода, за которым, слитые воедино, смелость и осторожность, бесшабашность и хитрость.
Те две разведгруппы, что нынче ночью ушли к Старому Люботину, уже сообщили неутешительные данные: у немцев вдоль всего берега сильная противотанковая оборона. И довольно крупные танковые резервы в глубине.
Но Люботин должен быть взят…
И он будет взят. Весь вопрос в том, какой ценой?
Генерал смотрел на карту и сквозь зеленые разводья видел уже знакомую, тихую и неширокую речку с топкими берегами, густо заросшими камышом, осокой, и чем дальше вглядывался, тем крупнее и ярче виделась ему речная пойма, некруто петляющее русло, дальние косогоры, уже пожелтевшие от летнего зноя. Потом он увидел все это как бы сверху, с высоты птичьего полета, увидел ряды танков, выходящих с рубежа побригадного развертывания, черные грязные колеи, прочертившие болото, и разрывы снарядов – сначала редкие, разбросанные и вот уже сплошной стеной встающие вдоль всего берега. Увидел вязнущие танки: то тут, то там чадили смоляные дымы прямых попаданий.
Вот уже десяток их на другом берегу, они опять вязнут в трясине, они утратили скорость и горят один за другим – до командных высот, с которых бьют немецкие орудия, еще далеко…
Он устало потер лоб, записал в рабочий блокнот: «Выяснить, жива ли летчица?» Подумав, добавил ниже: «Пехота!!»
Всегда трудно и логически необъяснимо шел он к своему решению. Соотношение сил и реальная обстановка были лишь общим фоном, на который накладывалось очень многое и разнообразное: от утренней кружки колодезной воды, мельком вспомнившегося лица друга комбрига, погибшего под Верхне-Чирской, до запахов вечерних солдатских костров и сыновнего письма на школьном тетрадном листе в косую линейку.
Он не боялся отвлечься, наоборот – стремился к этому, хорошо понимая, что командирская интуиция не лежит на поверхности, а питается потаенными, артезианской глубины ассоциациями, она рождается из сочетания всего окружающего, из прошлого и настоящего, точно так же, как появляется к свету росток травы, благодаря не только земле и солнцу, а еще тысячам больших и малых благоприятных обстоятельств.
«Малой кровью» – это было его заветным девизом, все остальное подчинялось.
Впереди еще состоится вечерняя рекогносцировка на местности, но уже сейчас он твердо знал: она тоже ничего не решит.
Где-то в глубине души он отчетливо понимал, что его командирское решение – это решение сотен солдатских судеб, которое заранее сурово определяло: кому жить, кому– умереть. Именно поэтому он не имел права ошибаться, а не только и не столько из-за своего генеральского престижа.
И если надо будет, если потребует совесть, он пойдет на все: на уязвленное самолюбие, даже на унижение, но настоит на своем.
Кажется, без пехоты наступать нельзя.
Впрочем, он еще не уверен…
Вошел адъютант. Тихо притворил дверь, выжидательно склонил голову. Он был хорошо вышколен и знал, что в такие моменты хозяина безнаказанно беспокоить нельзя. И все-таки вошел – значит, случилось что-то серьезное.
– Что тебе? – Генерал сердито обернулся.
– Товарищ генерал, немцы начинают взрывать город.
– Откуда сведения?
– Так слышно же. Я лично насчитал пять крупных взрывов. За полчаса.
Генерал шагнул к блиндажной двери, прислушался: ничего, кроме обычной канонады далекого боя.
– Может, почудилось тебе?
– Никак нет! Да и от Манагарова звонили. Там визуально наблюдают. Взрывы идут в районе Основы и в центре.
– Так бы и доложил. А то «я – лично»…
Была у адъютанта такая страстишка: не упускал случая, чтобы где-то и в чем-то не подчеркнуть свою личную причастность. Генерал уже не раз подумывал: не отпустить ли парня в строевую часть, помаленьку портится он тут под боком высокого начальства. Тем более сам просится.
В это время явственно донесся мощный и раскатистый гул взрыва: будто рванули вагон с боеприпасами. Шелест пошел по вершинам сосен.
Генерал шагнул за порог блиндажа, сощурился от яркого солнца. Чувствуя волнение, подумал: вот он, наверное, самый веский аргумент для принятия решения. Опять все та же дилемма: жизнь города – жизни солдат. Как две чаши беспощадных весов…
Искрился, жарко горел на солнце песок на изрытой гусеницами сосновой опушке. На тенистом пригорке, у кустов боярышника, свежий холмик, закиданный сосновыми ветками. И фанерный, наспех сколоченный обелиск с некрашеной, тоже фанерной, звездой – там утром похоронили четырех солдат из роты охраны, убитых в перестрелке.
– Краски не нашлось, – извиняющимся тоном пояснил Потанин. – Я уже послал в автобат за краской. А табличку сделали, как вы сказали.
Генерал опять вспомнил солдата-сибиряка, его литовку с крепко, на клинья посаженной пяткой.
– Троеглазов, кажется?..
– Так точно, Троеглазов Устин Карпович, девяносто первого года рождения.
– Мир праху солдата…
По дороге, в ложбине между холмами, пылил бронетранспортер. Нырнул за лесопосадку и, грохоча гусеницами, выскочил перед самым КП. Остановился резко, сразу пропал в желтом облаке догнавшей его пыли.
К генералу спешил чем-то взволнованный начальник разведки полковник Беломесяц. Козырнул, потом сдернул каску с головы, мокрой от жары:
– Товарищ генерал! Отыскался… Вот он.
Генерал сначала ничего не понял: следом за полковником устало плелся человек в немецкой солдатской куртке без погон: пленный, что ли? Он на ходу сдернул пилотку, и генерал радостно замер, увидав знакомую белобрысую голову: лейтенант Белый!
С отцовской нежностью прикоснулся к распухшей, сплошь посиневшей щеке, с трудом узнавая дерзкого мальчишку в этом изможденном постаревшем человеке.
– Где же так тебя разделали, шалопут ты мой?
– Было дело, товарищ генерал…
Резко повернувшись, генерал быстро пошел на ближний пригорок, откуда открывалась задымленная панорама гигантского боя.
Теперь он твердо знал, какое примет завтра решение.
20
– Двигай вперед, сталинградец! – сказал Вахромееву комдив. – Бери несколько штурмовых групп, просачивайся через боевые порядки дивизии и – напролом к центру города. Чтобы к утру был на площади Дзержинского. И красный флаг на Госпроме – само собой. Уяснил задачу?
– Так точно!
– Ну, а опыт уличных боев у тебя есть, в том числе и ночных. Главное – докладывай по рубежам. Вышел туда-то в такое-то время. Ежели понадобится, то огоньку подбросим – это мы можем. Небось не забыл еще высоту 207? Очухался?
– До сих пор звенит в ушах, – усмехнулся Вахромеев. – Особенно по утрам.
– Да… Круто вам тогда пришлось! Честно сказать, за ту высоту тебе бы орден положено. Но сам виноват: оконфузился ты накануне, порастерял ночью людей в лесу. Так что будем считать: сам ты и компенсировал свое взыскание. Уж я тебе собирался врезать на всю железку.
– Я за орденом не гонюсь, – сдержанно сказал Вахромеев. – Воюю как умею. Как могу.
– Но-но, не ерепенься! – благодушно пробурчал полковник. – Уж больно вы занозисты, сибиряки. Никакой критики не выносите. Ты мне вот что скажи, комбат: как насчет своего замполита смотришь? Мужик он боевой, каленый, и, честно говоря, в том ночном ералаше он фактически тебе полбатальона спас. Политотдел настаивает на его переводе с повышением. Ты как?
– Ну ежели командование считает…
– Да погоди ты! Командование, командование… Он сам-то не хочет, вот какое дело. «Пока, – говорит, – город не возьмем, не трогайте меня от Вахромеева». А ты, получается, с ходу готов его с рук сбыть.
– Ну что вы, товарищ полковник! Вы не так меня поняли. Я, конечно, ценю и люблю Тагиева, это ж какой офицер! Комиссарская душа! Правильно он говорит: вместе будем брать город. Пускай идет моим заместителем и командиром одной из штурмовых групп.
– Это другой разговор! Так и затвердим, – довольно сказал комдив. – Считай, что это мой приказ.
Разговаривали они накоротке, прямо на дороге. Вахромеев спешил на дивизионный КП по вызову, да не поспел – встретил тут знакомую полковничью полуторку: полковник всегда ездил только на полуторке с отделением автоматчиков в кузове.
Уже шагнув к кабине и взявшись за дверную ручку, комдив язвительно прищурился:
– Слушай, Вахромеев, а что это ты на наш узел связи повадился? Раньше тебя сюда и арканом не затянешь, а теперь сам бегаешь. Вчера я тебя видел, нынче утром тоже. На моих телефонисток, что ли, пикируешь? Ты гляди у меня.
– Да нет, товарищ полковник… – смутился Вахромеев. – Это я звонить прихожу, на фронтовые тылы надо выйти. Друга разыскиваю.
– Врешь, врешь, комбат! – Полковник ухмыльнулся, погрозил пальцем. – По глазам вижу – виляешь! Ну а кроме того, мне ведь доложили, что друга твоего зовут Ефросиньей.
– Ну зовут, так что же?..
– Вот опять надулся! – рассмеялся комдив. – Ну нельзя так, Вахромеев! Ты же матерый мужик, а обидчивый, как студентка, которую неловко пощекотали. Давай-ка по-деловому: оставляй мне координаты твоего друга, а я дам задание – разыщут.
– Нет координат…
– Ну давай что есть! Все равно найдем.
Под вечер Вахромеев вывел свою командирскую группу на рекогносцировку. Они лежали в картофельной ботве на самом гребне склона и пристально, молча разглядывали город – беспорядочное нагромождение развалин, затянутое предвечерней черно-синей дымкой…
Вахромееву приходилось видеть обуглившиеся руины Сталинграда, улицы-кладбища Воронежа, на которых не было ни одного целого дома; известковую пыль над бесконечными грудами кирпича в Белгороде… Лежащий внизу город был всем им сродни своей трагической судьбой. А впереди еще была ночь решающего штурма, ночь пожаров и грохота, минных взрывов и сплошной артиллерийской канонады…
Город и сейчас рушился на глазах. Рвались снаряды средь переплетения кварталов, ухали то тут, то там тяжелые мины, грозно пучились, набухали в безветрии, дымы многих пожаров, и дым от них медленно накапливался в низине, над рекой, и почти сплошь – над железнодорожными путями внизу, под горой.
Даже в бинокль нигде не видно людей. Это казалось странным и жутким – будто огромное живое существо, истерзанное, распластанное, истоптанное, город медленно умирал, будоража окрестности предсмертной утробной тряской…
Прямо напротив, на холме, на одной высоте с ними, печально и строго возвышались серые кубические здания, немногое из того, что можно было назвать уцелевшим. На них густо падал багровый отблеск заката, и от этого бетонные небоскребы казались языками пламени над гигантским набухающим костром города.
Это было совсем недалеко: километров пять по прямой. Но путь к ажурным, будто парящим в воздухе зданиям не измерялся ни километрами, ни даже временем. У него был только один отсчет: солдатские жизни.
Вахромеев вдруг подумал, что вся предшествующая его жизнь была незримо, но накрепко связана с этим изрытым картофельным огородом и этими странными домами-башнями, окрашенными в зловеще-торжественный цвет. Он шел к ним от самой Черемши, уже тогда услыхав от ершистого хохла Павла Слетко заманчиво-звучное слово «Госпром». Уже тогда эта веха кем-то и почему-то была поставлена на его пути.
И все эти годы, сам того не сознавая, через бои и лишения, теряя друзей и товарищей, он шел к заветной вехе, потому что она определялась самой его судьбой, потому что за ней и в ней заключался смысл жизни, смысл и суть того великого общего дела, которое они вершили в таежной глухомани вместе с Павлом и черноглазыми девчатами-харьковчанками. За всем этим стояло то незыблемое и святое, что называется в просторечье человеческим долгом.
Он пришел сюда за тем же, за чем пришли в тридцать шестом в алтайскую Черемшу харьковчане: чтобы помочь…
И еще он понимал, что эти несколько километров через ночные взрывы, через горящие кварталы к вершине покатого холма, к плоским крышам бетонных зданий – это отчаянный прыжок через последнюю, но самую опасную преграду на долгом маятном пути к Ефросинье. Если он совершит его и останется живой – там, за этими домами, похожими на горные скалы, после них, непременно будет встреча. Долгожданная встреча с ней.
И Вахромеев, и командиры штурмовых групп, каждый по-своему прикидывал, измерял сейчас этот последний путь-бросок. И откровенно говоря, все они жадно вглядывались в зачерненные городские кварталы не столько для того, чтобы рассчитать маршрут, распределение сил и этапы ночного боя (они отлично знали, что такое ночной бой, когда все предварительные планы в минуту могут лететь к чертям!), сколько привыкнуть к адовой свистопляске, творящейся внизу, в черте города, почувствовать ее близость, чтобы потом испытать уверенное облегчение, подобно пловцу, опускающему палец в воду перед нырком.
Вахромеев смотрел на город и вспоминал недавний неудачный бой в лесу. Сколько он не прошел до этого фронтовых дорог, в какие атаки не поднимал людей, а по-настоящему командир в нем начал рождаться только в то похмельное горькое утро, когда он вывел потрепанные остатки своих рот на утреннюю опушку, на памятную высоту 207!..
С кержацкой сотней ему было просто: он всех их знал, как облупленных, еще по довоенной Черемше, по хозяйским и семейным делам, знал, как надежных мужиков-охотников, которые привыкли к оружию, крови и имели решающее солдатское качество – чувство собственного достоинства. На волжских откосах, под Тракторным, они сидели прочно и намертво, как гвозди, забитые в кедровую плаху.
И когда под Белгородом война окончательно растрясла его роту, повыбила степенно-неустрашимых кержаков-черемшанцев, а вместо них пришел необстрелянный разношерстный народ, Вахромеев ощутил свою командирскую слабость. Не сразу, но постепенно стал понимать, что командиром, похожим на артельного вожака, каким он был до этого, больше быть нельзя, не позволяла война. Да и не разрешала совесть.
Лейтенантом-запасником привел он свою стрелковую роту под Сталинград, и теперь капитаном-комбатом должен был штурмовать центр Харькова, командиром подвижного отряда, в который входили и саперы, и бронебойщики, и огнеметчики, и даже артиллеристы-сорокапятчики во главе с повелительно-властным лейтенантом Борей.
Замполит Гарун Тагиев еще с Выселок настырно и постоянно твердил ему о командирском стиле, без которого, дескать, командира нет и не может быть. Черт его знает, что он в действительности хотел сказать, во всяком случае, постыдная неудача в ночном лесу имела к этому самое прямое отношение. Вахромеев понимал.
Роты потеряли тогда локтевую связь… Но ведь и сам Тагиев тоже потерялся в бою на просеке, его даже посчитали погибшим. Однако он с остатками двух рот совершил-таки дерзкий ночной налет на немецкий полковой штаб и привел нескольких пленных офицеров.
Вот тебе и командирский стиль: где умному упрек, дураку– наука. Правду сказал командир дивизии: «Воевать надо так, чтобы врага не щадить, а себя не жалеть». Пожалеешь, дескать, самую малость – потеряешь все.
Да разве в этом дело?..
Вот все они через несколько часов, очертя голову, нырнут с горы в этот огненный омут, и среди них не будет ни одного, кто станет жалеть себя или даже думать об этом, и уж в первую очередь такая мысль не придет в голову самому капитану Вахромееву.
Там будут решать их судьбы, решать общий исход многие неведомые силы, десятки случайных обстоятельств, непредсказуемых неожиданностей, но среди кажущегося хаоса будут связующие все прочные нити, которые должны сходиться в один командирский узел. И если он в ночной неразберихе и сумятице сумеет удержать его в своих руках, сводный отряд обязательно пробьется к цели. Вот что самое главное…
А утром он спросит у Тагиева, обязательно спросит: что такое командирский стиль?
Конечно, это просто кратчайший путь к победе…
– Смотри сюда, командир! – Капитан Тагиев легонько толкнул в бок Вахромеева. – Видишь берег Лопани? Видишь вкопанные танки у моста слева и справа?
– Вижу.
– А пулеметные гнезда на откосе видишь?
– Вижу. И батарею минометную в парке угадываю. А правее, очевидно, зенитчики.
– Хороший у тебя глаз! – сказал Тагиев. – А вообще, этот бросок как раз для тебя. Ты ведь любишь идти лихо, напролом. Поставишь меня на авангард?
Вахромеев понял намек хитрого кавказца: дескать, гибкости тебе недостает, а вот ежели поставишь мою штурмовую группу впереди, я все сглажу, выправлю.
– Нет, – сказал Вахромеев. – В авангарде ты, Гарун, не пойдешь.
– Зачем обижаешь, командир? – Замполит повернулся на бок, обиженно нахмурился. – Я от тебя скоро ухожу, ты слыхал? Почему на прощание не уважишь?
– Перекатами пойдем, Гарун. Понял? В авангарде все побывают попеременно. И твоя группа тоже.
Именно так они в Сталинграде очищали улицы. Одна группа связывает противника боем, другая соседними дворами пробивается ему в тыл, третья уходит на очередной рубеж.
Правда, здесь несколько иная задача, хоть и похожая внешне: не очищать улицы и даже по возможности не ввязываться в бой, а пробиться через огневые заслоны врага.
Ну что ж, придется сделать корректировку, а в основном тактика приемлемая.
– Правильное решение, командир! – после паузы веско сказал Тагиев. – Умное. А все-таки после Лопани пусти меня первым, а? Я ведь, понимаешь ли, тут в Харькове университет кончал до войны. Мне как бы по долгу положено идти первым. Так пустишь вперед, командир?
– Ладно, посмотрим по обстановке, – нехотя буркнул Вахромеев, уже сейчас испытывая беспокойство: как бы норовистый, горячий Тагиев не наломал дров, оторвавшись в азарте от основных сил. Придется придерживать его, да и не только его, остальных тоже.
Город – это не лес, и тут отрыв от своих может обойтись всему отряду значительно дороже, чем это было неделю назад в ночном сосняке.
Вахромеев привстал и сказал громко, почти крикнул, обращаясь ко всем командирам групп:
– Предупреждаю: в стороны не рыскать! Если кто попытается оторваться, сразу отстраню от командования. – И уже тихо, но тоже жестко сказал Тагиеву: – А ты займись-ка еще раз составом штурмовых групп! Чтоб везде на главных местах были поставлены обстрелянные солдаты, коммунисты.
Очень жалел потом Вахромеев, что сказал это жестко, пожалуй, даже грубовато своему замполиту Гаруну Тагиеву, человеку распахнутой души, в которого верил беспредельно и которого искренне любил. А может быть, наоборот – жалел о том, что сказал недостаточно резко… Вахромеев думал об этом уже ночью, когда после ожесточенного двухчасового боя его подвижной отряд, потеряв всю противотанковую батарею, пробился наконец к Лопани и под огнем вброд форсировал речку.
Над городом полыхало зарево, а впереди, вверху на холме, уже виднелись близкие каменные глыбы Госпрома, будто стены неприступной древней крепости. Именно здесь, на прибрежной кривой улице, штурмовая группа капитана Тагиева, которая первой форсировала Лопань, напоролась на крупную немецкую засаду… Может быть, им не следовало сразу ввязываться в активный бой, а подождать подхода основных сил, подержать кратковременную оборону. Кроме того, они, наверно, могли бы взять правее и вообще обойти огневую ловушку врага. Может быть…
Но тогда фашисты нанесли бы неожиданный удар во фланг всему переправившемуся отряду и как знать, не опрокинули бы его обратно в реку…
Бой произошел яростный, скоротечный. Уже через пятнадцать минут немцы отошли в сторону Алексеевки, оставив три горящих танка. Штурмовая группа Тагиева полегла почти вся. Выручили немногих, в том числе вынесли не плащ-палатке смертельно раненного замполита: грудь его была перехлестнута автоматной очередью.
Он жил еще около часа, до того момента, когда бойцы вслед за последней атакой вынесли его на гранитную брусчатку площади Дзержинского.
Вахромеев сидел рядом, держал его холодеющую руку и думал о том, что за короткий фронтовой месяц очень многому научился у этого человека… Капитан Тагиев был из тех редких людей, которые идут по жизни, имея всюду свой почерк, живут своим ярким своеобразием и требуют обязательного своеобразия у других. Наверно, в этом Гарун ошибался – оригинальность дана лишь немногим. Но насчет командирского стиля был прав: настоящий командир просто немыслим без собственного почерка.
Замполит уже не мог говорить, молча смотрел на крышу здания: там, на фоне серого рассветного неба, маячили фигурки солдат, а еще выше, на уступе, уже четко краснело полотнище победного флага.
Чуть слышно сжав пальцы, Тагиев глазами вопросительно показал в сторону Холодной горы. Вахромеев понял вопрос: доложили ли в штаб?
– Доложил, доложил, Гарун! Не беспокойся.
Он не стал его тревожить, не стал говорить правду. Доложить о победе было нельзя, рация давно разбита, а оба радиста погибли еще на Лопани. Да и не столь это важно сейчас: оттуда и так все видят.
Над площадью еще стоял сплошной гул огневого боя. Стреляли средь задымленных этажей подорванного, торчащего гигантской спичечной коробкой соседнего Госплана, рвались гранаты у обвалившихся стен гостиницы «Интернационал», ухали немецкие минометы из кустарников Ботанического сада, и с разных концов врывались на площадь штурмовые группы других дивизий и полков.
И вдруг все это начисто заглушил грохот мотора: откуда-то со стороны Сумской выскочил «кукурузник», темным вихрем мелькнул над площадью и с креном, в развороте, ушел в сторону Павлова поля. Через несколько минут самолетик снова появился над площадью, прошел низко, будто примериваясь, и бросил вымпел – длинная красная лента зазмеилась в воздухе, медленно опускаясь прямо на груду развороченного взрывом асфальта.








