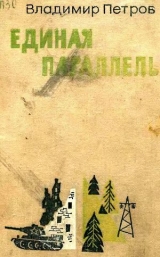
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
20
Благодатная подходила пора. В мае – июне отхлестали ливневые дожди, а на июльскую макушку – теплынь, как по заказу. Отволглая земля пучилась травами, рожала-выплескивала тугую соковитую зелень, наряжалась бело-розовой пеной цветенья.
Небывалые травостои вымахали в логах – прямо по конскую холку, густые, как сапожная щетка. Без оселка и прокоса не пройдешь: тупится литовка. Покосы делили всюду, даже на косогорах, на галечниках, где раньше лишь чахлая полынка кудрявилась, а нынче в пояс стеной вставало разнотравье.
Мужики спешили то там, то здесь прихватить даровой клок, матерно спорили, хватали друг друга за бороды. Особенно кержаки – народ нахрапистый и цепкий, где взял, там уж не положит. Потому и приходилось Вахромееву целыми днями мотаться по окрестном увалам, логам и распадкам: уговаривать, урезонивать, мирить, а то и употреблять предоставленную власть.
Чудной народ! Мир бурлил и клокотал потрясениями, кипел революционными страстями, в Европе война разгоралась, вся страна жила невиданными рекордами летчиков (на Дальний Восток махнули без посадки!), а Кержацкая падь, знай, мусолила покосные делянки, сучила рукава, размахивала задубелыми кулачищами.
Живут-то поистине в щели! Справа – моховые утесы, слева – Золотуха каменными россыпями навалилась. Солнце четыре часа в день бывает, да и то летом, зимой – того меньше. Правильно доктора говорят: ущельная сырость – источник всякой заразы, то бишь инфекции. И какой только дурак придумал именно там в свое время рубить избы? Как будто где-нибудь можно спрятаться от мира. Нет такого места на земле…
И ведь будут корпеть в этой щели, как сурки, молитвы распевать, лбы поклонами расшибать, покуда не выкуришь их на свет, на волю, не сольешь с трудовым сознательным черемшанским населением.
Теперь настало время браться за это вплотную – третьего дня наконец-то райисполком прислал бумагу о выделении фондов на переселение кержаков в Заречье. Место тут удобное, открытый взгорок, земли тучной вволю; хочешь, огороды разводи, а то и ржаной клин отмеривай – хватит на всех. Перетаскивать избы хлопотно, конечно, но не так уж и трудно – тракторы стройка дает, сани-волокуши тоже. К тому же кержацкие избы, рубленные венцом в лапу, для разборки удобны: вынул несколько скоб-клямор и за полдня весь сруб расчехвостить можно. Ну, а кто желает, руби новую избу – деньги теперь имеются, лесозавод готов отпустить бревна в необходимом количестве.
Как ни крути ни верти, не пригодна Кержацкая падь для жилья – вот что главное! Место опасное, ко всему прочему, потому как по проекту именно в речку Кедровку пойдут сбросовые воды с плотины. В общем-то их должно быть немного, ну а если необычный паводок перехлестнет этот проект! Вода есть вода.
Надо переселять, но как подступиться, с чего начинать? Кержатня поднимет хай, оплюет, камнями закидает – только попробуй сунься к ним на сходку с таким предложением. Не случайно Вахромеев уже год тянул, откладывал это дело под разными предлогами, понимал: приросли кержаки к своей щели, как лишайник к камню. Соскабливать придется, не иначе…
Силой тут не возьмешь, да и какая у него сила! Один участковый Бурнашов. И он наверняка не пойдет, прикинется больным – жена-то у него чистопородная кержачка из клинычевской семьи.
…Над всем этим размышлял Вахромеев, возвращаясь ввечеру с покосов из-под Сорнушки. Разнузданный Гнедко плелся устало, увалисто, то и дело прихватывая губами пыльную придорожную траву – за весь день ему лишь с полчаса удалось похрумкать кошениной.
У предпоследнего поворота к селу, где по откосу ершился молодой пихтач, Гнедко вздрогнул, тревожно дернул поводья, и это тотчас передалось Вахромееву: подняв голову, он увидел двух мужиков – прямо на середине дороги. Они, пожалуй, поджидали его.
Привычно сдвинув под мышкой наганный ремень, он на всякий случай расстегнул пару пуговиц на гимнастерке. Похоже, эти двое ничего не замышляли, иначе зачем бы им понадобилось выходить на дорогу?
Подъехав ближе, узнал обоих: Егор Савушкин и китаец Леонтий-«коробейник» кержацкой артели, скупщик меха из районной заготпушнины. Довольно странная компания… Что им от него надо?
– Слезай с коня, Кольша! – ухмыльнулся в бороду Савушкин. – Разговор к тебе есть.
Спрыгнув на землю, председатель шлепнул мерина по потному крупу, разрешая попастись на косогоре.
– Пришли бы в сельсовет, – сказал он, закуривая.
– Сельсовета ходи плохо, – ласково улыбнулся китаец. – Все люди види-види. Линь Тяо говори шипион. Линь Тяо шкурки не давай.
– Верно «ходя» соображает, – сказал Егор, – К тебе только явись, назавтра бабье по селу начнет судачить. Нам это ни к чему.
Интересно, какое такое дело объединило этих совсем разных людей? Ну, с Егоршей все более или менее объяснимо: у них с Вахромеевым в последние дни стали вроде бы налаживаться старые приятельские отношения. Как ни говори, а, пообтершись на стройке, Егорка Савушкин кое-что уразумел, и рабочая жизнь понемногу «промыла» ему глаза. А «ходя» тут при чем?
Хитрая бестия, выжига и торгаш. Говорят, раньше, в двадцатых годах, опиумом и кокаином промышлял – это когда мода была. Да и сейчас, народ болтает, у него всегда анаша на закрутку сыщется, будто бы в косичке своей бумажный пакетик прячет.
Вахромеев подозрительно покосился на тощую, перевитую тряпицей косичку китайца, торчавшую над засаленным воротником, и убежденно подумал: «Выгода привела его сюда. Знать, есть расчет».
Егорка Савушкин жевал смородиновый лист. Сорвал, сунул в рот и вот морщится, щурится – ждет, сам разговор первым никогда не начинает.
– Ну как, вернула вам плотина артельных лошадей? – спросил Вахромеев.
– Да вроде, – кивнул Савушкин, – Только не все повертались. Мы вот с Терехой да Васькой, значица, ишо поработаем. Однако до зимы, до первой пороши.
– Глядите, проклянут вас старики. За непослушание анафеме предадут! – усмехнулся Вахромеев.
– Ничаво! – поскреб бороду Егорша, – Мы ведь из артели не выходим. А что работаем, так деньги надобны, ребятишек одеть-обуть. У меня вон их четверо, а у Терентия – пять огольцов по лавкам сидят.
Они прилегли на кюветный пригорок, а китаец расположился по ту сторону дороги на теплом плоском камне, подвернув под себя ноги и выставив подошвы хромовых сапожек-ичигов. «Прямо детская нога! – удивился Вахромеев. – Никак не больше тридцать пятого размера». «Коробейник-ходя» нюхал табак и явно давал понять, что в разговоре не участвует.
– Давай выкладывай, с чем пришли, – сказал Вахромеев Егорше (а то будет сидеть, листья жевать да губы облизывать).
– Неладно в Кержацкой пади складывается. Неладно, Кольша… – Савушкин выплюнул зеленую жвачку, сорвал новый лист, растер в ладонях и сунул в рот. Вахромеев вспомнил школьное Егоркино прозвище и рассмеялся: отец четверых детей, а так и остался Верблюдом – вечно жует и плюется.
– Чо лыбишься? – нахмурился Савушкин, – Я тебе на полный серьез говорю, а ты хахакаешь. Мужики наши на тебя зуб точат, понимаешь? Говорят, мол, Колька-председатель облапошил артель, как цыган вокруг пальца обвел. Мы, значица, ему лошадей дали – вроде как откупились, а он обратно переселение затевает. За нечестную игру и на вилы невзначай напороться можно – вот как говорят.
– Да что они опупели, варнаки косопузые! – возмутился Вахромеев. – Разве я с ними торговался? Я лошадей просил от имени советской власти. Они же сперва не давали? Ну и не давали бы вовсе.
Он вспомнил ехидные укоры кержацкой уставницы Степаниды, колючие злобные огоньки в бесцветных старушечьих глазах. Непререкаемость и ненависть… А он то подумал тогда, что дошли до ее материнского сердца искренние слова насчет лиха военного предгрозья…
Выходит, они просто торговались. Наверно, весь тот вечер сидела кержацкая верхушка на Степанидином тесовом крылечке, судили-рядили, прикидывали да выгадывали. Теперь вон как повернули…
Да, но откуда они узнали, о переселении? Ведь бумага из райисполкома лежит у него в сейфе, и он об этом еще никому не говорил. Знать, сообщили из города – у них, у кержаков, всюду есть свои люди, свои друзья-заступники.
– Про переселение тогда речи не было, – сказал Вахромеев и неожиданно подумал: «А не явились ли сюда Егорка с китайцем затем, чтобы уламывать его, чтобы упросить или заставить отменить переселение кержацкой артели? Может, их сама Степанида к нему отрядила с поручением? Ведь неспроста китаец ухо навострил – прислушивается к разговору, даже чих старается приглушить, не чихает, а прыскает по-кошачьему». – Переселение будет не потому, что мне так хочется, а потому, что по Кедровке пойдут сбросовые воды. И начинать это дело будем с осени. – Вахромеев настороженно прищурился, ожидая, что сейчас Егорка примется выкладывать, с чем явился, начнет уламывать от «имени обчества», а то и в торги ударится.
Однако Савушкин спокойно обчистил-общипал бороду от зеленых травяных ворсинок и сказал:
– Не кричи – ишь ты, командир зычный какой выискался! Я это и без тебя понимаю: на гнилом месте стоит падь. Лично на переселение согласен. А вот они, – Егорка ткнул пятерней куда-то за спину, в сторону села, – вот они, холщовые дромадеры, рухлядь чуланная, этого понять не желают. Я про наших стариков говорю.
Они теперь, значица, чего умудрили? Жалобу на тебя писать самому вождю и учителю товарищу Сталину Потому как ты есть злостный нарушитель советской Конституции и уничтожитель права свободного народа. Эй, Леонтий, скажи ему как было, а то он мне, кажись, не очень-то доверяет. Фома-неверующий.
Егорка скатал сразу несколько листьев и рассерженно сунул в бороду, В разинутый рот.
– Сыкажу, сыкажу! – Китаец торопливо упрятал за пазуху пузырек с нюхательным табаком, легкой рысцой перебежал дорогу, заглянул Вахромееву в лицо. – Шибко шанго Егорька говорила, шибко правильно. Твоя Колика шибко плохо будет. Скоро. Ай-ай-ай!
Китаец сложил ладони, горестно склонил голову, отчего косичка его торчаще вскинулась вверх, к небу.
– Ладно причитать, «ходя»! Говори толком.
– Линь Тяо не перечитай, Линь Тяо все знай. Твоя худо моя шибко худо. Люди Савватей письмо пишут, охота «ходи» нету. Шкурки не сдавай – моя деньги нету, моя совсем помирай.
– Чего-чего! – не понял Вахромеев.
– А того что соображать надо. Человек же все понятно говорит. – Егорка шлепнул по крутой шее, прибив комара. – Старики наши так порешили: послать жалобу, на охоту не ходить, пушнину не сдавать – покуда приказ на переселение не отменят. Забастовка, значица, понял?
– А жить на что будут?
– То уж не твоя забота, – усмехнулся Егорка. – Небось у наших хряков сусеки-то крепкие, без запасов не живут. А вот ты чего запоешь, интересно знать? Шум-то поднимается большой, да гляди, и тяпнут тебя по башке. Дескать, пошто забижаешь народ? Нынче не больно разбираются.
– Ай, ай! Шибко шанго человек! Шибко жалко председатель Колька. Линь Тяо жалко. Ай-ай!
– Да замолчь ты, не кудахтай! – рассердился Вахромеев.
У него даже под лопаткой заныло, закололо: надо же какую хитрую пакость задумали преподнести ему благообразные старцы! И ведь момент выбрали – когда идет всенародное обсуждение проекта Конституции. Тут дело пахнет большой политикой… Верно рассуждает Егорка: шуму не оберешься. А может, все-таки оба они специально подосланы теткой Степанидой, припугнуть его? Чтобы подумал, поразмышлял да сговорчивее сделался. Впрочем, у них есть и веские личные мотивы для того, чтобы сообщить ему все это. Китаец, например, всерьез боится потерять работу, остаться без солидного, надо полагать, «навара», который он ежедневно наскабливает со своих посреднических махинаций.
Ну а Егорка? Ведь не по доброте душевной впутался он в это небезопасное дело. Какая ему корысть? Может, рассчитывает лучшую делянку получить на зареченском взгорке, на переселенческой улице? Кто его знает.
В любом случае – не надо подавать вида. Они сказали, он услышал, ну и лады – разошлись в разные стороны, будто никакого разговора и не было.
Китаец, покачивая головой, все еще страдальчески хныкал, зато Егорка равнодушно чавкал, как бугай на пастбище, иногда хлопал комарье на бронзовых скулах.
– Ты бы хоть серу жевал, – сказал ему Вахромеев. – Листвяжную.
– Я ее зимой жую, – буркнул Егорка. – А летом – зелень. У меня, значица, десны болят. Старуха велит смородину жевать.
– Какая старуха?
– Да Волчиха, знахарка наша. У нее и про любовь травка имеется. Тебе еще не занадобилась? – Савушкин приподнял рыжую бровь, озорно стрельнул ореховым прилипчивым глазом. – Могу спросить.
– Но-но! – насупился Вахромеев. – Что мелешь-то, бормота непутевая?
– Да я к слову, – придурился Егорка. – Это ведь кому чево потребно.
Неужто пронюхал про Фроську! Вполне возможно. В этой Черемше, как в курятнике, не успеет курица снести яйцо, а накудахчут на готовый цыплячий выводок.
– Чего робить-то будешь? – с деланным интересом спросил Савушкин, поднимаясь с земли.
– Что-нибудь буду… – Вахромеев потянулся, втоптал каблуком окурок, краем глаза замечая вытянутое, настороженное лицо китайца: уж больно ему хотелось услышать какое такое решение примет председатель. – Подумаем, обмозгуем. Как говорится, оценим обстановку. А уж потом и дело сделаем. За разговор – спасибо.
– Ну гляди в оба, архистратиг! – Егорка ткнул кулаком в председателево плечо. – Пойду поищу своего Буланку, он тут за пихтовой гривой стреножен. А «ходя» еще чего-то хочет сказать. Я чужие секреты не люблю.
Вахромеев свистом позвал мерина и, пока тот неохотно плелся к дороге, выжидательно обернулся к китайцу.
– Валяй, «ходя». Я слушаю.
Он был почти уверен, что именно сейчас услышит те самые условия, ради которых и состоялась неофициальная встреча на таежной тропе: мы – тебе, а ты – нам. Услышит то, о чем постеснялся или не осмелился сказать трусоватый увалень Савушкин.
Однако, к большому удивлению, он ошибся и на этот раз, потому что китаец, оглянувшись по сторонам, полушепотом сказал:
– Моя только тебе говори. Тсс! На плотине еси шибко плохие люди. Плотине делай чик-чик! Какие люди – моя не знай. Твоя сама види.
– Откуда тебе известно? – насторожился Вахромеев.
– Тайга ветер носил – моя уха попадал, – хихикнул китаец и предупреждающе погрозил пальцем: – Моя тебе нисево не говорил. Моя тебя не видал. Нету.
С неожиданной юркостью китаец шмыгнул в придорожный карагайник, мелькнула его синяя куртка, и он пропал в тайге.
В тот же вечер Вахромеев пришел домой к Денисову. Парторг еще болел, но дело шло на поправку. Он уже вставал, ходил по комнате – уколы, которые ему ежедневно делала фельдшерица, видимо, помогли.
Они вышли на крылечко, сели рядом на теплую, чисто скобленную ступеньку. Вахромеев обстоятельно рассказал о новостях, начиная с «лошадных дел» на стройке и кончая недавней встречей в тайге с Егоркой и китайцем Леонтием.
Денисов слушал молча, попыхивая папироской. Потом усмехнулся:
– Самое главное – не это, не угрозы кержаков… Они тебе и раньше грозили. Их сама жизнь подхлестывает, к тому же со вчерашнего дня агитбригада Слетко на Кержацкую падь нацелена. А он парень пробивной, сумеет доказать им, где черное, где белое. Да и комсомольцы подключились. Меня другое беспокоит… Ты слыхал, Шилов-то нового начальника ВОХРа назначил?
– Слыхал…
– Как ты думаешь почему?
– Ну чтобы охрану укрепить: это и следователь рекомендовал. Поставил своего человека. Понадежнее.
– Вот, вот! И еще одного «надежного» человека взял в охрану – Гошку Полторанина. Как ты думаешь, зачем все это?
– Черт его знает… Кадровые дела – это по твоей части.
– А ты советская власть. Можно сказать, государственное око. Так что тоже зри и не хлопай ушами. Размышляй и за себя и за других. Надо вот что сделать: провентилировать Гошку Полторанина. Найди-ка его, и пусть он как-нибудь на днях зайдет ко мне. Разговор к нему есть.
– Ладно, сделаю.
– А насчет Кержацкой пади действуй посмелее. Пусть они тебя боятся, а не ты их. Сходи туда еще раз, поговори со стариками. А переселение начинай, хватит тянуть. – По поводу предупреждения китайца Денисов сказал коротко: – Мало вероятно, но примем к сведению.
21
Изболелась душа у Фроськи. Вроде бы сыта, обута, при хорошем деле и при деньгах, товарки веселые окружают – живи себе, радуйся. Ан нет… Нет покоя ни уму ни сердцу.
Сны снятся тягостные, не то чтобы страшные, а тоской повитые: с расставаниями, прощаниями да с конями разномастными, которые все скачут куда-то, скалят желтые зубы, будто ржут, а ржания того вовсе но слышно…
И себя Фроська чуть не каждую ночь видела: виноватую, с поредевшей косой, босую, с пустой холщовой торбой на плече – будто все собиралась опять отправиться на побирушки, как в памятном голодном году.
Она ежедневно жила какой-то странной вселенской болью, слишком настоянной на радости, чтобы чувствовать ее физически. Ей теперь до слез было жалко многое из того, мимо чего она недавно проходила равнодушно: раздавленного на дороге жука, хромого пса бездомного, подслеповатую встречную старуху, и вообще, временами ей почему-то становилось жаль всякого, кто не улыбался, а был просто серьезен. По утрам, слушая в общежитии радио, она утирала глаза, искренне печалясь за участь детей и женщин далекой Испании, гибнущих под бомбами, страдала оттого, что беда настигает людей в городах с такими красивыми названиями, напоминающими диковинные цветы…
Она стала очень уж восприимчивой, чувствительной, оттого что душа ее распахнулась в ожидании счастья и осталась распахнутой, хотя счастье-то не состоялось. Не промелькнуло, его просто не могло быть – теперь Фроська хорошо понимала это.
Нет, она не ругала и не жалела себя, потому что, в конце концов, ничего не потеряла, даже, может быть, наоборот – приобрела: само ожидание счастья сделало ее другой.
Жена Вахромеева, учительница Клавдия Ивановна, стояла у нее на пути-дороге. И стояла так, что вроде глухого тесового забора: ни обойти ни объехать и уж подавно не перепрыгнуть. Добро бы женщина была видная, стоящая из себя, а то ведь замухрышка: костлявая, длинноносая, в очках – ну чистый филин! Да к тому же разноглазая, один глаз карий, а другой явно в синеву отдает. Фроська как увидала ее однажды в школе, так и ахнула, внутренне перекрестилась: мать пресвятая богородица, да за что же наказание такое ясноглазому Коленьке!
Вроде оборвалось что-то у Фроськи, пропала всякая охота к соперничеству: кто ж убогую станет обижать? Если уж соперничать, отбивать залетку, так на равных, по-честному…
Впрочем, Фроська все это для себя придумывала, чтобы голос внутренний приглушить о грехе вопиющем. А на самом-то деле и грусть-тоска ее была светлой, невзаправдашней, беспечальной. Втайне, в глубине души она все равно жила ожиданием счастья, помаленьку привыкала к греховной истине о том, что жизнь нередко выдает его замешанным, как хлеб на опаре, на чужих людских страданиях, А уж твое дело – примешь ты его или откажешься.
Одна беда: одолевали ухажеры – те два оболтуса с бетономешалки. Ванька-белый и Ванька-черный. Со стройки до самого барака провожали, вечером с ликбеза сторожили у школьного крыльца, а уж по воскресеньям вовсе нельзя было отвязаться: с утра сидели под окнами общежития, бренчали на завалинке балалайками. Маята с ними; Фроська в магазин – они следом, в столовку – тоже тянутся. Хоть бы уж ходили рядом, как все нормальные парни ходят, а то гусаками шкандыбают сзади, на пятки наступают, обормоты. Девки ехидную присказку пустили: «Фроськина „собачья свадьба“ шествует!»
В самом конце июля взбудоражилась Черемша – в клубе начали крутить звуковое кино. Судачили теперь об этом в каждом дворе, а которые побывали в клубе, ошарашенно разводили руками, охали, крестились: ну как есть живые люди вылазят на полотно! Говорят-то чисто– шепот и то услышишь! Песни поют, плачут, ругаются (иные сказывали – матюками!) – и все это в натуральном виде, только шибко громко: в ушах потом звон держится.
Одной бы Фроське в кино не пробиться – столпотворение у кассы. Ухажеры-Ваньки привели ее в клуб, плотно стиснули с боков на третьей скамейке у самой стены. Сначала, как пошло мелькать на полотне, Фроська не очень-то разбиралась, обалдело таращила глаза в духотище и грохоте, к тому же ухажеры ерзали, совали ей в потные руки то леденцы, то жареные семечки.
Потом чужая неведомая жизнь, пугающая открытостью и откровенностью, захватила ее в свой пестрый водоворот! Тоскливая музыка, казалось, временами вовсе захлестывала, топила с головой, и тогда Фроська, расталкивая плечами жаркие тела ухажеров, хватала ртом воздух, дышала судорожно, часто, как пескарь, брошенный на траву.
Фильм был бесстыжий – про молодую красивую бабенку, которая металась между мужем и любовником и все уповала, сердечная, на свою собственную совесть. Она все старалась делать честно, но получалось глупо, обидно делалось за нее и хотелось крикнуть, подсказать этой дурехе: что, мол, ты, непутевая, творишь, к кому и зачем лезешь со своими откровенностями?
И уж вовсе зря кинулась эта Катерина, забубенная головушка, в омут топиться: ни врагам отместки не дала, ни дела своего как следует не сделала… Так в печали и оставила весь киношный зал: бабы и девки дружно ревели под музыку…
Недовольная, злая выбралась Фроська на крыльцо в разгоряченной потной толпе. «Ровно из преисподней повылазили, из смоляных адовых котлов, прости господи!» Пока шли вечерней улицей, с ухажерами своими не разговаривала. Опостылели они ей враз: сидели, сопели по-поросячьи да хихикали в самых переживательных местах.
Она впервые, пожалуй, задумалась о горемычной бабьей доле, беззащитной и уязвимой от всяких мелких мирских соблазнов. Им, кобелям, что: ходят, бренчат на балалайках, семечки плюют да хахакают. Под удобный куст подлавливают. А ты потом совестью мучайся, высчитывай да рассчитывай.
За мостом, у дорожного развилка, когда подошли уже к бараку, Фроська сказала им, чтобы отваливали по домам – неохота ей на гулянку. Упрашивать принялись, а Ванька-черный, удерживая, попытался облапить. «Ишь ты, резвый какой: купил билет за двадцать копеек и думает теперь обниматься позволено!» Фроська тут же с отмашки врезала ему по шее, да так, что он зайцем отпрыгнул на обочину. А второй, Ванька-белый, испуганно отскочив, раскорячил ноги – пружинисто, трусливо.
Именно в этот момент у Фроськи мелькнула давняя догадка: а не эти ли хлюсты встретили ее тогда ночью на тропе, на хребтине над Кержацкой падью? Уж больно похожими показались запомнившиеся зловещие силуэты (один – вот так же враскорячку стоял).
Она отошла на несколько шагов и обернулась, снова припоминая, примерилась: а ведь очень похоже. А может, все это время они с умыслом вокруг нее хороводили, подгадывали подходящий случай?
В общежитии было пусто: кто ж будет сидеть в воскресный вечер? В коридоре Фроську перехватила комендантша Ипатьевна, поманила из дверей своей каморки: «Зайди-ка, моя хорошая!»
Старуха выглядела принаряженно: темное штапельное платье, платочек фиолетовый с гороховой каемкой – никак недавние магазинные обновки?
– Госпожинки – августовский пост скоро, моя хорошая, – сказала Ипатьевна. – К спасу великому надо готовиться. Али забыла?
– Знаю, – сухо кивнула Фроська, – не забыла.
– А коли не забыла, так веру блюсти надобно. Писано есть: «Что воздам господеви о всех, яже воздаст нам».
– Воистину так, тетушка.
– Вот и собирайся: пойдем воздадим хвалу всевышнему, глас божий услышим, молитвами обратясь. Чего стоишь-то? Иди платье надень.
– А куда пойдем?
– Закудыкала, – недовольно фыркнула Ипатьевна. – В моленную пойдем к вечерне. К единоверцам-братьям и сестрам твоим, от коих отбилась ты, ровно овца заблудшая. Грехи отмаливать.
Фроська вдруг подумала, что старуха говорит истинную правду и что вся ее теперешняя сумятица и неустроенность идут от того, что она, наверно, сбилась с дороги, а самое главное – не видит цели своего пути. Нерешительно осмотрела себя, приподняла пальцами на груди прилипшую спортивную майку, модную, со шнурочком у ворота. А не с этой ли нескромной одежды начинается постоянное чувство неловкости, которое с утра до вечера преследует и гложет ее?
Может, и в самом деле переодеться и пойти в моленную? Ведь отказавшись от прежней жизни, получив сытость и развлечения, она утратила несравненно важное – душевный покой…
Фроська шагнула к порогу, однако снова остановилась в задумчивости: вспомнила испитые старушечьи лица, выцветшие глаза, в которых не виделось ничего живого, кроме неистребимой змеиной злости. Нет, она не хотела к этому возвращаться…
Ипатьевна поспешно кинулась к Фроське, дважды перекрестила, жарко задышала в лицо:
– Свят, свят! Изыди диавол, исчезни окаянный! Гони, гони его из себя, моя хорошая! Мучит он тебя, корежит, сила нечистая. Я ведь вижу, давно вижу, как ты маешься, по ночам вскакиваешь да в подушку слезы льешь. Ступай переодевайся, сомнения всякие отбрось. Благое дело – возвращение на путь святоотеческий. Христос с тобой, моя хорошая!
Потом Фроська чувствовала себя словно в забытье, в каком-то странном полусне, когда стояла в ожидании на крыльце (Ипатьевна бегала в «женатую» половину договариваться, чтоб подежурили за нее) и когда шли по темной улице и она держалась за твердую старушечью руку. На душе теплым шаром улеглось спокойное, ясное ожидание, как когда-то несколько лет назад в первые монастырские дни, полные добрых улыбок, ласковых, почти материнских прикосновений.
В моленной стояла дымная духота, остро пахло мокрыми рубахами, и в первое мгновение, ступив за порог в горячий, тесный полумрак, Фроська вдруг вспомнила сельский клуб и подумала, что и здесь ее ожидает лицедейство, только не на сморщенном полотне, а в живых лицах, со свечами и свежерезаными березовыми вениками, взаправдашними словами и песнями. И если там она наблюдала за всем со стороны, то тут участвовала сама, вроде артистки, которой поручена маленькая, плохонькая роль.
Пели стройно, мелодично и негромко, как поют только в моленной, не стараясь выделиться и перекричать других, а тщательно вслушиваясь, подлаживая свой голос в общее звучание. Вдыхали все разом, и от этого плавно кренились, удлинялись огненные языки толстых восковых свечей.
Пели старинную кержацкую «Похвалу пустыни», которую Фроська давно знала наизусть и десятки раз вела в Авдотьином ските. Только черемшанцы исполняли ее на свой лад, на мотив, напоминавший расхожую мирскую песню, в которой были такие слова: «Ты моряк, красивый сам собою».
Глубоко вдохнув, Фроська подключилась сильным грудным голосом:
Прими мя в свою пустыню,
Яко мати свое чадо.
Стоявшая рядом Ипатьевна поощрительно тронула за локоть: «Складно поешь, моя хорошая!» Фроське нравилось хоровое звучание: не то что монастырское казенно-церковное трехголосие. Здесь песня лилась широко, со многими оттенками и подголосками, то самое черемшанское, далеко известное «демественное пение», которое хранилось, соблюдалось тут исстари в качестве достопримечательности, как и многие другие своеобразия из обрядов, молений и служб.
«У них все по-другому», – дивилась Фроська, внимательно слушая службу. Не по Минее цветной и не по Минее общей, даже не совсем «по-домашнему», то есть не строго по псалтырю. В ските, бывало, как заведет мать-игуменья, так и тараторит – бубнит без передыху, а слова-то, как щепки из-под топора летят: ни тепла в них, ни смысла живого.
Здесь вон уставница Степанида вроде артистки выступает. И глаза закатит, и жалость на голос накинет, а то вдруг насупится, взбодрит голову да и бросит слова, от которых мураши меж лопатками забегают.
Уставница читала «Хождение богородицы по мукам». Святая благодатная мать скорбно вопрошала архистратига Михаила о всех мучающихся в аду грешниках, о мужчинах и женщинах, совращенных безверием, клятвоотступниках и клеветниках, сводниках и лихоимцах, отравителях, предателях и убийцах. Все они горели в геенне огненной, корчились в расплавленных реках смоляных, извивались на железных крючьях, будучи подвешенными за языки и за иные места.
Трепетно-тревожно бились на стенах рваные тени, пласты ароматного дыма слоились над покорно склоненными головами, и Фроське казалось, что тяжкие слова, повествующие о страшных муках, витают под потолком, плотнеют, наслаиваются в духоте, как этот свечной дым, и давят, наваливаются на плечи людей, все сильнее и неотвратимее прижимая их к земле, к скобленому листвяжному полу. Потому что слова эти были укором для всех присутствующих здесь, и еще для многих и многих людей за бревенчатыми стенами моленной. Они все без исключения были греховны, и все старались утаить свои грехи, обманывая себя и бога – именно поэтому они не могли слушать «Хождение богородицы» с поднятой головой.
Фроська вспомнила, как скитские черницы, проповедуя одно, в жизни делали совсем другое. Взывая к доброте, разглагольствуя о любви к ближнему, они по-осиному жалили друг друга, делали пакости и гадости на каждом шагу.
А может быть, она ошибается и черемшанская община совсем непохожа на Авдотьину пустынь, может, тут и вправду царит «благостный дух любвеобильный»?
Поднявшись после очередного поклона, Фроська вздрогнула, почувствовав на себе многие пристальные взгляды. Это были явно осуждающие, даже презрительные взгляды – или она что-то сделала не так?
У нее подкосились ноги, когда она услыхала голос уставницы Степаниды и поняла, в чем дело…
«И виде другие жены во огни лежаща, и различные змия ядаху их, и рече святая: „Что согрешение их?“ И отвеща Михаил: „То суть монастыря черницы, яже телеса своя продаша на блуд, да того ради здесь мучатся…“».
Моленная закачалась в глазах, куда-то вбок поплыло бледно-меловое лицо уставницы, а вокруг Фроськи сразу же образовалась пустота, люди, косясь, отшатнулись от нее, как от тронутой дурной болезнью. «Стерва кулацкая…» – шепотом выдохнула Фроська и дернулась, шагнула назад к порогу, но тут же почувствовала на плече цепкую руку Ипатьевны, справа за поясок платья ухватилась чья-то другая рука. «Влипла, дура…» – сказала себе Фроська, обмякла, стыдно опустила голову.
Последующее она помнила смутно, взгляд застилала пелена сдерживаемой ярости, в ушах молоточками стучала кипевшая кровь. Кое-как пришла в себя, успокоилась уже к концу моленья, когда начались «мирские дела» – у печки на дощатом помосте замаячила лысина Савватея Клинычева.
Староста потрясал какой-то бумагой, потом громко читал, и Фроська поняла, что это кержацкое послание в Москву, жалоба на нестерпимые житейские мучения кержаков, притеснения от рабочего люда и местного начальства. Письмо было недлинное, но витиеватое, напыщенноукоряющее, чем-то похожее по складу на недавно читанные «Хождения богородицы по мукам». Фроська слушала и не удивлялась, презрительно щурилась: она давно знала, что эти благообразные с виду люди, способны не только лицемерно слушать, но и не менее лживо писать.








