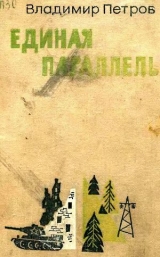
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
3
Черемша гуляла троицу. С утра поселковская комсомолия прошлась шумным «антирелигиозным маршем»– под треск барабанов и неистовое дудение горнов – от школьного двора, через пустую базарную площадь, вдоль единственной Приречной улицы. Несли разноцветные плакаты, а жилистый Степка-киномеханик держал во главе колонны фанерного попа – страшноватого, вымазанного дегтем, с патлатыми соломенными волосами.
За поскотиной, на Касьяновом лугу, попа спалили в огромном костре. Пели песню «Наш паровоз» и читали гневные стихи Демьяна Бедного против попов и монахов.
Старухи староверки плевались, заслышав горны – «антихристовы трубы», хотя на Степкиного дегтярного попа смотрели равнодушно: все местные кержаки были беспоповцами, так что сожжение церковного чина не волновало их ни с какого боку.
Уже к полдню зашевелилась, понемногу загомонила Черемша, несмело забренькала, будто застоявшаяся лошадь, встряхнувши сбруей. По тесовым подворьям кое-где уже пиликали гармошки, а с яру, из-под повети крепко рубленного троеглазовского пятистенника, полилась нестройная полутрезвая песня.
Грунька Троеглазова выходила замуж за немца – инженера Ганса Крюгеля – в поселке, переиначив по-местному, его называли Ганькой Хрюкиным, а на строительстве – Американцем.
Ганс Крюгель был мужик видный из себя, заметный. Носил шляпу, спортивный френч, замысловатые штаны с вислыми боками и ярко-желтые краги над коваными добротными ботинками. Черемшанских собак эти краги приводили в ярость, поэтому инженер всегда появлялся в селе с увесистой заграничной тростью.
Крюгель работал на стройке с самого начала, однако за три года русский язык так и не изучил как следует, за исключением ругательств – они нравились ему своей наивной витиеватостью.
Тетка Матрена – Грунькина мать – показывала дотошному, слегка подвыпившему зятю иконостас в переднем углу, украшенный березняком по случаю святой троицы. Крюгель хлопал поросячьими ресницами, разглядывая суровые лица на деревянных иконах: Николая угодника, Казанской богоматери, Параскевы-пятницы, равноапостольного святого Владимира…
Кивал и улыбался, ежели нравилось: «Гут, гут, карашо», или хмурился, кривился: «Шлехт, совсем отшень плехо». Хотя все иконы писаны были на одно лицо местным богомазом из Стрижной ямы и, в общем-то, почти не отличались. Вот он таким Крюгель был и на стройке: въедливым и беспрекословным. «Плехо» или «карашо» – третьего для него не существовало.
В избе пахло самогоном, медовухой, вареной картошкой и дурманящим немецким одеколоном – Крюгель то и дело промокал лысину надушенным клетчатым платком. Обычного свадебного чада не чувствовалось: вдова Матрена жила скудно, бедствовала с пятью дочками. Поросенок да дюжина кур – весь приплод-приговор.
Курносенькая смазливая Грунька, пунцовая от выпитой медовухи, счастливо перебирала переброшенные на грудь кончики косы, впервые расплетенной надвое. Младшенькие – круглолицые, сопливые, носы пуговкой, как на подбор, – ерзали на лавке у окна, ели шаньги с творогом, восхищенно разглядывали невестино кружевное платье – свадебный подарок Американца. Двухгодовалая Настюшка, недопущенная к столу, сосала на печи леденцы, обиженно отпихивала надоедливую кошку.
Соседские мужики выпили по очередному стакану картофельного самогона, гаркнули положенное «горько!» и, не дожидаясь традиционного поцелуя, завели двухголосую надрывную «Скакал казак через долину». Крюгель неожиданно запротестовал, стал колотить алюминиевой ложкой.
– Замолчайт! Я есть жених, который говорит слово. Их фанге ан![1]1
Я начинаю! (нем.)
[Закрыть] Сильно замолчайт!
Не тут-то было: уже подключились бабы. С душевной слезой, подвывая, выводили: «…скакал он садиком зеленым, блестит колечко на руке…».
Горластая тетка Матрена все-таки навела порядок, устыдила гостей: «Всяка песня только опосля добрых слов на лад идет. А на свадьбе словам – первое место, потому как свадьба и есть сговор». Послушались, приутихли.
Жених расстегнул френч, развязал-ослабил полосатый галстук:
– Камераден, товарищи! Медьхен Грунька есть моя отшень большой любовь. Она был пролетариат – убираль мусор наша контора дирекцион. Эс ист унмеглих вайтер![2]2
Это невозможно дальше! (нем.)
[Закрыть] Теперь Грунька есть майне фрау Аграфен – хозяйка большой дом. Майн хаус. После стройка плотина вир коммен нах Дойчланд[3]3
Мы поедем в Германию (нем.)
[Закрыть]. Вместе мы строим зоциалисмус Германия.
– Брешет Хрюкин! – подал голос углежог Устин Троеглазов, Матренин деверь. – Брешет сукин сын. Он ее там на скотный двор отдаст. Бывал я у них в плену в ихнем распрекрасном фатерлянде.
Крюгель ничего не понял, радостно осклабился:
– Да, да! Прекрасный фатерлянд! Грунька будет самый счастливый фрау. Гроссес глюк![4]4
Огромное счастье! (нем.)
[Закрыть].
– Клюкнем, клюкнем! – поднял стакан дядька Устин. – Вот это правильно – кончай болтать. Знаем мы вас, немцев. Давай лучше клюкнем по единой.
Сивуху заедали кержацкой закваской, черпали из двух больших деревянных мисок: холодный квас на тертой редьке и прошлогодней квашеной капусте. Резкое терпкое пойло, аж слезу вышибает…
От такой закуски все на мгновение трезвели и постно, с откровенной жалостью поглядывали на Груньку. Понимали, кто тут не понимал: не в свои сани впрягается девка, не в те ворота норовит проскочить… Как ни крути, а этот Хрюкин, почитай, годков на двадцать постарше своей сопливой невесты. Да и Матрену понять можно: куда ей деваться с пятью-то ртами? А так хоть помощь какая будет. Ганс Крюгель не чета местным парням-обормотам. Главный инженер стройки, а нынче уже второй месяц за начальника строительства действует. Дом-то какой имеет – залюбуешься! – с шиферной крышей, с застекленной верандой, с собственной баней, в которой, говорят, установлено чугунное эмалированное корыто. Оно все и называется звучно, не по-здешнему – коттедж.
Дед Спиридон, большой любитель газетной политики, изрядно захмелев, протиснулся к инженеру и стал «прояснять международную обстановку». Старик был издавна худогорлый: чтобы говорить, ему требовалось затыкать пальцем на шее дырку в железном колечке.
– Хрюкин, а Хрюкин! – пьяно сипел Спиридон. – Ты, слышь-ка, объясни, мил человек, что же такое происходит-получается в твоей Германии? Девку нашу в жены берешь, а там у вас обратно же никакого порядка нету – куды повезешь-то? Это как же: к фашизму, значит, приклоняетесь, супротив рабочего классу идете, эабижаете народ – газеты ведь пишут. Ну-ка скажи нам, ответствуй!
Инженер побагровел, опустил голову, стиснул челюсти. В избе сразу сделалось тихо, перестали стучать деревянные ложки, примолкли бабы-говорухи, только Настюшка продолжала канючить с печки – выпрашивала у сестер медовые коврижки. Патлатый, закопченный Устин Троеглазов ехидно сощурился напротив, запустив в бородищу, в волосатый рот чуть ли не всю пятерню – ковырялся в зубах, будто только что до отвала наелся баранины.
– Я политика нихт ферштейн! Не понимайт! – громко сказал Крюгель и дважды прихлопнул платком вспотевшую лысину. – Я есть инжинир. Мне политика не надо. Не хочу!
– Ишь ты, хитрая немчура, язви тебя в душу! – не унимался, пыжился дед Спиридон, расплескивая стакан. – Нет, ты скажи, ты ответь людям. Раскрой свою душу – я ведь теперича по жене сродственником тебе довожусь.
Дед по-петушиному теребил-клевал жениха за рукав, Крюгель сердито сопел, бычился, все ниже нагибая загорелую шишковатую голову. Наконец Устин Троеглазов отобрал у Спиридона стакан, усадил-припечатал его к лавке.
– Сиди уж! Сродственник нашелся: седьмая вода на киселе.
Бабы разом вскрикнули, завели староверские жалобные распевки «На таежном крутояре», а деда Спиридона постепенно оттеснили от молодоженов на край лавки, к самой печке, где он и продолжил свои высказывания перед обрадованной Настюшкой.
На крыльце затопали, загорланили; послышались переборы трехрядки, и в распахнувшуюся дверь ввалилась ватага парней – изба враз заходила ходуном. Все по-праздничному в пиджаках, при картузах и кепочках, сбитых на затылок, впереди черемшанский заводила Гошка Полторанин.
Гармонист врезал подгорную. Гошка пошел вприсядку, повертелся чертом-козырем, потом выдал цыганочку с выходом – и пошло, и поехало, завертелось – замелькало так, что не поймешь, где руки, где ноги, сплошной дробот и шлепки: по голенищам, по бедрам, по груди, по скобленому полу. Бабы не выдержали, кинулись в круг, завизжали, заойкали; надсадно тараща глаза, затараторили частушками. Всякими: и девичьими, и невестиными, и обманными и… непристойными – тут думать да припоминать слова некогда, шпарь по следу товарки, не отставай, а запутаешься, забудешь – вываливайся из круга.
Невеста тоже не утерпела, каблучковой дробью вошла в круг, дразня парней городским фасоном платья, лиловыми рюшками, воланчиками по подолу. А когда устала, вернулась за стол, Гошка Полторанин метнулся в сенцы, принес оттуда охапку розового духовитого марьина коренья и эффектно бросил перед невестой. Все это, надо полагать, было заранее уговорено меж парней, потому что гармонист сразу замолк, а Гошка налил первый попавшийся стакан.
Молча выпил до дна, не закусывая, утерся рукавом и громко, с вызовом сказал жениху:
– Хрюкин, ты пошто у меня невесту отбил?
До Крюгеля, кажется, не дошло, но по напряженной тишине он понял, что в его адрес прозвучало нечто неприличное. Сделал шаг в сторону, в проход, приблизился к Гошке. И только тут разглядел откровенную насмешку в серых глазах парня.
– Шпрехт нох айн маль. Еще раз говори. Я не понимайт.
– Чего тут не понять? – усмехнулся Гошка и показал пальцем на невесту: – Она была моей девкой, понимаешь? Я гулял с ней. Гулял, понимаешь? А ты у меня отбил.
– И что же? – Инженер высокомерно вздернул подбородок.
– Да ничего особенного, – сказал Гошка, – только отбивать девок у нас не положено.
– Я есть лючший за тебя! – Крюгель выставил ногу, обтянутую блестящей крагой. Капризно притопнул – Она хотель меня, не тебя. Нет! Ты есть глюпый.
– Да подавись ты ей! – махнул рукой Гошка. – Больно она мне нужна. Я с ней погулял – и будь здоров. В кусты ходил с ней, понял?
– Не ври, варнак! – завизжала Грунька, выскакивая из-за стола. – Не наговаривай на честную девушку, змей подколодный!
Гости возмущенно загалдели, иные повставали с лавок, однако Крюгель всех перекричал, успокоил, заставил сесть по местам.
– Тихо камераден! Я понимайт этот хулиган! Но моя невеста он не подорваль авторитет. Я будем плевать на него. Вот так. – И, сделав еще шаг, Крюгель плюнул на Гошкин пиджак.
Дальше все произошло стремительно, неожиданно, как во всякой драке. Гошка саданул Крюгеля в ухо, замахнулся во второй раз, однако, екнув, получил такой тычок в подбородок, что улетел к печке, под шесток, попутно свалив с ног деда Спиридона и соседскую невестину подругу. Сразу встать не мог – ноги вяли в коленках, в голове наслаивался звон. Так, сидя на полу, ошарашенно оглядываясь, спросил:
– Братцы! Мать-перемать, что же это такое?
– Дас ист айн бокс! – сказал Крюгель и, распрямляя кулак, подул на костяшки пальцев.
Гошка катался по грязному полу, исступленно стучал кулаками, всхлипывал: его репутация деревенского заводилы оказалась непоправимо подмоченной, он это понимал. И кем? Этим плешивым немцем с лошадиными зубами…
– Перо! – плевался и вопил Гошка. – Дайте мне ножик, охламоны!
Кто-то из парней кинул ему финку, лезвие воткнулось в плаху пола, задрожало. Однако Гошка не успел дотянуться – нож ногой отбросил в угол Устин Троеглазов, потом огромными своими ручищами сгреб Гошку в охапку и швырнул в дверь, как швыряют полено в печь. Гошкины дружки мигом исчезли из избы, второпях бросив гармошку.
…Вечером, по случаю нерабочего дня, в карьере была очередная отпалка, рвали скалу на заготовки для каменотесов. Потом оказалось, что во время отпалки был взорван один из трех экскаваторов «Бьюсайрус», находящихся в карьере. Как раз самый новый, наиболее исправный – кто-то заложил пакет аммонала под поворотный круг.
Ганс Крюгель до рассвета мотался по стройке, по карьеру в составе специальной комиссии, спешно созданной для расследования диверсии. Так что первая его брачная ночь фактически не состоялась.
4
Здесь все было пронизано дыханием высоты, всюду лежала печать скупой и строгой суровости. Холодный ветер, пахнущий льдом, гранитные скалы в рыжих пятнах лишайника, альпийская впадина, поросшая вереском, кое-где утыканная хилым кедровым стланником. И мох под ногами – настоящий тундровый ягель с ветродуйками – мохнатыми, словно утепленными, голубыми колокольчиками.
Пронзительная синева… Только этот цвет щедр и безбрежен тут, разлит, растушеван от бледно-фиолетового зенита, сочно-синей каймы горизонта до васильковой глади огромного водохранилища и синеватого оттенка растительности. Синева холодит, будоражит, зовет в дымчатые дали горных, хребтов, в упавшее далеко внизу летнее марево тайги.
Бетонно-белая плотина, крытая глыбами тесаного гранита, напоминает пломбу, добротно всаженную между двух замшелых зубьев ущелья. Правда, впечатление основательности несколько портил обычный строительный хаос: торчащие вразностык доски опалубки, ходовые плахи для тачек, ржавые ежи арматуры и особенно карьер на левом склоне – там сплошная мешанина камней, кранов-дерриков, деревянных будок-времянок. У самого края, будто больной гусак, – подорванный экскаватор «Бьюсайрус» уныло повесил стрелу, на которой так и остался красный плакат «Даешь вторую очередь!».
– Ну что ж, теперь мне все ясно, – сказал новый начальник стройки инженер Шилов. – Остается завершить второй этаж, отделать бьеф и закончить туннель гидравлического сброса. Правда, срок довольно сжатый – всего один год.
– Это есть нереально, – буркнул Ганс Крюгель, сидевший чуть ниже на уступе скалы.
Парторг Денисов промолчал, поглядывая на стрелу «Бьюсайруса», раздраженно подумал: «Ведь еще утром велел снять и перевесить плакат. Безответственные шаромыжники…».
– Срок реальный прежде всего потому, что другого нам не дадут. Прошу это запомнюсь, товарищ Крюгель! – Шилов носком сапога пнул камень-голыш, проследил за ним, пока он падал в ущелье, резво, как мячик, подпрыгивая на скалах. – Надо не болтать, а действительно работать по-новому. Выполнять на практике все шесть условий хозяйствования, которые выдвинул товарищ Сталин. Они, как я вижу, подзабыты у вас.
– Не согласен, – сказал парторг Денисов. Он все еще трудно дышал, покалывало в легком – давала знать старая рана с гражданской. И вообще, на кой ляд им надо было переться на эту гору, ведь и так полдня мотались по стройке? – Данный вопрос мы обсуждали в начале года на открытом партийном собрании. Доклад делал товарищ Петухов, старый начальник строительства.
Шилов обернулся, долго, в упор глядел на парторга. Взгляд неподвижный и цепкий – от такого не отведешь глаз.
– Вы на Петухова не ссылайтесь. Он и без того достаточно авторитетный специалист. И вообще, у него были свои задачи, у нас – свои. Проблема рабочей силы – первые три условия товарища Сталина – вот что для нас сейчас главное. Потрудитесь именно на этом сосредоточиться. Особенно бытовой вопрос: в бараках непролазная грязь, антисанитария. Надо немедленно навести порядок.
– А мы этим и занимаемся. Ликвидируем нехватку рабочей силы. Член парткома председатель сельсовета Вахромеев, например, имеет задание по дополнительной мобилизации на стройку местного населения. Проводим и другие мероприятия бытового плана. А что касается ваших замечании, давайте обсудим их на парткоме. Примем решение.
– Я уже принял решение, – Шилов опять не мигая уставился на парторга, – и потрудитесь его выполнять. Между прочим, уважаемый Михаил Иванович, вы, очевидно, плохо знаете линию партии на современном этапе хозяйственного строительства. Сейчас курс на единоначалие, время дискуссий и споров прошло. Надо делать дело на основе персональной ответственности.
Ганс Крюгель, прислушиваясь к разговору, демонстративно отвернулся. Шилов ему не понравился сразу: приехал на все готовое и еще пытается поучать, повторяя, в общем-то, давно и хорошо известные истины.
– Интересно… – Сдерживаясь, парторг почесал мизинцем прокуренный ус. – Значит, не понимаем линию партии? Ну что ж, вам, как товарищу из центра, может быть, виднее… Тогда соберем сегодня же партком, и вы нам разъясните обстановку. Ну и попутно о себе расскажете, по личной биографии. Проходили ли чистку, состояли ли в оппозициях и так далее. Для знакомства.
Шилов прищурился, чуть изменился в лице – понял, что разговор, кажется, делает тот самый поворот, за которым начинается конфликт. Спокойно заметил:
– Вряд ли сейчас это уместно.
– А почему? Самое время. Идет всесоюзная проверка и обмен партбилетов.
– Мне партбилет уже заменили в Москве.
– Ну что ж. Поговорим просто – оно не помешает.
Начальник строительства, бросив за спину руки, минуту смотрел вдаль, молчал, покусывая губу: ссориться с парторгом, да еще на первых порах, никак не входило в его планы. Простоватый, похожий на деревенского плотника, Денисов оказался на удивление цепким и въедливым. Шилов рассчитывал только слегка приструнить парторга и главного инженера, дать обоим представление о будущих взаимоотношениях. Но, пожалуй, завернул слишком круто, не сдержался… Проклятая дыра, она вышибла его из равновесия: он и сейчас внутренне ежился, вспоминая адскую дорогу сюда, почти сутки в допотопном шарабане через кручи и перевалы, через опасные броды и каменные россыпи.
– Вы есть отшень недовольный, товарищ Шилов, – поднимаясь и вступая в беседу, сказал Крюгель. – Почему?
– Я прошу понять меня правильно, – произнес Шилов, медленно переводя, словно бы осторожно перенося свой свинцово-неподвижный немигающий взгляд на главного инженера. – Я действительно, кажется, расстроен. Этой историей с экскаватором.
– Не понимаю… – Крюгель простодушно развел руками.
Работала специальная комиссия, объяснил он. Разбиралась в происшествии двое суток, опрашивала взрывников-отпальщиков, дежурных стрелков охраны, даже экскаваторщика Бухалова. Взрывники вполне надежные люди, стахановцы, которые овладели новым прогрессивным методом отпалки – это вдвое повысило производительность взрывных работ. Очевидно, они немного перестарались, пошли на риск. Слишком близко заложили два шпура, в одном из которых заряд сработал раньше, – взрывом выбросило аммонал из соседнего шпура и отбросило его вместе с горящим бикфордовым шнуром под экскаватор: там он и ухнул. Варшайнлих – вполне возможно. Так отметила вся комиссия. Собственно, товарищ Шилов уже слышал эти выводы – в чем же дело?
– А дело в том, – сухо, резко сказал Шилов, – что все это чепуха. Вранье на постном масле.
– Какое масло? – рассердился Крюгель. – Почему постное масло?
– Дас ист пуре люге! – по-немецки сказал Шилов. – Унд дас ферштеен зи аусгецайхнет[5]5
Это чистейшая ложь! И вы это отлично понимаете (нем.).
[Закрыть].
– Найн, найн! – замахал руками Крюгель. – Неправда!
– Правда, – спокойно подтвердил Шилов и повернулся к парторгу: – Вы ведь тоже были в составе комиссии и, значит, подтверждаете этот нелепый вывод?
– Ошибаетесь, – глухо сказал Денисов, – я как раз поставил его под сомнение.
– Вот именно! Ведь даже неспециалисту понятно, что экскаватор взорван умышленно: никак не мог пакет аммонала попасть под поворотный круг – траектория не та. Он был заложен туда заранее. Дураку ясно, что это было прямое вредительство. Акт комиссии уже готов?
– Еще нет, – ответил Крюгель.
– Я не советую его подписывать. Ни вам, Крюгель, ни вам, товарищ Денисов. Я вас искренне уважаю и хочу предостеречь от очень опрометчивого шага. В современной обстановке классовой борьбы это будет называться укрывательством вредителей. Именно так.
Денисов насупился, покусывая копчик уса. Главный инженер клетчатым платком усердно тер сразу вспотевшую шею. Взглянув на парторга, виновато опустил глаза – новый начальник им обоим, кажется, объявил эффектный мат.
– Что же предлагаете? – Крюгель наконец поднял голову.
– Во-первых, я объявляю вам свое решение: сегодня же шифрограммой сообщаю о факте вредительства в город и вызываю следователя. – Шилов опять пнул камень, долго с интересом следил за его падением: внизу, над бывшим руслом реки, от камня наросла небольшая лавина. – Во-вторых, предлагаю в акте комиссии прямо указать, что причину взрыва экскаватора установить не удалось. Ведь оно так и есть на самом деле. А это нелепое предположение надо просто отбросить. Пусть расследованием займутся специалисты, квалифицированные лица. Пусть они делают выводы и определяют виновного. Вот и все.
– Между прочим, я уже звонил в райком партии, – негромко произнес Денисов. – Так что в городе насчет экскаватора в курсе дела.
Закатное солнце пряталось за грядой облаков и освещало из-за них, как из-за ширмы, причудливую гребенку дальних хребтов на горизонте: мягкий перламутровый свет падал на скальные вершины, похожие на башни рыцарских замков. Вечернее раздолье рождало успокоение, тихое, но тревожное, в котором нераздельно слиты восторг и грусть…
Все трое молча любовались закатом, каждый думая о своем. Парторг Денисов зашелся кашлем, торопливо вынул пачку дешевого «Беркута», закурил папиросу-гвоздик.
– Шприхст ду вар, зо браухст ду айн гедехтнис; люгст ду, зо браухст ду цвай[6]6
Если скажешь правду – припоминаешь один раз; соврешь– припоминать приходится дважды (нем.).
[Закрыть], – меланхолично, в раздумье произнес Шилов, ни к кому, собственно, не обращаясь. – Так любил говорить один мой немецкий товарищ.
– Это есть народная мудрость. – Ганс Крюгель почтительно поднял палец. – Мой дед тоже говорил так. Гроссфатер.
Денисов раздраженно сплюнул.
– Ну-ин ладно. Я, однако, пойду: совещание агитаторов назначено. – Взглянул на часы, угрюмо пошутил: – У вас фатеры, а у меня агитаторы.
Он втоптал каблуком недокуренную папироску и, не попрощавшись, молча направился вниз – сутулый, большеголовый, старчески кхекающий через каждые несколько шагов. Крюгель и Шилов проводили взглядами его неширокую спину: под габардиновым пиджаком четко угадывались костлявые лопатки.
– Он что, больной? – спросил Шилов.
– Да, у него еще в войну прострелено легкое. Но крепкий человек, крафтман. По-русски говорят «кремень мужик». Вот такой, как этот камень. Шлаген дас фойер – высекать огонь.
Немец поднял два черных кварцитовых обломка, покресал ими, показывая-высекая искорки, и бросил один Шилову.
– Вам нелегко будет работать с ним, геноссе Шилов.
Тот усмехнулся, подкинул на ладони пойманный камушек, зачем-то сунул в карман.
– Поживем – увидим…
Оба они с уходом Денисова почувствовали появившуюся вдруг напряженность, оба осторожно приглядывались друг к другу. Крюгель подумал о том, что первое его впечатление, возможно, ошибочно: в новом начальнике, несомненно, ощущалось обаяние, правда несколько странное, из категории неопределенных. Оно и привлекало и отталкивало одновременно. Особенно неприятны были холодные рыбьи глаза, в которых ничего нельзя уловить, кроме безграничного равнодушия.
– У вас отличное произношение, – по-немецки сказал Крюгель. – Правда, чувствуется берлинский акцент, так сказать, дистиллированная речь. Вы давно были в Берлине?
– Почти год назад, – польщенно улыбнулся Шилов. – Вернулся после длительной командировки.
– Ну и как выглядит наш славный Берлин?
– В Берлине толков много, толку мало, – по-русски произнес Шилов, вынимая пачку «Казбека».
– Простите, не понял.
– На немецком этот каламбур не звучит. Ну а если сказать проще, то ничего хорошего в Берлине я не увидел. Перемены малоутешительные, во всяком случае на мой взгляд.
– Вы имеете в виду нацистский бум?
– Но только. Общая взбудораженность, нарастающая атмосфера какого-то повального психоза. Я никогда не думал, что немцы, как нация, могут быть настолько шумны и крикливы.
Он хотел добавить кое-что и насчет несдержанности – в Берлине он сам видел, как уличные зеваки не раз избивали иностранцев, если те не отдавали нацистского приветствия марширующим штурмовикам, – однако передумал: Ганс Крюгель и без того обиженно надул толстые губы.
– Что же плохого вы усматриваете в одухотворенности народа? – спросил Крюгель, запальчиво ерзая на камне. – Немецкий народ подымает голову, начинает ощущать свое национальное достоинство, которое было втоптано в грязь Версальским договором. Разве позорно сегодняшнее воодушевление вашего советского народа? Разве смогли бы вы без него строить социализм, решать колоссальные задачи, вот как эта плотина?
– Все зависит от идеи, на которой базируется это самое воодушевление. Что касается Германии, то там социальный психоз прочно стоит на нацизме, то есть на вещах крайне реакционных, которые проповедуют Гитлер и компания.
– Неправда, – вспылил Крюгель. – Нельзя смешивать немецкий народ и гитлеровцев. Мы, социал-демократы, всегда решительно выступали против подобных инсинуаций. Немецкий народ не пойдет за Гитлером, не поддержит его расовых и реваншистских идей, милитаристских мероприятий. Нет и еще раз нет!
Затягиваясь папиросой, Шилов с любопытством поглядывал на разошедшегося всерьез инженера. Он, конечно, запросто мог опровергнуть наивные и давно устаревшие социал-демократические догмы. Мог бы рассказать, насколько легко удалось решить Гитлеру даже такую, казалось бы, нереальную проблему, как введение новой административной системы, которая упраздняла традиционные Саксонию, Пруссию, Баварию, Силезию и вводила сто территориальных округов (против этого тщетно конфликтовал даже Герман Геринг!). Или припомнить восторженно орущие толпы берлинцев в сентябре тридцать четвертого, когда состоялся грандиозный спектакль официального вступления Адольфа Гитлера на пост президента. Во время работы в Германии он многого насмотрелся, а еще больше наслушался на так называемых деловых бирабендах. Он отлично знал истинную ситуацию в Германии, но, к сожалению, пока не знал подлинных настроений собеседника.
– А что вы скажете насчет недавней оккупации Рейнской зоны? – Шилов наблюдал, как брезгливо морщился Крюгель от папиросного дыма, и это его забавляло. – И в частности, о речи Гитлера в театре Кролля? Помните, газеты подробно писали об этом?
– Речь фюрера была глупой и невежественной, а угрозы и хвастовство просто беспардонны, – горячился Крюгель. – И все-таки возвращение Рейнской зоны в лоно матери-Германии есть справедливый шаг. Это убедительно показал и проведенный там плебисцит.
– Но это же первый шаг к войне. И он уже сделан. Теперь вскоре последуют другие шаги.
– Нет, нет! Немецкий народ не будет воевать. Он жаждет восстановления справедливости, возвращения Германии незаконно отнятого. И на этом он поставит точку.
– Уверяю вас, для Гитлера это только разбег, проба сил. Дальше – война. Он пойдет сюда, на Восток. Вспомните его клятвенную «Майн кампф».
Откровенно говоря, затянувшийся спор стал уже надоедать Шилову – все это было на уровне чистой декларативности, в пределах, дозволенных иностранному специалисту, каким был Крюгель. Наивно было бы рассчитывать на его искренность, да еще при первой же встрече. Он, конечно, гнул и будет гнуть свое: убежденный социал-демократ, последовательный националист – не более. Пожалуй, пора было закруглять, для начала вполне достаточно.
В общем-то, Ганс Крюгель ему нравился: крепкоголовый, самоуверенный немец. По внешности – типичный баварец.
– Вы из Баварии?
– Нет. – Крюгель несколько удивился повороту в разговоре. – Я родился и вырос в Магдебурге. Город знаменитого фарфора марки «двух мечей». Именно у нас, в нашем соборе, похоронен император Оттон Первый. Вы бывали в Магдебурге?
Шилов кивнул, сразу вспомнив древний готический собор и рядом в палисаднике – памятник негру – слуге германского императора.
– Насколько я помню, Магдебург – это и город Мартина Лютера?
– О да! Великий Лютер – мой земляк. Он учился в нашей школе.
«Черт его знает… – невесело подумал Шилов. – Стоит ли сразу раскрывать ему карты? Немцы – народ упрямый, настырный и безжалостный, протяни ему палец, запросто оттяпает и голову. Впрочем, удочку закинуть все-таки надо, а что последует дальше – поплавок покажет».
Он сорвал какой-то блеклый цветок с жесткими кожистыми листьями, растер его в ладони, подивился сильному незнакомому запаху. Вскользь бросил:
– Между прочим, вам просил передать привет ваш давнишний берлинский друг Хельмут Бергер.
Крюгель вздрогнул, рывком повернулся, заметно побледнел. В глазах – не радость, скорее, неприятное изумление, испуг. Впрочем, этого и следовало ожидать.
– Да, я его знаю, – медленно, жестко произнес Крюгель. – Но он мне вовсе не друг.
– Странно, – усмехнулся Шилов, – а он утверждал другое.
– Я вместе с ним учился в школе. Но никогда не разделял его взглядов. Хельмут Бергер – оголтелый нацист, фашист, как сейчас говорят. Более того, он подвизался в штабе Эрнста Рема, главаря штурмовиков. Поэтому я не нуждаюсь в приветах Бергера.
«Неужели он откровенен? – подумал Шилов. – Правда, Крюгеля именно таким и рекомендовали: резким, несговорчивым, отклоняющим любые компромиссы. А может, он просто манкирует, опасается провокации? Ну что ж, придется на этом ставить точку. Время покажет».
– Да бог с ним, с Бергером! – рассмеялся Шилов, изумляясь, однако, огонькам ярости в голубоватых глазах инженера. – Напрасно вы горячитесь, забудем о нем: просто случайный привет от случайного человека. А вас, честно признаюсь, я представлял несколько иным – более спокойным и очень солидным. И извините-более старым. Вы превосходно выглядите, просто молодо в свои тридцать шесть лет. Как вам это удалось?
– Я недавно женился, – застенчиво и одновременно слегка хвастливо заявил Крюгель.
– Что вы говорите? Женились? Здесь?
– Вот именно. На местной девушке. Ее зовут Груня, по-русским святцам Аграфена.
– Так вот оно что! Поздравляю от души! Теперь мне понятна некоторая ваша экзальтированность – ведь вы переживаете медовый месяц. Как это здорово, я вам завидую, дружище!
Шилов приятельски хлопнул по твердому круглому плечу инженера, обнял его за талию, и они стали не спеша спускаться вниз, к рабочему поселку, к ближнему бревенчатому бараку, где размещалась контора стройуправления.
Над плотиной затихал дробот перфораторов, наслаивались фиолетовые сумерки, лишь дальние заводи все еще полыхали багряными отблесками.








