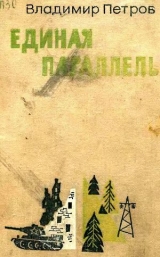
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
«Начальник караула ко мне, остальные – на месте!» Вот он и идет к тебе, приближается, нацелив налитый кровью глаз. Да еще ощерится: «Ты меня зовешь – вот он я».
Потом возьмет и скажет: «Опусти ружье, не мандражируй! И стой смирно». Будешь стоять, куда же денешься…
А моторка между тем стрекотала в стороне от острова. Ага, причалила к противоположному концу плотины – зачем бы это? Кажется, кто-то высадился. Вылез на гребень и направился сюда.
Что это за выкрутасы, и почему лодка снова ушла во тьму, в сторону острова?
Уже слышались глухие шаги по бетону, и Гошка мог поклясться, что это идет Корытин: «Ишь ты, хитрюга, задумал из темноты подобраться, проверить!» Вогнал патрон в патронник и приготовился крикнуть: «Стой, кто идет?» Однако – неожиданно шаги затихли и… стали удаляться, причем теперь шаги были другие, явно торопливые, будто Корытин уходил, испугавшись чего-то. Но ведь он даже не успел окликнуть eгo!
Гошка растерянно оглянулся и вдруг увидел сзади, на прибрежном бугре, рядом с бараком управления, три смутных силуэта: отсюда, снизу, они вырисовывались на фоне неба, чуть оплавленные слабым лунным светом. Значит, вот кого увидел Корытин!
А внизу, у среза плотины, лихо пришвартовывалась моторка. Едва заглох мотор, как сразу же вспыхнула спичка и заискрился, затрещал желтый огонек. Гошка, ничего не понимая, метнулся к фаре, щелкнул выключателем и обомлел: в лодке стоял товарищ Шилов с горящим бикфордовым шнуром в руках!
Увидев Гошку, он обезумело вытаращил глаза и упал на колени, пытаясь сунуть шнур между полосатыми картонными ящиками.
Но в это время откуда-то сбоку гулко хлопнул выстрел.
29
В Черемше третьи сутки шел обложной дождь…
А над Испанией с прежней летней щедростью ярилось солнце, обливая позолотой новенькие крылья «юнкерсов», идущих в пике на кварталы республиканской Барселоны; равнодушно поблескивало на плексигласе горящего советского «чатоса», сквозь который было видно окровавленное мертвое лицо пилота – добровольца из Калуги.
В Берлине подметали афишный мусор вокруг Олимпийского стадиона и подсчитывали валютную выручку, тщательно дезинфицируя отели, где проживали зарубежные спортсмены. Газеты вспухали новым приступом антисоветской злобы, пестрели дешевыми комплиментами в адрес плосколицых «сынов богини Амотерасу», отбросив и забыв предупреждение кайзера «не иметь ничего общего с желтой и черной расами».
Готовился антикоминтерновский пакт, готовился Нюрнбергский фашистский съезд-партайтаг, тот самый, на котором Адольф Гитлер, имея в виду нападение на Советский Союз, провозгласит, захлебываясь в крике: «Мы готовы в любой момент! Я не потерплю!» А в одной из имперских канцелярий на Вильгельмштрассе готовилось личное дело на новоиспеченного обер-лейтенанта Ганса Крюгеля – инженера военно-строительного ведомства Тодта, специалиста по «русскому Востоку»…
В Москве было облачно, временами шел дождь, температура в пределах нормы – двухмесячная жара завершилась осенним спадом. В Колонном зале заканчивался судебный процесс над троцкистскими лидерами, которые долгое время вредили и пакостили, прикрываясь лживыми раскаяниями и фарисейскими заявлениями.
Начался очередной призыв в ряды РККА граждан 1914–1916 годов рождения, на крупных заводах проводились показные учения дружин МПВО, газета «Правда» ввела постоянную рубрику: «Фашизм – это война».
А в Черемше держалась «падера» – разверзлись хляби небесные. Кержацкая щель дожевывала постные госпожинки и встречала третий спас – нерукотворного образа. Но без обычного подъема: в тяжкой хвори денно и нощно кряхтела уставница Степанида, беспрестанно шепча запекшимися губами молитву-заговор: «Марья Иродовна, приходи ко мне вчера…».
Из тайги вернулся милиционер Бурнашов с пятеркой комсомольцев, изодранные, исцарапанные, измочаленные до нитки, – дым стоял над запаренными крупами коней. Корытина не перехватили – ушел, варнак двужильный. И милицейский Музгарка, наученный следу, не помог: какой там след, когда вся тайга водой взялась, не поймешь, где небо, где земля.
Мокли на кержацкой околице яровые обжинки, заготовленные для молодежных утех на Наталью овсяницу, в рабочей столовке потягивали пиво глазастые загорелые парни в кожаных куртках, приехавшие ночью из города вместе с новым начальником строительства. Его никто еще не видел, но передавали, что он бритоголов, крут, разговаривает басом и не терпит курящих. Пустили даже слух, что он будто бы из кержаков, только не из местных, а из бухтарминских.
А еще поговаривали, что имя бывшего начальника инженера Шилова всплыло на московском процессе и поэтому будет непременно пропечатано в газетах с другими наймитами и врагами народа. Однако проверить это было трудно, потому что свежие газеты в Черемшу поступали не часто, а в тех, что привезли с собой «кожаные ребята», фамилию Шилова не нашли.
На четвертые сутки со Старого Зимовья приехал дед Липат и привез бочку свежего, только что намаханного меду. Это значило, что ненастье кончается. Дед Липат чуял перемену погоды не хуже таежных муравьев. Медом он торговать не стал, а сдал всю бочку в столовую по коммерческой цене, потом в сельмаге купил белую рубашку, шевиотовый костюм и китайские пляжные туфли-тапочки: дед собирался помирать нынешней осенью.
В Кержацкой пади Липат, как и обычно в прошлые редкие свои визиты, поругался с кержацкими старостами, наведался к больной Степаниде и сказал, что за лечение не берется – поздно. Уже к вечеру на конном дворе он сдал под бумажку казенную лошадь и пешком отправился на свою заимку, так и не пожелав увидеться с Гошкой: он считал, что парень вовсе сдурел, согласившись на пост начальника ВОХРа, пусть хотя бы и временно.
Ночью вызвездило и похолодало, в мокрых логах пухли стылые туманы, а огромная гладь водохранилища сделалась полированно-стеклянной, перерезанной надвое небесной пастушьей дорогой. У самой плотины плавал в воде нечеткий рогулистый месяц, похожий на размазанную в тетради запятую.
Утром, при первом солнце, пошла парить тайга… Голубые, сиреневые, лазоревые столбы поползли вверх, стоймя, торчком подымаясь к небу, высасывая мокроту из набухших пихтачей и осинников. Заискрилась, замельтешила брызгами Черемша, будто выдра, отряхнувшая на берегу влажную шкуру.
В сельсовет пришел Устин-углежог и сказал, что ему осточертело прокисать в этой зачуханной Кержацкой щели – пущай нарезают пай и выделяют участок для дома на Новозаречной улице, он будет сегодня же завозить камень для фундамента.
От углежога пахло свежей гарью, как от головешки, только что залитой водой. Вахромеев ему сказал:
– Один начинать будешь, стало быть…
– Почто один? – насупился Устин. – Егорка Савушкин уже застолбил. Да со мной еще два артельщика-углежога тоже порешили. Однако скоро подойдут. А ты, брат, готовь бумаги на всех, на всю улицу.
– Это зачем же? – не понял Вахромеев.
– А затем, что нонче в день всю улицу застолбят, попомни мое слово. – Ухмыляясь, Устин поковырял пальцем в заросшем ухе. – Кержаки – подражательный народ. Ты ему только протори стежку – враз толпой кинутся. Каждый боится: как бы не обделили, не обошли – вот оно что. Понял, председатель?
– Сомневаюсь… – покачал головой Вахромеев.
– Может, на четверть ударим? – Углежог протянул ладонь, черную и широкую, как печной совок.
Вахромеев отступил, отшутился, дескать, дело не в споре, а в истине, в справедливости. Он ведь не о себе думает, а о людях. Вон зима на носу, и ежели решаться на переселение, то именно сейчас – потом поздно будет. Ну, а насчет того, чтобы поставить четверть, он никогда не против – была бы веская причина.
– Правильно говоришь, – одобрительно прогудел углежог. – Вот мы тебя и уважаем: за людей болеешь. Ты, поди, думаешь мы не понимаем, куда нас, кержаков, советская власть зовет? Все понимаем. Только таких крепких мужиков, как Савватей, с ходу не обойдешь, на мякине не объедешь. А они народ в кулаке держат. Ну да и мы не лыком шиты – тоже кое-чего могем. Так что готовь ордера на переселение – верно говорю.
Дядька Устин непривычно расшевелился от такой длинной речи, хотел было напиться, но, повертев в руках хрупкий стакан, отчего-то не стал в него наливать – поставил обратно на стол.
– Болтают, будто плотину хотели взорвать. Ай брешут?
– Пытались, – сказал Вахромеев. – Да не вышло.
– От варнаки, язви их в душу! Говорят, ты их споймал, та ишо Гошка Полторанин? Верно?
– Было дело.
– Ит-ты! – Углежог изумленно помотал лохматой головой. – А я того Гошку маненько, стало быть, причесал на троицу… Он ведь, Гошка, шебутной. А так ничего парень. Нашенский, кержацкий. Ну дак я побег, давай свою бумажку.
Вахромеев проводил его во двор и там, у крыльца, встретил еще двоих углежогов-кержаков из Устиновой артели. Эти вели себя деловито и собранно, никаких вопросов не задавали, видать, все у них уже было обдумано, определено, да и торопились – их на улице ждала грузовая телега-бричка.
После выданных трех ордеров Вахромеев в приподнятом настроении осанисто расположился за председательским столом и, покуривая, поглядывая через окно во двор, стал ждать: кто там следующий? Однако прошло полчаса, и народ явно валом не валил, похоже, Устиново пророчество было замешено на обыкновенном бахвальстве.
Вдруг, углядев что-то вдали на склоне Березового седла, председатель вскочил, схватил со стола ведомость с ордерами, на ходу бросил бумажки перед носом изумленной паспортистки и выбежал во двор. Отцепив от коновязи повод, махнул в седло, галопом погнал мерина.
Дорога по крутому склону виляла петлями: от одного дальнего лога к другому, будто впопыхах брошенная, нераспрямленная веревка. А тот, кого догонял Вахромеев, шел прямой тропкой, срезая углы-повороты.
Они встретились уже у самого перевала, где в редком низкорослом листвяжнике тропа снова выходила на дорогу, – присаживая каблуками Гнедка, Вахромеев сумел-таки на последней петле опередить и первым выскочить к седловине.
Она была в том же стареньком сером платье, в каком он встретил ее первый раз – еще тогда, в Авдотьиной пустыне. За спиной – дорожная торба, а в руке – модная красная сумочка, которую она зачем-то купила несколько дней назад (может, уже тогда собиралась уходить?). Именно эту сумочку он сразу увидал из окна сельсовета: будто запоздалый цветок марьина коренья вспыхнул на склоне горы.
Монашка с мамзельской сумочкой. Чудная девка…
Появлению Вахромеева она не удивилась: видела, как он гнал лошадь по серпантину, как мелькала в пихтачах его выгоревшая гимнастерка.
– Шальной ты, Коля. Гляди-ка – коня запарил.
Вахромеев ничего не сказал, спрыгнул на землю, пошел рядом, тяжело переводя дыхание, словно не на лошади, а пешей рысью сам отмахал эти несколько километров.
Он шел и с каждым шагом ощущал нараставшее холодное жжение в груди – как в детстве, когда однажды наглотался сосулек и полдня стынул, маялся горлом перед тем, как надолго до беспамятства заболеть. Как и тогда, медленно меркнул свет в глазах, утрачивая краски и четкость. Унылым, серым, плоским становилось все окружающее.
Тряхнул головой, взглянул вверх и понял: легкая одинокая тучка задернула солнце. Невесело подумал: может, и у него будет так же – ненадолго, временно?
– Чего молчишь? – усмехнулась Фроська. – Торопился, лошадь было не загнал, а теперь язык отнялся. Ну спрашивай.
– А! – Вахромеев в отчаянии махнул рукой: чего спрашивать-то? И так все ясно. Он слишком хорошо знал ее, чтобы не задавать бесполезных пустых вопросов, не уговаривать, не умолять: то, что она решила, то будет только так и не иначе. А она конечно же решила…
– Рассчиталась на стройке?
– Не. На что мне расчет? Деньги получила – позавчера получка была.
– Где тебя искать-то?
– А нигде. Считай, что меня нет.
– Может, напишешь?
– Нет. Я же сказала: нету меня.
На перевале остановились. Фроська сдернула платок, подставив ветру разгоряченное лицо. Тяжелая тугая коса, упруго вздрагивая, упала на спину.
– В летчики ухожу, Коля. Светлана звала, вот и адресок у меня тут, в сумочке. Учиться буду, в мотористы сперва пойду. А уж потом – в небо махну. Ты, поди, не веришь?
– Верю… – сумрачно вздохнул Вахромеев. Уж он-то знал: задумает – сделает. Не девка – веретено кедровое.
– Ты, Коля, не серчай, и плохо про меня не думай. Для нас обоих так нужно, ты это пойми. Ступай домой, у тебя жена, дочка… А я половинками жить не умею и не хочу. По мне – либо все давай с горкой и присыпкой, либо – не надо ничего. Обойдусь, проживу.
Ни слез не было, ни вздохов – только короткий прощальный поцелуй. Сухим, горьким показался он на каленом ветру…
Ее легкая фигура уже скрылась за поворотом, а Вахромеев все так же изумленно и растерянно оглядывал окрестный листвяжник, кое-где забрызганный первой желтизной, будто старался навсегда запомнить это пустынное место, где так внезапно резко повернула его судьба, начисто оборвав вчерашние радости и надежды…
А слева, внизу, его ждала Черемша – неугомонная, прилипчивая, сварливая и добрая, полная людской суетности и припрятанных подвохов. Ленивая по утрам, буйная по праздникам, песенная и ласковая теплыми летними вечерами. Она даже не звала его, уверенная в том, что он, Кольша Вахромеев, от роду и до самой смерти принадлежит только ей и что дальние дороги для него заказаны навсегда. Она просто ждала.
Он обернулся, равнодушным взглядом окинул пестрые ряды крыш и вдруг уловил какую-то перемену в давно привычном пейзаже: что-то вроде бы сместилось или добавилось лишнее?
Радостно вздрогнул, сообразив, в чем новизна: пустое раньше Заречье жило муравьиной суетой. От самого моста и до Касьянова луга пестрели бабьи сарафаны и мужские рубахи, несколько телег вытянулось вдоль будущей улицы, а с краю, неподалеку от лесопилки, синими хлопьями дыма поплевывал гусеничный трактор.
Зашевелилась Черемша, тронулась Кержацкая падь!
Вахромеев представил прямую будущую улицу и подумал, что она развернется в строгом створе с самой плотиной, словно рожденное ею продолжение, вечный живительный корень, уходящий в зеленое буйство тайги…
Будут шуметь ветры, падать и таять снега, придут тяжкие дни лихолетья, но люди окажутся сильными, выстоят и выдержат все, потому что загодя копили годами силу, спрессовывая ее в граненых глыбах таежных скал.
Они думали о будущем и оставили этот след в завтрашний день.
Часть вторая
ОПЕРАЦИЯ «РУМЯНЦЕВ»


«И бысть сеча зла…»
Летопись
Пришел день, когда дрогнула, заколебалась чаша весов Истории.
Это случилось в июле тысяча девятьсот сорок третьего года в самом центре России, на знаменитой Курской дуге, которая гигантским коромыслом полгода держала на весу накапливающуюся боевую мощь противоборствующих сторон: в районе Белгорода – на одном конце, у Орла – на другом.
Здесь были сосредоточены лучшие дивизии во главе с лучшими генералами, самая новейшая боевая техника и самая грозная артиллерия. Советской обороне, местами глубиной до трехсот километров, противостояли немецкие танковые армии, те самые, что стальными лавинами неудержимо рвались на восток летом сорок первого и подошли чуть ли не к стенам самой Москвы. Они и сейчас, нацеленные на Курск, как на Ногинск два года назад, занимали свои традиционные фланги клещей.
Оберкомандовермахт[9]9
Верховное главнокомандование немецко-фашистской армии.
[Закрыть], согласно приказу фюрера, начинало решающую битву войны – детально спланированную, всесторонне подготовленную операцию «Цитадель». Она должна была завершиться окружением и разгромом войск наиболее сильных Центрального и Воронежского советских фронтов и в последующем перерасти в операцию «Пантера» – с выходом немецкого танкового клина на оперативный простор.
В бункерах «Вольфшанце»[10]10
«Волчье логово» – ставка Гитлера в Восточной Пруссии, в районе Растенбурга.
[Закрыть] хорошо были осведомлены о мощи советской обороны, о крупных, технически оснащенных, группировках Красной Армии, о ее стратегических резервах в ближайшем тылу. Но тем лучше – значит, больше будет перемолото советских дивизий: фюрер жаждал реванша за Сталинград.
Полководцы вермахта стремились получить генеральное сражение, как когда-то Наполеон стремился к Бородино. С той лишь разницей, что они не задумывались над уроками прошлого, они даже как следует не знали, зачем им, собственно, новое Бородино?
Они уже забыли, что всего лишь полтора года назад было Московское сражение, после которого растеряли свои чины и звания более сотни генералов, в том числе главнокомандующий сухопутными войсками фельдмаршал Браухич, они успели забыть колокольный звон по Сталинграду, «Готтердеммерунг», «Их хатте айн Камераден»[11]11
«Гибель богов», «Был у меня товарищ».
[Закрыть] и похоронные марши Зигфрида – все это еще недавно транслировало германское радио.
Они рвались в решающую битву, которая должна была переломить затянувшуюся войну, четко, раз и навсегда определить ее исход. «Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира», – велеречиво гласил приказ фюрера, не уточняя, однако, что факелы имеют разное предназначение, в том числе и в похоронных процессиях.
В самый канун битвы, безросной июльской ночью, советские разведчики приволокли в траншею «языка» – немецкого солдата-сапера, который проделывал проходы для танков в минном поле.
– Эс бегинт ум цвай ур Берлинер цайт![12]12
Это начнется в два часа по берлинскому времени.
[Закрыть] – ухмыльнулся немец и выразительно показал на циферблат: оставалось полтора часа.
– Врешь, фриц! – сказал советский комбат. – Оно начнется по московскому времени.
Спустя некоторое время ураганный шквал контрподготовки обрушился на немецкие позиции, на солдат и танковые колонны, изготовившиеся к наступлению.
Багровое зарево «катюш» известило мир: исторический час пробил.
1
Полковник Ганс Крюгель давно не видел ничего подобного: исковерканные, вспаханные снарядами поля источали трупное зловоние; казалось, само чрево земли, зеленовато-черное в рассветных сумерках, разлагалось, вспоротое плугом войны.
Трофейный «додж» медленно полз по проселку, шофер-ефрейтор, высунувшись из-за ветрового стекла, старался не соскользнуть с проторенной колеи – по обочинам еще полно было русских мин.
Шел восьмой день «великого наступления». На северном фасе, у Орла, в полосе девятой армии, оно уже захлебнулось – «лев обороны» генерал Модель безуспешно бросил в бой две последние резервные дивизии. Здесь, на обоянском направлении, кажется, намечался долгожданный успех.
Впрочем, обстановка прояснилась только вчера, после прорыва к Прохоровне танкового корпуса СС генерала Хауссера. А до этого несколько суток танковые дивизии Гота и Кемпфа тщетно пытались ликвидировать так называемый Донецкий треугольник в междуречье Липового и Северского Донцов, где упорно вросла в землю русская армия – ею командовал генерал с труднопроизносимой фамилией Крюченкин.
Треугольник острием своей обороны будто расщепил танковый клин и застрял, подобно кости в собачьей пасти, разъединив наступающие колонны четвертой танковой армии и оперативной группы генерала Кемпфа. Но теперь, как сообщают, эсэсовский корпус заходит в тыл русскому треугольнику, отрезая его от фронта. А левее устремился на Обоянь брошенный Готом в прорыв танковый корпус генерала Кнобельсдорфа.
Сегодняшний день должен решить многое – не случайно генерал-полковник Гот, командарм опаленной Сталинградом «четвертой танковой», прибыл в передовые колонны наступающего эсэсовского корпуса. «Готт мит унс»[13]13
«С нами бог!» – девиз, начертанный на немецких солдатских пряжках. Здесь – игра слов («Готт» – по-немецки «бог»).
[Закрыть] – шутливый пароль ветеранов «четвертой» Крюгель уже слышал час назад на понтонной переправе.
Он с облегчением вспомнил об оставшейся позади переправе, потому что вдали, слева в рассветной дымке, пластались над самой землей черные хищные силуэты советских штурмовиков, шедших на первую бомбежку.
Солнце еще не взошло, но его тягучий, матово-серебристый свет падал отраженным от высотных облаков, и это временами напоминало мертвенную призрачность лунной ночи. Росы не было, над проселком лениво тянулся пыльный хвост.
«Додж» остановился у опушки небольшой дубравы: часовой-танкист потребовал пароль. Затем эсэсовец без особых церемоний велел оберсту выйти из машины и предъявить служебные документы. Просматривал он их долго, нарочито дотошно.
Крюгель, разминаясь, оглядывал рощу, напичканную танками, как спелый подсолнух семечками. Дубняк, конечно, маскировал плохо, потому что весь был иссечен осколками, искорежен взрывами – вчера тут шли бои. Лесом и не пахло, несло бензиновой гарью, остывшими снарядными гильзами. И еще чуть слышно доносился запах кофе – танкисты, вероятно, завтракали.
Вспомнив про свой термос, полковник полез было за ним в машину, но удивленно замер: совсем рядом, громко и чисто, по-деревенски задорно прокричал петух. Откуда он здесь?
– Любимец нашего командира полка! – усмехнувшись, пояснил часовой. – Сопровождает нас от самой Франции и ни разу не ранен. Прошел всю кампанию в командирском танке. Кстати, майор Бренар вас пока не может принять.
– Почему?
– Он бреется.
– Но у меня срочное дело! – возмутился Крюгель.
– Ничем не могу помочь, господин оберет. – Часовой лениво тряхнул на груди «шмайсер». – Десять минут ждать, таков приказ.
Спорить с этим белобрысым молодчиком не имело смысла, тем более как часовой – он прав. Крюгель налил себе кофе из термоса, достал бутерброд и расположился на пеньке позавтракать, чтобы не терять попусту время.
В который раз за эти два военных года ему опять пришла мысль о неисповедимости судеб и путей человеческих… Зачем и почему он здесь? Не вообще в России, которой когда-то помогал строить будущее, а, в частности, тут, на лесной меже, средь перепаханного войной, огромного страшного поля, угнетающего взор библейской пустынностью. Зачем здесь эти замызганные танки с налипшей кровью на траках, этот дерзкий юнец с вороненым автоматом и галльский петух с его тоскливым криком, напоминающим «глас вопиющего в пустыне»?
Высоко в небе, освещенный солнцем, шел самолет-разведчик «Дорнье» – в ясной голубизне за ним тянулся едва заметный белесый след. Крюгель поднял голову, равнодушно вгляделся и вздрогнул: совершенно неожиданно, прямо на глазах, самолет вдруг взорвался – очевидно, от прямого попадания зенитного снаряда. Вспух черно-оранжевый шар, беспорядочно кувыркаясь, вниз полетели обломки…
– Капут! – сплюнул часовой. – Еще один минус команде генерала Деслоха[14]14
Командующий 8-м авиакорпусом, поддерживающим ударную группировку Гота.
[Закрыть].
Крюгель с искренним сожалением, даже с горечью подумал, что вот именно такая картина должна была произойти в небе под Смоленском ровно четыре месяца назад. И не произошла… К великому несчастью человечества.
Самолет, которому надлежало так же неожиданно и внешне беспричинно взорваться в воздухе, взлетел в пятнадцать часов с военного аэродрома в Смоленске. На его борту находился Адольф Гитлер в окружении адъютантов – он возвращался в «Вольфшанце» после посещения штаба группы армий «Центр». Это было тринадцатого марта. И именно в этот день, благополучно вернувшись в ставку, Гитлер вечером подписал пресловутую директиву № 5, которая стала истоком операции «Цитадель».
Курской битвы, этого танкового Бородино, могло не быть, если бы вовремя сработала подложенная в самолет специальная химическая мина…
Ганс Крюгель тогда впервые близко видел фюрера, буквально на расстоянии штабного стола. Даже стоял рядом, когда Гитлер вручал ему Большой немецкий крест. Потом был трехминутный разговор о строительстве позиции «Хаген» на орловском выступе – полковник Крюгель назначался ответственным по линии инженерно-саперного управления.
Фюрер выглядел предельно усталым: землисто-черное лицо, отекшие веки, дрожащая правая рука, локоть которой он поминутно поддерживал здоровой левой рукой. Тем не менее он был приятно возбужден, все еще находясь под впечатлением вчерашнего большого совещания в «Вольфшанце»: на нем обсуждались перспективы новой летней кампании на Востоке.
«Какие могут быть перспективы?» – с недоумением думал Крюгель, слушая вместе с другими награжденными офицерами сбивчивые рассуждения фюрера: летом вернуть все, что потеряно зимой, нанести новые сокрушительные удары, подавить новейшей сверхтяжелой техникой… Но особенно удивительной была поговорка, которую фюрер со значительностью повторил дважды: «Русский характер это: рад – до небес, огорчен – до смерти». Психологические крайности! Вот чем надо руководствоваться в вооруженной борьбе с русскими.
«Боже мой, а Сталинград, а недельный траур по нему? – уныло думал Крюгель. – Разве это не явилось смертельным огорчением для немецкого народа?» Трудно было поверить, чтобы этот нахохлившийся, дряблый больной человек, еще несколько лет назад с полной серьезностью заявлял на совещании германского генералитета: «Я – незаменим! Судьба рейха зависит лишь от меня!»
Главное, что запомнилось от этой встречи: сверлящие беспокойные глаза, взгляд которых невозможно было выдержать. В них виделась опустошенная смятенность.
Несмотря на полученную награду, полковник Крюгель имел основание на равнодушие, даже на критический взгляд: он знал, что через несколько часов в самолете главнокомандующего произойдет взрыв. Он шел к этому известию несколько лет, начиная с тридцать девятого года, когда старое социал-демократическое руководство во главе с Герделером взяло его на учет, включив в тайную оппозицию гитлеровскому режиму.
Правда, по-настоящему оппозиция начала действовать только в последнее время, когда уже выяснилось, что фюрер окончательно зарвался и его восточная авантюра стала совершенно бесперспективной. За спиной оппозиции стояли финансово-промышленные круги, ориентирующиеся на Британские острова, на выход из войны при помощи англичан.
Бомба для фюрера была английского производства, ее-то и подложил в портфеле давний приятель Крюгеля полковник фон Тресков – начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр» (он попросил одного из адъютантов фюрера передать несколько бутылок армянского коньяка близкому другу из штаба оберкомандовермахта).
Но бомба не сработала – на высоте замерз взрыватель…
Два лихорадочных часа провел Крюгель в кабинете фон Трескова, ожидая телефонного звонка – вести о гибели «юнкерса» специального назначения. Потом фон Трескову пришлось срочным самолетом посылать в Растенбург одного из своих офицеров, чтобы перехватить злополучный портфель.
Да, все это было, как его и не было… Словно вспыхнувший нa мгновение огненный шар взрыва в утреннем небе: ни от него, ни от самолета не осталось и следа.
– Ви гейт эс, герр оберст! Энтшульдиген зи! – приветствовал Крюгеля и одновременно извинился командир танкового полка. – Кто вы и что привело вас в это пекло?
Майор был молод, приземист, белозуб, с хорошей, даже чуть щегольской спортивной осанкой – всем этим он явно располагал к себе. Рукава комбинезона закатаны до локтей, как и у часового, – своеобразными прямоугольными складками. В этом, видимо, был стильный почерк эсэсовского корпуса, сразу напомнивший Крюгелю бесшабашную удаль пропыленных солдатских колонн сорок первого года.
Крюгель предъявил штабное предписание: ему необходимо лично видеть командующего армией.
– Это нереально! – Майор снял с головы суконную пилотку, шлепнул ею о ладонь. – Сегодня предстоит жаркий день: мы должны захлопнуть мышеловку и превратить в блин проклятый треугольник. Генерал Гот где-то в передовой дивизии, а где именно – никто не знает.
Опять в дубняке пропел петух: вытянув руладу, оборвал ее на высокой ноте и сердито забормотал, будто выругался облегченно после надсадного крика.
– Слышите: «герр Питер» уже зовет нас в бой! – рассмеялся командир полка. – Он чует кровь и всегда безошибочно предсказывает нам победу.
– Вы уверены в успехе? – осторожно спросил Крюгель.
– А почему бы нет, черт побери! – Майор достал из нагрудного кармана трофейный русский «Беломор», зубами прямо из пачки вытянул папиросу, щелкнул зажигалкой. Все это с подчеркнутой легкой небрежностью. – Даже при теперешнем нашем состоянии я не сомневаюсь в успехе. Хотя за эти дни у нас выбита половина танков. Сотня танков осталась на дивизию, представляете?
– Маловато… – посочувствовал Крюгель.
– А все потому, что мы или разучились воевать, или в штабах сидят невежды. Да, да, это я говорю вам, как представителю высшего штаба! Где видано, чтобы танки прорывали оборону? Это дело пехоты, а танки предназначены для ввода в прорыв и развития успеха. Азбучная истина, доннер веттер!
– Возможно… – Крюгеля несколько смутила чрезмерная напористость танкиста. – Но, очевидно, пехотных частей не хватает. Это, во-первых. А во-вторых, подвергать критике приказы высшего командования…
– А, бросьте валять целомудренника, оберст! – Майор опять с дерзким смехом хлопнул пилоткой о ладонь. – Ведь вы боевой офицер – я вижу по наградам. И наверно, еще помните славное утро «Дортмунда»[15]15
Пароль в час нападения гитлеровской Германии на СССР.
[Закрыть]? Угадал?
– Верно. Я начинал у Белостока.
– Так зачем же кривить душой нам, старым фронтовикам? Я эльзасец и горжусь своей прямолинейностью. Я люблю воевать, как когда-то любил мотоциклетные гонки. Но, черт возьми, давайте же воевать грамотно! Зачем бросать нас, танковую гвардию, на минные поля и противотанковые пушки?
– Война – это сплошной узел неожиданностей.
– Конечно. Но вы для того и сидите в штабах, чтобы предусмотреть их, предвидеть. На то вы и называетесь оперативными работниками.
– Но я, между прочим, не оператор, а инженер-строитель.
– В самом деле? Так какого дьявола мы спорим с вами, оберст? – Танкист удивленно вытаращил черные, навыкате глаза, расхохотался. – В таком случае идемте, я предложу вам завтрак. И постараюсь связаться с командующим по телефону.
Командир полка цепко ухватил Крюгеля под локоть, повел к себе, попутно объясняя, почему именно он недолюбливает, даже не терпит «этих чванливых пройдох-операторов из высших штабов». Они учат тому, чего не умеют делать сами.
У майора-танкиста, как и у его галльского любимца «герра Питера», оказался задиристый, истинный петушиный нрав – в этом Крюгель воочию убедился, как только они спустились в командирский, наспех оборудованный блиндаж. Не успел Крюгель опорожнить солдатский котелок, а Бренар уже переругался с полдюжиной штабных телефонистов и вышел на командующего армией.
Телефонную трубку на длинном выносном шнуре майор не передал Крюгелю, а легко и небрежно бросил – точно в руки, как перебрасывают друг другу кегли опытные партнеры.
– Говорите, оберст! Генерал Гот у аппарата.
Слушая полковника Крюгеля, командующий раздраженно пыхтел в трубку (слышимость была отличной). Затем хрипло и резко сказал:
– Чепуха! Если вы приехали инспектировать оборонительные позиции, так меня они вовсе не интересуют. Тем более на харьковском направлении – я не собираюсь туда возвращаться. Совсем не собираюсь, вы слышите, оберет? Я завтра буду в Курске. Вам понятно?
– Яволь, герр генерал!
– В таком случае нам не о чем больше говорить.
– Но господин генерал! У меня пакет от начальника инженерно-саперного управления генерала Якоба. А в нем, как я полагаю, предписание самого фюрера.








